|
||||
|
Лекция 2. РАННИЙ И СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ СОВРЕМЕННЫЙ «ДИКАРЬ» И ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК ЧТО МОЖЕМ МЫ СКАЗАТЬ О РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕКА? РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА. МУСТЬЕРСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ МЕДВЕЖИЙ КУЛЬТ В СРЕДНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕАНДЕРТАЛЬЦА Лекция 3. РЕЛИГИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА Вступление ПОГРЕБЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА ДУШИ УМЕРШИХ РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ живописи ИДЕЯ БОГА В ВЕРХНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ «ВЕЛИКИЙ КОЛДУН» «ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕНЕРЫ» ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА Лекция 4. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕОЛИТА ТЕОРИЯ «НЕОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» МИСТИКА ЗЕРНА И НАЧАЛО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПОЧИТАНИЕ ПРЕДКОВ И НАЧАЛО ОСЕДЛОЙ ЖИЗНИ МАТЬ – СЫРА ЗЕМЛЯ «НЕЗНАЕМЫЙ БОГ» НЕОЛИТА СВЯТИЛИЩЕ И XPАM «МИР МЕРТВЫХ» И «МИР ЖИВЫХ» ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ Лекция 5. МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ КУЛЬТУРА «БОЛЬШИХ КАМНЕЙ» ЗАЧЕМ ВОЗВОДИЛИСЬ ПОСТРОЙКИ ИЗ «БОЛЬШИХ КАМНЕЙ» «ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ» «СОВИНОГЛАЗАЯ БОГИНЯ» OTE Ц НЕБЕСНЫЙ КОНЕЦ МЕГАЛИТИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ Часть I. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА Лекция 2. РАННИЙ И СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ В XIX веке практически любой научный факт рассматривался в обществе под углом зрения его соотношения с религией. Это была эпоха, когда европейский человек стремился разорвать свои связи с Церковью и Богом и искал в бурно развивавшейся науке доводы в пользу законности своих желаний. Те, кому была дорога старая добрая христианская вера, напротив, относились к каждому открытию в естественных науках с большим сомнением и часто – с враждебностью. Им также казалось, что научное знание становится враждебным их вере. Священная книга христиан – Библия, с первых же глав вводит читателя в тайну создания человека: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему ‹…› и сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. [Быт. 1.26-27] «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» [Быт. 2.7]. Эти, известные каждому образованному европейцу с детства строки Священного Писания, казалось бы проводили непереходимую грань между человеком и всем прочим творением, которое никогда не называлось ни «образом» ни «подобием» Творца. Именно желая разрушить «религиозные предрассудки», французские просветители XVIII века настаивали на том, что человек произошел от обезьяны, вышел из животного мира. Научный, зоологический анализ этой возможности предложил в 1809 году в своем известном труде «Философия зоологии» французский ученый Жан Батист Ламарк [31]. Ему принадлежит мысль, что при определенных природных обстоятельствах высшие обезьяны могли обрести способность ходить на двух конечностях, получить «человеческую» стопу и кисть руки, человекоподобное лицо вместо морды зверя. Когда «Философия зоологии» вышла в свет, Франция вела победоносные войны против старой христианской Европы. Но Европа победила революционную «безбожную» империю Наполеона. На континенте началась борьба с революционной заразой. Взгляды Ламарка подверглись осуждению коллег и Церкви. Однако свободомыслие исподволь разрасталось. И когда в 1856 году близ впадения реки Дюссель в Рейн в долине Неандер были обнаружены какие-то странные человеческие кости, ряд ученых объявили их останками человека вымершего типа. Так предположил первый исследователь скелета Иоганн Карл Фульротг, так считал и анатом Шаафгаузен, сделавший сообщение о находке весной 1857 года на съезде естествоиспытателей в Бонне. Но как совместить эту находку с верой, что Бог сотворил человека «по Своему образу и подобию»? Разве мог считаться такой «примитивный» древний человек «образом» Творца? Одни ученые радовались находке, видя в ней аргумент в пользу происхождения человека от обезьяны, а не «от Бога», другие были весьма смущены. В 1861 году Кинг описал обнаруженный скелет как особый вид человека Homo neanderthalensis. Однако изучивший в 1872 году останки неандертальского человека берлинский профессор, всемирный авторитет в патологоанатомии Рудольф Вирхоф объявил, что речь идет о скелете обычного человека, но страдавшего с детства рахитом, а под старость мучавшегося еще и подагрой. Наложившись друг на друга эти болезни деформировали кости старика, найденные в долине Неандера. Имя Вирхофа на время угасило споры. Аргументы против уникальности человека были разбиты. Впрочем, ненадолго. В 1887 году в пещере Бек-о-Рош около Спи (Бельгия) Марсель де Пюид, Жан Фрэпон и Макс Лоэст обнаружили останки двух человек безусловно «неандертальского» типа. Скелетам сопутствовали грубые каменные орудия и кости ныне вымерших в Европе животных – мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных медведей. Если люди из Бек-о-Рош и страдали рахитом и подагрой, то болели они много тысяч лет назад, когда в Европе был иной климат. Но не слишком ли много больных? В результате тщательных исследований и новых находок к началу XX века было безусловно определено, что много десятков тысяч лет назад в Европе жили люди иного, ныне исчезнувшего вида, отличавшиеся от людей современных рядом черт, которые ставят неандертальца анатомически ближе к животному миру, нежели Homo sapiens. Сторонники естественного происхождения человека ликовали. Неужели обезьяноподобный неандерталец тоже «образ Божий», спрашивали они, а ежели нет, то тогда и современный человек, развившийся из неандертальца, к Богу не имеет никакого особого отношения. Кроме того, если даже мы и согласимся, что ныне на Земле нет дорелигиозных племен, продолжали ученые палеоантропологи, то нельзя же серьезно утверждать, что и «ископаемые люди», неандертальцы, имели веру: Они жили по законам дикой природы, не знали семьи, собственности, одержимые заботой прокормиться, согреться, удовлетворить половые инстинкты. Их мозг еще не был способен подниматься до таких высоких абстракций, как религия, она им попросту была не нужна. Сторонники религиозной картины мира или игнорировали находки неандертальца, или отрицали их эволюционную значимость, утверждая, что неандертальцы – это один из народов, живших в Европе всего несколько тысяч лет назад, а кости древних животных попали в ту же пещеру, где покоились их останки, случайно. Иные, напротив, доказывали, что неандерталец – это похожая внешне на человека человекообразная обезьяна. Проблема осложнялась также для верующих людей тем, что по строго библейской хронологии мир был сотворен всего за пять с половиной тысяч лет до рождества Иисуса Христа, и ни о какой эволюции, развитии видов в Священном Писании не сказано ни слова. Но споры спорами, а палеоантропология продолжала ставить одну проблему за другой. Еще в 1868 году немецкий ученый Эрнст Геккель высказал в своей книге «Естественная история сотворения мира» мысль о том, что между обезьяной и человеком должно было существовать какое-то переходное звено, имеющее равное количество общих признаков и с человеком и с высшими обезьянами. Увлеченный гипотезой Геккеля молодой голландский врач Эжен Дюбуа отправляется в 1887 году в Нидерландскую Индию, на остров Суматра, с твердым намерением найти это «переходное звено». Из бесед со столь же увлеченными коллегами он решил, что «обезьяночеловек» мог жить только в тропических странах, где и сейчас обитают человекообразные обезьяны. Удивительно, но дерзкое предприятие Дюбуа увенчалось успехом. После нескольких лет поисков, сначала на Суматре, потом на Яве, он в 1891- 1892 годах нашел верх черепной коробки, два зуба и бедренную кость доисторического человека на берегу реки Соло близ поселка Триниль. Они принадлежали существу намного дальше отстаявшему от современного человека, чем неандерталец. Сам Эжен Дюбуа был убежден, что им найдено как раз «переходное звено», предсказанное Геккелем. В 1894 году он опубликовал обширный труд о своих находках под названием «Питекантроп (греч. ююйизкнисщюпу – обезьяночеловек. – А. З.)прямоходящий – человекоподобная переходная форма с острова Ява*. В научных кругах сообщение было встречено с обычным для всего, что касалось палеоантропологии, восторгом одних и сомнением других. Экспедиция, отправившаяся на реку Соло в 1907 году, по останкам животных, найденных в тех же, что и питекантроп слоях речных отложений, высказала предположение, что возраст находки Дюбуа 500-600 тысяч лет. Сторонники библейской картины мира, казалось бы, были окончательно посрамлены. Однако XX столетие принесло в мир палеоантропологии и иные факты. В 1908 году швейцарец Отто Гаузер около деревни Ле Мустье в долине реки Везеры (Южная Франция) находит первое неандертальское погребение. Если погребение – то значит религия – воодушевляются религиозно настроенные ученые. Нет, это случайность, захоронение вызвано чисто гигиеническими причинами – защищаются теперь приверженцы безрелигиозности неандертальца. Но проходят десятилетия, число находок неандертальских погребений растет; ныне их известно почти девять десятков. «Активная дискуссия вокруг проблемы неандертальских погребений, в конце концов, закончилась их признанием, так как факты, свидетельствующие об этом, слишком демонстративны» – констатирует русский ученый В. П. Алексеев только в 1975 году [32]. Ныне, безусловно, ясно, что неандерталец – это действительно древний, ныне вымерший вид человека, имеющий существенные антропологические отличия от Homo sapiens, и в то же время – это существо, обладавшее системой религиозных представлений. Но и с переходным звеном обезьяночеловека все оказалось сложнее, чем думал Дюбуа. В конце 1920-х годов работавший на Яве палеонтолог Г. Г. Р. фон Кёнигсвальд обнаружил останки еще нескольких питекантропов, которые, безусловно, свидетельствовали о том, что, несмотря на свое название, питекантроп отнюдь не обезьяна, но человек, по крайней мере со сравнительно-анатомической точки зрения. Ныне большинство антропологов относят питекантропа к подсемейству людей (Homininae), но к иному, нежели современный человек и неандерталец роду. Одновременно с фон Кёнигсвальдом другой вид питекантропов открыл под Пекином молодой китайский ученый Пэй Вэньчжун. Найдены были и те пещеры, где на протяжении веков жили эти древние люди. Оказалось, что «пекинский человек» (Pithecanthropuspekinensis – синантроп) знал огонь и активно им пользовался – в пещерах остался многометровый слой золы и следы приготовленного на пламени мяса животных. Кроме того, тщательный анализ стоянок синантропов позволил ряду видных ученых (Карл Нарр, Иоганн Марингер) поставить вопрос о религиозности китайских питекантропов. Вопрос этот не решен и поныне, но совершенно очевидно, что «промежуточным звеном» находка Дюбуа не была. Питекантроп оказался древним, отличающимся от современного многими анатомическими особенностями, но человеком. Ныне его предпочитают называть не обезьяночеловеком, но человеком прямоходящим – Homo erectus, жившим по всему Старому Свету 0,2-1,6 млн. лет назад. Современной палеоантропологии известны находки и еще более архаичного человека, так называемого Homo habilis – человека умелого, обитавшего в Африке 1,5-2,5 млн. лет назад. Он уже изготавливал однотипные орудия из камня, костей животных, дерева, строил круглые хижины (Олдувайские стоянки). Подсемейство Homininae, к которому относятся люди, гориллы и шимпанзе, возникло, судя по данным молекулярной биологии, от общего предка, жившего «всего лишь 6 или самое большее 8 миллионов лет назад». Скорее всего это был Ramapithecus. «Сходство зубов, челюстей и строения черепа с человеческими привела многих специалистов к выводу о том, что Ramapithecusходил на двух ногах, пользовался орудиями труда и являлся прямым предшественником той эволюционной линии, от которой произошел человек» – пишет Дэвид Ламберт [33]. Может быть, «общим предком» человека и высших человекообразных обезьян был и ранний австралопитек (греч. южная обезьяна – Australopithecus), появившийся в Африке 4 миллиона лет назад или даже раньше. Чем больше узнают ученые об австралопитеках, тем больше обнаруживают и в этих древних существах чисто человеческих признаков. Австралопитеки почти наверняка изготавливали каменные орудия, активно пользовались орудиями из кости и дерева, ходили на нижних конечностях, сохраняя вертикальное положение тела. «Преглациальные австралопитеки Восточной и Южной Африки по всей видимости существенно опережали в использовании и создании орудий современных шимпанзе, и у нас остается все меньше оснований пренебрежительно относиться к их умственным способностям» [34]. Если действительно рамапитек и австралопитек – предок гориллы и шимпанзе, то эти их потомки носят на себе следы вырождения в сравнении с «обезьянами», жившими в Африке несколько миллионов лет назад. Спор о происхождении человека, который в XVIII-XIX веках имел существенный богоборческий характер, ныне, с умножением наших знаний о древнейшем человеке, утратил эти «идеологические» ноты. Несмотря на огромное число интереснейших находок мы ныне лучше чем сто лет назад понимаем, что в антропогенезе больше белых пятен, чем безусловных истин. Является ли рамапитек предком австралопитека, австралопитек предком питектантропа, питекантроп – предком неандертальца, неандерталец – современного человека, или ископаемые предки человека в действительности – тупиковые ветви подсемейства Homininae вопрос этот открыт и поныне. Но то, что древнее существо, имеющее с нами по крайней мере семейственное единство, задумывалось о вопросах, выходящих за пределы пропитания и продолжения рода – это теперь почти общепризнанный факт. Другое дело, когда начало задумываться оно об этом, и каков был ход мыслей людей, живших десятки и сотни тысяч лет назад, имевших иную анатомию и меньший объем иначе устроенного мозга. «Но никто еще не смог с определенностью сказать, – точно указывает швейцарский палеоантрополог Карл Нарр, – какие размеры и состав мозга необходимы для развития религиозных представлений» [35]. СОВРЕМЕННЫЙ «ДИКАРЬ» И ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК И по сей день остаются племена, строй жизни которых, видимо, очень сходен с укладом древнейшего человека. Аборигены Андаманских островов, коренные жители Австралии, тасманийцы не знают земледелия и скотоводства, живут собирательством и охотой, пользуются только орудиями из камня, дерева, кости, не ведая ни гончарного искусства ни выплавки металла. Если полагать, что «бытие» человека определяет его «сознание», то надо предположить большое согласие и строя умственной жизни современного андаманца или австралийца с человеком палеолита. Так часто и поступают ученые. «Изучая современных дикарей, – писал, например, Джон Леббок, – мы можем получить правильное представление о человеке в древнейшую эпоху и о стадиях эволюции, через которые прошла наша цивилизация» [36]. «Позволительно восстанавливать некоторые черты доисторических религий, изучая обряды и верования, присущие слаборазвитым охотничьим племенам… Эти племена, остановившиеся на уровне, сходном с верхнепалеолитическим, в некотором роде являются живыми ископаемыми (living fossils) – указывал более чем через столетие после Джона Леббока Мирча Элиаде [37]. Иногда высказывается даже убеждение, что древний человек был еще менее развит, чем самый отсталый современный «дикарь» поскольку какое-то развитие претерпел за десятки тысяч лет и андаманец и тасманиец. При этом упускается из виду, что оставаться в каменном веке в эпоху государственности, железа и городской цивилизации окружающих народов и создавать первые в мире искусственные каменные орудия или впервые воспользоваться огнем, поборов присущий всему живому страх перед «красным цветком», требует действия совершенно различных душевных и умственных энергий человеческого существа. Без первого удара кремня о кремень не было бы и афинского Акрополя – заметил исследователь орудий доисторического человека Буше де Перт. Но первое орудие, первое кремневое рубило, откуда взялось оно? Джеймс Джордж Фрезер как-то сказал, что «жить и давать жизнь, поедать пищу и зачинать детей – в этом основные потребности человека прошлого, в этом же будут его основные потребности и в будущем до скончания мира. Все остальное может добавляться для украшения и обогащения человеческой жизни, но если эти первичные потребности не будут удовлетворяться, сама человеческая жизнь исчезнет» [38]. Великий исследователь религий, сказав так, свел человеческую жизнь в ее «основных потребностях» к животной. Ведь и животные, сколь бы примитивно они не были устроены, ищут себе пищу и стремятся продолжить род. И если бы у человека не было иных «основных потребностей», он никогда бы не стал человеком, потому что набивать желудок и зачинать детей можно и не создавая культуры. Современная палеоантропология обычно связывает появление человека с резким похолоданием, случившимся на планете около трех с половиной миллионов лет назад. Тогда тропические леса сменились в Африке засухоустойчивой саванной и некоторые высшие обезьяны, приспосабливаясь к жизни на земле, в высокой густой траве встали на задние конечности, обрели прямохождение. Но даже эта, на самом деле совершенно произвольная гипотеза, не объясняет главного – почему, встав на задние лапы, рамапитек или австралопитек передними стал изготавливать орудия. Почему у других животных саванны развивались способности к быстрому бегу, утончалось обоняние, вытягивалась, как у жирафа, шея, а африканские гоминиды, напротив, постепенно отказываясь от всех удобств адаптивной физиологии, от цепких когтей и мощных клыков, пошли по пути увеличения мозга и, видимо, благодаря этому, увеличения диапозона возможностей не приспосабливания под среду, но приспосабливания среды под себя. Ведь орудие, сколь бы грубо оно ни было, в конечном счете, служило именно изменению мира для нужд человека. Между галечным чоппером австралопитека и современной ракетой дистанция во много раз меньше, чем между этим чоппером и когтями и клыками зверя. Но палеоантропология совершенно не знает, что заставило древнейшего гоминида пойти против закона всего живого мира и вместо приспосабливания под среду начать все более и более успешно приспосабливать среду для себя. В сущности, то что мы называем анатомическим и физиологическим развитием человека, является его деградацией, потому что с точки зрения естественной человек становится все менее приспособленным для жизни в дикой природе. Но он так развивается (или деградирует) потому, что изменяемая им природа позволяет ему все больше пренебрегать ею. Все главные анатомические особенности человека, все более проясняемые в процессе его развития – структура и величина мозга, строение кисти руки, постановка тела, цветное и объемное зрение – все они служат одной, небывалой в существовании планеты Земля цели – созданию искусственной, удобной для человека среды его обитания. Потребности в размножении и пище у человека те же, что и у всех иных живых существ, но осуществляет он эти естественные потребности принципиально иначе, чем все иные существа. Почему человек пошел в своем развитии противоположным всему живому путем, никто не знает, но важно то, что первое существо, сделавшее шаг по этому пути, имело колоссальный импульс нового. «Древнейший примитивный человек из-за его творческих разработок, которые были поистине совершенно новаторскими, существенно опережает современного нам дикаря» [39]. Так полагают такие видные палеоантропологи, как Марингер, Крафт и Нарр [40]. ЧТО МОЖЕМ МЫ СКАЗАТЬ О РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕКА? Принципиальное изменение в сравнении со всем живым отношения человека к окружающему его миру имело одно важнейшее следствие. Чтобы приспосабливаться под меняющуюся среду животному не нужен интеллект. Естественный отбор, а не усилие сознательной воли покрыли волосами тела слонов и носорогов в ледниковой Евразии, но обтесать даже простейшее рубило или сложить из веток шалаш, сохранить и возжечь огонь в пещере совершенно невозможно бессознательно. Чтобы подчинять природу себе сознание, причем сознание логическое, совершенно необходимо. Поэтому древнейший человек был не только прямоходящим и умелым (Homo erectus, Homo habilis), он был, подобно нам, и человеком разумным. Если действительно первые грубые орудия принадлежат, как полагает ныне большинство ученых, австралопитеку [41], то разумным являлся уже этот гоминид. А если для изготовления любого орудия потребен разум, то очевидно, не «труд сделал из обезьяны человека», но человеческий разум привел гоминида к созданию орудий и возможностей труда. Произошло это, как полагают ныне палеоантропологи, около 2,5 миллионов лет назад. Заметим, что прямохождение имеет четырехмиллионную «историю». Следует иметь в виду, что грубость и примитивность первых орудий человека вовсе не свидетельствует о грубости и примитивности его разумности. На протяжении всего существования человечества мы видим постоянное совершенствование средств подчинения внешнего мира человеку, и тут неандерталец намного примитивней земледельца неолита, этот – афинянина эпохи Перикла, а последний, европейца XX века. Однако эта линия поступательного совершенствования не параллельна духовному развитию человека. Верхнепалеолитическая живопись Альтамиры или Ляско отнюдь не уступает лучшим произведениям современного анимализма, роспись халафской неолитической керамики – вазописи любой последующей эпохи. Статуи резца Праксителя и Фидия, философия Платона и Аристотеля, религиозные умозрения упанишад, поэтика псалмов Давида или Песни песней – являют собой предельное совершенство человеческого духа, не превзойденное и по сей день, несмотря на все совершенство нашей современной цивилизации в сфере отношений человека с внешним миром. И поскольку область культурного, то есть сфера проявлений человеческого духа, не развивается, а пребывает, время от времени, то здесь, то там, достигая исчерпывающего самовыражения в красоте и гармонии, постольку и сам дух человеческий есть нечто постоянное, не эволюционирующее вместе с внешней, относящейся к связям человека с окружающим его миром, цивилизацией. Именно поэтому разумность культуры можно выводить из уровня цивилизационного развития общества не в большей степени, чем духовную красоту человека из его способности собрать телевизор или построить прочный каменный дом. Для историка религий этот принцип особенно существен, ибо относясь к высочайшим уровням духа религия очень мало обусловлена окружающей человека средой и степенью его адаптации к ней, но в колоссальной степени – теми духовными задачами, которые ставит перед собой человек, сознавая свою смертность и чужеродность миру. Разумность палеоантропа не могла ограничиться лишь приспособлением среды для лучшего добывания пищи и продолжения рода. Разум с неизбежностью ставит вопрос -для чего продолжать род и длить собственную жизнь. Животные перед собой этих вопросов не ставят, но человек обладает сознанием себя, которым животные не обладают, человек живет не рефлективно и инстинктивно, но сознательно и потому вопрос: «зачем быть» – это только человеческий и обязательный человеческий вопрос. Вопрос этот связан с проблемой смерти, конечности личного бытия. Тот, кто сознательно покоряет себе природу, не может не сознавать и своей конечности и не может не страдать от перспективы утраты своего бытия. Мы уже говорили, что религия – это связь конечного с бесконечным, человека – с Богом, целью которой является придание конечному качеств бесконечного, человеческому – божественного. Вера – обязательный спутник сознания. Если охотничье оружие по новому решает проблему пищи, а обогреваемая огнем пещера – сохранение новорожденных детей от гнева стихий, то вера по новому решает проблему смертности, она овладевает ею, а не приспосабливается к ней, подобно тому как рубило и огонь овладевают природным окружением, выводя из под его власти человека. Теоретически есть все основания согласиться с Э. О. Джеймсом, что религия в той или иной форме современна человечеству, но практически аргументировать эту позицию нелегко. От древнейшего периода существования человека у нас нет безусловных доказательств его религиозности. Но делать противоположный вывод, коль нет доказательств, – значит не существовало и религии – еще менее основательно. Если освоение природы по необходимости оставляет материальные следы – ведь человек осваивает материальное, то вера главным образом принадлежит сфере ума и лишь внешне проявляется в материальных формах и символах. Более или менее ясно мы можем судить о религии только тех исчезнувших цивилизаций, которые оставили нам работу своего ума, запечатленную в письменном тексте. Религию современных неписьменных народов антропологи изучают «в поле», месяцы и даже годы живя вместе с «дикарями». Но древнейшие люди не умели писать и мы не можем совершить к ним путешествие, ибо преодолевать время человеку дано только в фантастических рассказах. Нам приходится довольствоваться материальными тенями принципиально нематериальных сущностей. А это часто вводит в заблуждение. Кроме того, находки древнейших гоминид столь случайны и представлены в большинстве случаев такими небольшими фрагментами, что ожидать найти еще и следы их религиозной жизни, имея подчас лишь несколько костей скелета, несколько рубил да золу от костра, почти бессмысленно. И тем не менее религиоведы-палеоантропологи буквально по следам от крупиц пытаются восстановить хотя бы немногие черты веры древнейшего человека. Все время с момента появления первых каменных орудий и до выхода на сцену мироздания гоминид рода Homo (Homo neanderthalensis, Homo sapiens) принято именовать Нижним древним каменным веком, или нижним палеолитом. Наиболее полные комплексы, связанные с человеком нижнего палеолита, обнаружены в Африке в Олдувайском ущелье и под Пекином. Стоянка Homo habilis в Олдувае относится к началу палеолита и датируется 1,9 миллиона лет назад. Здесь обнаружены остатки круглой хижины, многочисленные орудия, метательные каменные шары. Автор раскопок доктор Льюис Лики отмечал, что места стоянок «были тщательно выбраны там, где потоки свежей питьевой воды вливались в богатое дичью солоноватое озеро», орудия из вулканической лавы изготавливались не в Олдувае, а в горах, в милях десяти от поселения и затем приносились в него, что может свидетельствовать о навыках обмена товарами. Обитатели древнего Олдувая бесспорно были разумными существами, но безусловных фактов их религиозности нет. Лишь один факт в свете более поздних данных намекает на то, что какие-то религиозные представления имелись у этих гоминид. Все исследователи материалов Олдувайских раскопок обращают внимание на существенно более частые сравнительно с иными частями скелета находки черепов, нижних челюстей или верхов черепных коробок. «Череп и нижняя челюсть – это конечно очень прочные кости, но все же сомнительно, что они настолько прочнее всех иных частей скелета, что лишь они могли сохраниться до настоящего времени» – указывал Дж. Марингер [42]. Исследователи также обратили внимание, что, как правило, черепа обнаруживаются непосредственно на стоянках древнего человека. Так как трудно себе представить, что тела умерших сородичей африканские гоминиды бросали буквально в двух шагах от своих жилищ – это вызвало бы и распространение болезней и посещения питающихся мертвечиной зверей и птиц – то остается предполагать, что черепа, а иногда и иные кости сохранялись после распада мягких тканей их близкими. Эти реликвии постигала участь всех вообще предметов – они терялись, забывались, смывались во время разлива водой и таким образом дошли до археологов. Но если Homo habilis хранил кости своих умерших родственников, то какие-то религиозные представления ему скорее всего были свойственны. Находки стоянок синатропа (Pithecanthropus pekinensis) в пятидесяти километрах к югу от Пекина в известниковых пещерах близ железнодорожной станции Чжоукоудян в 1927-1937 годах проливают новый свет на духовный мир человека нижнего палеолита. В пещерах Чжоукоудяна синантропы жили в течение многих поколений. За время раскопок были найдены костные останки более сорока особей, как взрослых так и детей [43]. Судя по найденным в пещерах костям теплолюбивых млекопитающих – слонов, носорогов, тапиров, оленей, дикобразов, синантропы жили в одну из межледниковых эпох, скорее всего в понц-миндельскую, около 500 тысяч лет назад, но, возможно, и в начале миндель-рисской эпохи – 360 тысяч лет назад. Объем мозга синантропа достигал 1075 см3 (человек умелый из Олдувая – 725 см , современный человек – 1400 см3). Точные исследования последних лет показали, что в мозгу синантропа были развиты так называемые поле Брока и поле Вернике – центры, контролирующие речевую деятельность и понимание речи [44]. Они и иные Homo erectus отнюдь не ограничивались «рычанием и нечленораздельными звуками», как еще недавно полагали ученые, они говорили. Обитатели Чжоукоудянских пещер изготавливали орудия из прочнейшего кварца, предпочитая его более мягкому песчанику, из черепов копытных они делали чаши для питья. Но открытие, которое буквально потрясло археологов во время чжоукоудянских раскопок – это знакомство синантропов с властью над огнем. Сомневаться не приходилось: в одной из пещер толщина зольного слоя достигала шести метров. Огонь горел здесь в течение веков. Первоначально палеоантропологи сочли этот факт случайным. Известные популяризаторы наук о доисторическом состоянии Земли, чехи Йозеф Аугуста и Зденек Буриан так, например, описали знакомство синантропа с огнем: «Совершенно ясно, что сами синантропы еще не умели разводить огонь. Они доставали его только случайно, может быть, после удара молнии, которая зажгла сухую траву в степи, а от нее загорелись кусты и небольшие рощи. Сначала синантропы боялись огня, убегали от него и скрывались в пещерах. Когда же огонь терял свою уничтожающую силу, когда пламя спадало и невыносимый жар постепенно исчезал, тогда, может быть, самый отважный из них приближался к угасающему пламени и с любопытством рассматривал раскаленные угольки, разгребал их и испуганно убегал, когда из них вылетал рой искр, одна из которых могла его больно обжечь. Тогда, может быть, кто-нибудь из них бросил на раскаленные угли горсть сухой травы или сухих веток, и когда все это воспламенилось, синантропы поняли, какой пищей должен питаться огонь, чтобы он остался жить» [45]. Эта красивая история имеет, однако, мало общего с действительностью. Теперь мы знаем наверняка, «что именно Homo erectus первым начал систематически использовать огонь для обогрева, приготовления пищи, защиты от хищников и для охоты на диких животных» [46]. Не только в Чжоукоудяне, но и под Ниццей в Терра Амата и на иных стоянках этих древнейших людей найдены очаги, стенки, сделанные для защиты пламени от господствующих ветров, кострища. К настоящему времени известно как минимум одиннадцать мест – в Европе, Африке и в Азии, где более чем сто тысяч лет назад люди возжигали и поддерживали огонь. Причем стоянки Чесованджа и Каламбо Фоллз в Восточной Африке, Юаньмоу и Чжигуду в Восточной Азии возможно имеют возраст один миллион лет или древнее. А в Кении, около озера Туркана, известен участок обугленного костром грунта возрастом 2,5 млн. лет. Если датировка кострища верна, то его огонь согревал австралопитека, и нам поновому следует взглянуть на сознание и этого древнего существа. «Такое использование огня, – пишет Марингер, – показывает, что первобытный человек обладал способностями, присущими разумному существу: он был способен к обдуманному выбору; он умел творчески использовать собственное воображение; он мог предвидеть последствия своих действий, одним словом, он был способен к свободному волевому действию (he was capable of autonomous action)» [47]. Сколь бы ни было значительно использование огня в бытовых целях, нельзя не предположить, что пламя костра вызывало у синантропа и цепь иных, менее земных ассоциаций, чем свет, тепло и вкус прожаренного мяса. Если огонь еще более чем каменная индустрия указывает на способность древнего гоминида к абстрактному мышлению, то абстрактное мышление, в свою очередь, не может не породить при зрелище горящего огня благоговейного трепета. Он один, в нарушение всех обычаев мира, от земли поднимается к небу. С неба он и ниспадает в виде молнии, в раскатах грома. Огонь дает свет и тепло, подобно солнцу. Это как бы частица жизнедательного светила в нашем мире, стремящаяся вернуться к своему источнику. Хотя сравнения с современными примитивными народами доисторического человека и не правомерны, но вспоминается все же рассказ, передаваемый великим психологом XX века Карлом Густавом Юнгом, который он услышал во время путешествия в Северную Америку: «Мой друг, туземный вождь Горное Озеро, пристыжающе призвал меня к порядку, когда я приводил аргумент Августина «солнце не есть Господь наш, Который это сделал», с негодованием воскликнув: «Он, который там идет, – показывая на солнце, – наш отец. Ты можешь его увидеть. От него исходит весь свет, вся жизнь, нет ничего, что было бы сделано не им». Он сильно разволновался, мучительно подыскивал слова и наконец воскликнул: «Даже человек в горах, который ходит один, не может без него разжечь свой огонь» [48]. Если синантропы задумывались над проблемой смерти и бессмертия, то символом жизни для них скорее всего могло стать солнце, дающее с избытком жизнь. Но от их убогих пещер до великого светила никак не добраться. Только пламя очагов, поднимаясь от земли к небу, пожирая здесь ветви деревьев, возносится к своему источнику, к солнцу. Может быть и любое сожженное на огне достигает Бога? Становится Его частью, обретая вечность? Глядя на дрожащий над пламенем восходящий к небу разогретый воздух не мечтали ли древние, сидя у своих очагов, не только об уютной ночевке, но и о том, что когда наступит момент расставания с жизнью, они также взойдут в обитель своего Небесного Отца? Кое-что в жизни чжоукоудянских синантропов позволяет по крайней мере поставить такой вопрос. Во время раскопок профессор Пэй Вэньчжун обнаружил, что большая часть костных останков синантропов находится в золе очагов, в перемешку с костями животных, служивших пищей обитателям пещер. Следуя общему для XX века правилу предполагать в древнем человеке максимальное число звериных, вненравственных свойств, руководитель раскопок швед Биргер Болин и иные европейские ученые объявили немедленно, что синантропы являлись людоедами, а найденные в золе кости – остатки каннибальских трапез, когда дикие человекообезьяны в животной страсти к насыщению пожирали без разбора и мясо животных и своих менее удачливых соплеменников. Профессор Пэй воспротивился такому объяснению сделанных им находок. Он обратил внимание, что большая часть человеческих останков – это черепа и нижние челюсти и лишь немного длинных костей конечностей. Мелкие же кости скелета практически отсутствовали в очагах Чжоукоудяна. Напротив, среди костей животных большей частью были обнаружены не черепа, а иные кости скелета, в том числе множество мелких. Особенно существенно, что не удалось найти двух верхних позвонков синантропа. Если голову отрубают от тела, то два эти позвонка обязательно остаются вместе с черепной коробкой. Так как при обилии черепов этих позвонков не обнаружили, то, следовательно, черепа были принесены к костру и положены в огонь уже послеразложения мягких тканей. Возможно, части животных сжигались вместе с черепами людей в качестве какого-то заупокойного приношения, может быть – это следы поминальных трапез, может быть, наконец, черепа попали в костры и случайно, но они не были остатками каннибальского пиршества. Помимо прочего профессор Пэй обратил внимание, что голова – это далеко не самое вкусное у человека, но более «аппетитные» кусочки в кострах почти не найдены. Почти у всех черепов оказалось искусственно расширенным затылочное отверстие – foramen magnum, а длинные кости конечностей часто были расколоты. Это сделали каннибалы, заявляют одни ученые. Синантропы были если и не людоедами, то «мозгоедами». Они лакомились как головным, так и костным мозгом. Однако столь же вероятно, что мозг изымался в процессе погребения. Дело в том, что и сейчас у самых примитивных народов – анадаманцев, негритосов, австралийцев существует обычай так называемых вторичных погребений. Е. Г. Мэн и сэр Рэдклифф-Броун описали обряд погребения на Андаманских островах: «Вначале тело предается земле, в общине объявляется пост. Через несколько месяцев могила разрывается, кости собираются, промываются в море или в ручье и их вновь везут в поселение. Там их встречают плакальщицы. Череп и нижняя челюсть обмазываются белой и красной глиной и затем подвешиваются на плетеной веревке. На этой веревке они и носятся на груди или спине. Родители носят черепа детей, матери – детей и мужей, часто – братьев и сестер. Поскольку любая собственность у андаманцев ценится мало, то и черепа запросто отдают на память. Часто в поселении уже никто не знает, кому принадлежала ставшая черепом голова. Другие кости тоже хранят, но не так тщательно. Они часто теряются. Поэтому в деревне всегда можно найти много черепов, но другие части скелета редки». Следует иметь в виду, что мозг разлагается значительно медленнее иных мягких тканей и его приходится удалять искусственно. Наконец, указывает Пэй Вэньчжун, вокруг пещер водилось множество диких животных. К чему было убивать и есть соплеменников, когда без труда можно было добыть иную, менее сомнительную пищу. Если даже согласиться с тем, что синантропы все же вкушали мозг сородичей, то не как лакомство, а как ритуальную пищу. Костный и головной мозг могли, с их точки зрения, содержать какую-то частицу личности и силы умершего, которая должна была остаться в племени, перейдя в потомков таким необычным для современного человека способом. Подобные действия известны у многих народов. Например, Геродот так рассказывает о погребальных обычаях племени исседонов, обитавших к востоку от Каспийского моря: «Когда умирает чей-нибудь отец, все родственники пригоняют скот, закалывают его и мясо разрубают на куски. Затем разрезают на части и тело покойного отца того, к кому они пришли. Потом все мясо смешивают и устраивают пиршество. С черепа покойника снимают кожу, вычищают его изнутри, затем покрывают позолотой и хранят как священный кумир. Этому кумиру ежегодно приносят обильные жертвы». [Геродот. 4, 26]. Нет ли между этой традицией и причинами, вызвавшими появление черепов в Чжоукоудянских пещерах, некоторого сходства? Надо при этом помнить, что каннибализм характерен не для самых примитивных, но как раз для достаточно развитых племен, где он служит многообразным магическим целям, но почти никогда – простому удовлетворению чувства голода. (Подробнее об этом см. в главе «Религии современных неписьменных народов».) Эвальд Вольфхард, издавший и 1939 году фундаментальное исследование, посвященное каннибализму, отмечает, что исследователи конца XIX – начала XX века безусловно доказали, что «культурный уровень каннибальских народов существенно выше уровня разлития народов, не увлекающихся людоедством. Надо считать это открытие одним из важнейших достижений науки девятнадцатого столетия в области истории культуры, доказанное объективными исследованиями и развеевшее миф о том, что первоначально человек был людоедом». В настоящее время есть все основания полагать, что каннибализм можно отнести не к разряду пережитков звериного прошлого, но к «достижениям» человеческой цивилизации. Что же касается синантропа, то его погребальный обряд может быть реконструируем следующим образом: тело после разложения мягких тканей или один череп приносился в пещеру, где жили сородичи умершего. Мозг или изымался сразу же после смерти и вкушался, или же уже после эксгумации тела изымался и сжигался на огне. Откуда-то зная, что мозг – это вместилище ума, личности, ого возвращали в огне костра Солнцу. Череп же хранился как объект поклонения, как место, где пребывает какая-то часть личности умершего. Возможно его закапывали в золу под очаг, где готовилась пиша. Так мертвый мог участвовать в трапезах живых, продолжать жить не только небесной, но и земной, родовой жизнью. Для нижнего палеолита характерны небольшие стоянки, скорее всего нуклеарных семей (10-20 человек). Видимо, это был «патриарх», его жены, возможно взрослые сыновья с женами и детьми. Домыслы о беспорядочных половых отношениях (промискуитете) питекантропов и более поздних гоминид остаются на совести высказавших их ученых. Археологическим материалом они никак не подтверждаются. Но ясно, что «стадом» палеолитический человек не жил. Большая свобода половых отношений у многих современных дикарей скорее всего также благоприобретенное качество. О том же говорят и исследователи человекообразных обезьян: «Наблюдения над экологией высших приматов свидетельствуют, во всяком случае, против наличия периода промискуитета в истории человечества. Стадные взаимоотношения человекообразных обезьян организованы по тому типу, который обычно называется гаремной семьей» [49]. Однако ни во всем нижнепалеолитический человек оставляет нас в состоянии благодушия. Впервые описавший австралопитека йоганнесбургский профессор анатомии Раймонд Дарт обнаружил среди разбитых костей и черепов животных также и разбитые черепа самих австралопитеков. Всего он обнаружил шесть черепов; четыре имели впереди сквозные пробоины, остальные два – в области левой височной кости. Дарт предположил, что здесь имело место преднамеренное убийство. Обезьяна почти никогда не убивает сородича, тем более с помощью искусственных орудий. Трагедия, разыгравшаяся около двух миллионов лет назад в Трансваале, если только мы ее правильно интерпретируем, говорит о появлении у древнейших гоминид еще одного чисто человеческого качества – безудержной жестокости к себе подобным, сознательного зла. Чувство это также свидетельствует о способности подчинять себя волевым импульсам и превращать их в цепочки направленных действий. Уже в ту весьма отдаленную от нас эпоху человек обрел удивительное право свободно распоряжаться собой, не инстинктивно, но волевым усилием избирать или добро, или зло. В своей замечательной книге «Истоки истории и ее цель» Карл Ясперс заметил, что «мы ничего не знаем о душе человека, который жил двадцать тысяч лет тому назад» [50]. Палеоантропология, пусть очень осторожно и неуверенно, но приоткрывает нам строй души человека много более древнего, жившего не десятки, а сотни тысяч и даже миллионы лет назад. Скорее всего он имел веру, знал добро и зло, то есть был уже человеком, а не его животным подобием. Средний палеолит свидетельствует об этом с еще большей убедительностью. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА. МУСТЬЕРСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ Примерно 200 тысяч лет назад на земле начали происходить длительные похолодания климата, вызывавшие разрастание ледяных шапок вокруг полюсов, появление мощных ледников в средних широтах и в горах, с которыми граничили обширные зоны вечной мерзлоты. Ландшафт полярной пустыни и тундры стал характерен для большей части Европы. Лишь на Пиренейском, Апеннинском и Балканском полуостровах сохранялся умеренный климат и росли высокоствольные таежные леса. Уровень моря резко понизился и многие острова, например Великобритания и Ирландия, соединились с материком. В эпохи потеплений тундра отступала на север и леса вновь покрывали земли средних широт, в то время как на берегах Средиземного моря климат становился субтропическим. Однако новые похолодания вновь изгоняли теплолюбивых животных и растения в Африку. Главными обитателями Европы в эпоху среднего и позднего ледникового периода (плейстоцена) были обросшие густой шерстью мамонты, носороги, мускусные быки, северные олени, пещерные медведи и львы, обычные и альпийские волки. В эту суровую эпоху в Европе жил и человек. Это бы неандерталец. Примечательно, что еще до оледенения 350-250 тысяч лет назад в Евразии жили люди почти не отличимые от современных – их черепа найдены в Сванскомбе (Англия), Штейнгейме (Германия), Чжуцияо (Китай). Близкие формы обнаружены и в южной части Африки (Брокен-Хилл, Замбия). Однако от эпохи оледенений в Европе дошли до нас главным образом останки неандертальцев. Неандертальцы обитали также на Кавказе, в Северной Африке и на Переднем Востоке, вплоть до Тянь Шаня и Иранского нагорья. В иных частях мира их останки не обнаружены. Современная палеоантропология склонна считать, что вид или подвид неандертальца произошел от древнего Homo sapiens. Одни ученые полагают, что неандертальцы вымерли около 30 тысяч лет назад, другие – что они слились с основной ветвью Homo sapiens и являются одними из предков современного человека. И ростом и весом неандерталец был подобен современному человеку. Он обладал более массивным скелетом, развитой мускулатурой, крупными суставами рук и ног. Шишковидный затылочный бугор черепа свидетельствует о толстой, очень мускулистой шее. Подбородок неандертальца был скошен назад, широкое продолговатое носовое отверстие черепа указывает на крупный нос. Объемом мозга неандерталец превосходил современного человека (1500 см3против 1400 см3у современного человека), однако лобные доли были развиты слабее, хотя теменные и височно-затылочные анализаторы занимали зоны существенно более обширные чем у Homo sapiens. Уже у Homo habilis и тем более у неандертальца леволобная доля мозга развита лучше правой, что говорит о лучшем, сравнительно с левой, развитии правой руки. В левой лобной доле неандертальца четко читается и речевая зона, а на кости нижней челюсти имеются выступы, к которым прикреплялись мышцы, управлявшие речевыми движениями языка. Мы столь хорошо знаем об анатомии неандертальца благодаря широко распространенной у него традиции предавать земле своих умерших соплеменников. Если для более ранних периодов жизни гоминид и для жившего одновременно с неандертальцем Homo sapiens характерной формой заупокойного ритуала являлось, видимо, временное захоронение с последующим хранением черепа потомками умершего, то неандертальцы первыми, сколь нам известно, начали хоронить покойников в специально сделанных для этого могилах, предавая их земле раз и навсегда. Именно такого типа захоронение и было обнаружено Отто Гаузером близ Мустье (Le Moustier) в 1908 году. Неандертальский юноша 16-20 лет был положен под скальным навесом в специально откопанную неглубокую могилу (35-40 см глубины). Погребение осталось неповрежденным в течение тысячелетий, и потому мы ясно можем представить на его примере, как хоронили неандертальцы своих умерших. Тело юноши было аккуратно положено на правый бок, голова покоилась на ладони, согнутой в локте правой руки, левая рука была вытянута вперед, ноги согнуты в коленях. Безусловно умершему пытались придать положение, характерное для спящего человека. У головы были положены кремневые камни, вокруг тела и под рукой – несколько кремневых орудий и жареные куски мяса (от них остались обгоревшие кости).  Мустьерское захоронение свидетельствует о преднамеренном характере погребения. Неандертальцы не бросили юношу на произвол судьбы, но тщательно и с немалой затратой сил предали земле. Некоторые, не верящие в религиозность неандертальца, ученые настаивают на чисто гигиенической цели захоронения – надо было изолировать живущих под скальным навесом от разлагающегося тела. Но, во-первых, избавиться от мертвого сородича можно было много проще, если труп воспринимался только как помеха живым. Его можно было бросить где-нибудь в лесу, подальше от жилища, оставить в скальной расселине… Во-вторых, тонкий слой земли, покрывавший тело, не изолировал его от поверхности сколько-нибудь надежно. Запах тлена при такой глубине 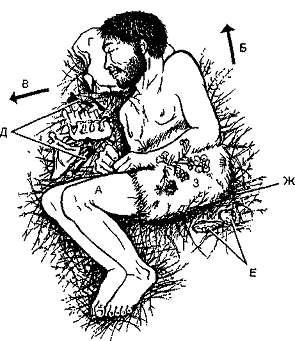 Реконструкция неандертальского погребения мустьерского типа (по Д. Ламберту): а) тело умершего расположено в позе спящего; б) тело ориентировано по оси Восток-Запад; в) лицо обращено к Югу; г) под голову положена каменная подушка; д) куски жареного мяса, от которого остались обгоревшие кости; е) каменные орудия; ж) подстилка из лесного хвоща; з) цветы лекарственных растений в руке умершего погребения вполне ощутим. В-третьих, неандертальцы почти никогда не жили там, где погребали своих мертвец ›в; подчас они бросали весьма уютные пещеры после того, как совершали в них захоронения. И, наконец, в-четвертых, мустьерское захоронение – это не простое закапывание мертвого тела, но свидетельство достаточно сложного заупокойного ритуала, который с необходимостью свидетельствует не просто о преднамеренности, но и о религиозном характере совершенного захоронения. Поза сна – это не просто поза покоя, отдыха. «Смерть и сон – родные братья» гласит древняя греческая поговорка. Сон, особенно глубокий сон, очень напоминает смерть, но за ним следует пробуждение, бодрость, активная жизнь. Можно с большой долей уверенности предположить, что, придавая умершему позу сна, неандертальцы хотели на символическом языке сказать – он уснул, но он проснется. Сколь бы долгим ни был сон смерти, за ним обязательно последует пробуждение к новой жизни. Кремневые орудия и куски жареного мяса говорят о том же. Очень наивно полагать, что неандертальцы думали, что их покойники лакомятся мясом и работают скреблами и рубилами в своих могилах. Они не хуже нас знали, что умерший истлевает и ни еды, ни орудий труда ему совершенно не надо. Но еда и каменные рубила нужны живым, без них нельзя жить. Давая мясо и орудия труда умершему, его близкие символически показывали, что он жив и будет жить. Но где будет жить умерший по неандертальским представлениям? Здесь мы впервые встречаемся с очень важной закономерностью многих древних верований в посмертную судьбу человека. С одной стороны, умерший должен перейти в иной, не земной мир, в мир душ, а не телесных субстанций. Тело истлевает в земле, а душа уходит в инобытие, откуда может приходить к живым во снах, а то и по вызову опытного в некромантии человека. Душе в том мире могут быть нужны субстанции, «души» предметов, которыми человек пользовался при жизни. Отсюда пища и рубила в заупокойном инвентаре неандертальца. Когда много десятков тысяч лет спустя, люди научились делать глиняную посуду и выращивать зерно, то они часто клали в могилу специально разбитые сосуды и обжаренное – «умершее» зерно, полагая, что разрушенные для этого мира эти зерна и посуда окажутся «духовно» с умершим в новом его бытии. Характерно, что у головы и под голову мустьерского юноши были положены куски необработанного кремня. Зачем? Один из исследователей погребения предположил, что из этих «заготовок» умерший должен был делать орудия на том свете. Что ж, работа – это тоже символ жизни. Но то, что кремни лежали у головы, позволяет предположить и иное. Кремень в палеолите служил не только для производства орудий, его безусловно использовали и для высекания огня. При ударах кремня о кремень сыплются искры, которые, попадая на сухой мох или древесный гриб – трутовик, вполне могут вспыхнуть настоящим пламенем. В кремне как бы покоится, таится огонь. Также и в человеке, под грубым материальным покровом, вернее, в самой материи пребывает огненная, стремящаяся к небу духовная энергия. Со смертью эта энергия освобождается и устремляется к своему первоисточнику. Мы помним, что уже в нижнем палеолите у питекантропа голова считалась средоточием духовной силы, потому к черепу умершего было особо почтительное отношение. А теперь в мустьерском неандертальском погребении кремни положены у головы покойника. Несимвол ли это огненного восхождения его души к Небу, на которое надеялись и которое пытались символически отобразить друзья умершего юноши? Но, с другой стороны, смерть тогда не понималась как простое освобождение души из клетки тела. Тогда к телу неандертальцы остались бы безразличны, сосредоточившись на символах исхода души к Небу. Но мустьерское погребение говорит и о надежде на воскресение тела. Во-первых, сам факт погребения. Мы настолько свыклись с обычаем хоронить умерших, что как-то не придаем значения его символической стороне. Только в словах церковного обряда отпевания – «земля ты еси и в землю отыдеши», являющихся воспоминанием «проклятия Адаму» – «возвратишься ты в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» [Быт. 3, 19], содержится для современного человека объяснение этого древнейшего обычая предавать умерших земле. Действительно, как ни обидно это на первый взгляд, но тело наше есть ни что иное, как особым образом устроенная земля, «прах», по слову Божию. Мы образуемся из двух маленьких клеточек матери и отца, а потом растем благодаря пище. Но что есть пища, как не преобразованная земля? Ведь и хлеб, который мы едим есть зерно, проросшее благодаря сокам и силам земли в колос, давший зерен один шестьдесят или один сто. Потенция жизни, содержащаяся в семени, в зерне преобразует землю в пишу, в жизнь. Молоко коровы – это переработанная трава, а трава – это переработанная травным семенем земля. И так все, что едим мы, за счет чего живем – это земля. Следовательно, и мы сами, наши тела – суть тоже земля. Отсюда верны слова, что мы – прах, и вполне естественно – что в прах мы и возвращаемся. Похоронят человека – и через несколько лет нет и следа от его плоти – она вся обратилась снова в землю, а во влажной кислой почве быстро разрушаются даже кости скелета. Когда неандертальцы стали хоронить в могилах соплеменников, они наверняка сознавали лучше нас, уже порядком забывших смысл многих символических действий, почему они это делали. Для них образ праха, возвращающегося в прах, был вполне значимым. Но тление друзья мустьерского юноши не понимали как окончательный и бесповоротный процесс. Иначе не было бы позы сна. Да, человек умер, он истлеет в своей могиле – в этом нет сомнений, но наступит день и он пробудится, его душа, отлетевшая на Небо в пламени огня, вернется в плоть, и та восстановится из земли. Отсюда – поза сна. Погребение мустьерского юноши ждала странная и трагическая судьба. Найденное Отто Гаузером в 1908 г., оно было продано им в Германию вместе с другим скелетом из Комб-Капелль за 160 тыс. марок (75 тыс. золотых русских рублей). В результате банкротства банка, куда были вложены деньги, Гаузер потерял три четверти полученного капитала. К своей находке ученый питал особое благоговение. Каждый раз, когда он приезжал в Берлин, Гаузер посещал музей и клал букеты красных роз на витрины, где были выставлены когда-то проданные им скелеты. В феврале 1943 года во время бомбардировки Берлина оба скелета погибли. Жестокость современного человека к себе подобным не пощадила и останков неандертальца. Если древнейшие Homo erectus видели в прочности черепа символ несокрушимости, вечности человеческого существа, и потому хранили черепа своих умерших собратьев, то неандертальцы, возможно, глубоко осознав перстную, тленную природу человека, стали доверять умерших «матери-сырой земле» в надежде грядущего их воскресения. Погребение в Ле Мустье, обнаруженное Отто Гаузером, оказалось первым в ряду многочисленных находок захоронений неандертальцев. К началу второй половины XXвека найдено было уже 68 захоронений, содержащих останки 150 человек. Находки продолжаются и поныне. Многие элементы погребальных обрядов и религиозных представлений неандертальцев, замеченные в результате изучения первой находки, подтвердились и оказались существенно дополненными. Умершим сразу же после смерти спешили придать позу сна или еще более неестественную «эмбриональную позу», когда колени касаются живота, ступни – ягодиц, а голова склонена к коленям. Эмбриональная поза трупоположения особено была распространена среди неандертальцев Переднего Востока – так были похоронены десять человек в пещере эс-Сукхул на горе Кармил. Специально отрытые для них могилы были очень малы и имели круглую или овальную форму, что, наверное, должно было символизировать материнскую утробу земли, беременную умершим, призванным родиться к новой жизни. Эдвин Оливер Джеймс не согласился с такой интерпретацией среднепалеолитических захоронений: «Весьма сомнительно, чтобы такое положение тела, напоминающее положение эмбриона в утробе, придавалось умершему, как то иногда считают, для обеспечения возрождения после смерти. Ведь очень сомнительно, чтобы внутриутробное положение плода было известно в эпоху палеолита. Намного более правдоподобно, что жесткое связывание тела перед его посмертным окоченением должно было помешать духу умершего выходить из могилы, беспокоя живых». [51] Страх перед умершим, возможно, иногда действительно присутствовал, однако, если мертвого тела боялись, с ним можно было покончить каким-нибудь более простым способом, нежели связывание, причем с приданием определенной, очень характерной позы «эмбриона». А то, что положение ребенка во чреве матери не было известно людям палеолита – не более чем вольное предположение английского ученого: сумма знаний неандертальца об окружающем мире совершенно не известна нам. Примечательно, что неандертальцы не делали различий между взрослыми и детьми, когда хоронили умерших. В Крыму, в гроте Киик-Коба в 1925 году было найдено погребение неандертальской женщины, радом с которой с соблюдением всех обрядовых правил был предан земле годовалый ребенок. В Ла Феррассе (Дордонь, Франция) среди иных была найдена и могила, где похоронен был выкидыш 6-7 месяцев беременности. В этом же погребении тела детей оказались снабженными орудиями и оружием, которые они в земной жизни не могли еще употреблять. Видимо, неандертальцы ожидали, что умершие дети станут взрослыми в ином мире. Очень интересное погребение мальчика 8-9 лет обнаружил на Тянь Шане в пещере Тешик Таш русский ученый Алексей Окладников в июне 1938 года [52]. Вокруг специально ископанной могилы, в которую в позе сна было положено тело ребенка, были врыты остриями вниз рога горного козла кийка (Сарга sibirica), до сих пор являющегося любимым объектом охоты местных жителей. Рога образовали нечто вроде изгороди вокруг могилы. Но, разумеется, защитить погребение такая изгородь не могла – оно и было разрыто вскоре пещерной гееной. Рога вкалывались с иной, религиозной целью. Здесь мы, пожалуй, впервые встречаемся с одним из распространеннейших символов божественного могущества – рога быка, барана или козла в Месопотамии изображались на головных уборах богов, рогами украшались древнейшие царские могилы Египта, в неолитических городах пятого-шестого тысячелетия до Р. Х. рога являлись непременной принадлежностью святилища. И даже во время Синайской теофании, запечатленной в книге «Исход» Ветхого Завета, Бог повелевает: «И сделай роги на четырех углах его (жертвенника), так чтобы рога выходили из него, и обложи его медью» [Исх. 27, 2]. Более ста тысяч лет назад тяншаньские неандертальцы использовали тот же символ, чтобы доступными им скудными средствами выразить мысль о божественном покрове над умершим, и о том, что закопанному в глубине пещеры у западной стены маленькому тельцу предстоит восстать из мертвых, обретая божественную силу и бессмертие. В других случаях ту же идею выражали иначе. Например, при погребении взрослого мужчины в Ла Шапелль о Сен (La Chapelle aux Saints) его голова была защищена костными пластинами, тело окружено кусочками яшмы и кварца и посыпано охрой. Сияние, свечение не этого, преданного тлению, но иного, воскресающего тела должны были передать яшма и кварц, охра же, имеющая цвет крови, показать, что умерший жив и кровь еще заструится в нем, побуждая восстать от смерти. Особое внимание к голове в этом погребении заставляет вспомнить заупокойные ритуалы раннего палеолита. Не всегда, но много чаще, чем это мог позволить простой случай, неандертальцы ориентировали своих умерших по странам света, по оси восток – запад головой к западу. То есть символика умирающего и возрождающегося солнца была известна им. Они, умирая, уходили вместе с солнцем из этого мира, чтобы подобно солнцу же, в урочное время вновь воссиять на востоке. Рядом с погребениями часто находят остатки костра. На нем, видимо, приносились заупокойные жертвы, а может быть пламя должно было стать той дорогой, по которой дух умершего уходил в небо. Предполагать же, как это делают иногда, что погребальные костры неандертальцы жгли дабы «согреть» остывшее тело из «жалости» к нему – не более чем сентиментальный домысел. Иногда мы можем предположить, что могилы умерших превращались в места повторяющихся поминальных пиршеств. Так, погребение в Ла Шапелль о Сен находится в маленькой с низким потолком пещере, явно непригодной для жилья большой семьи, но здесь археолог А. Бойсони обнаружил толстый слой золы и кости множества северных оленей, зубров, диких лошадей. Видимо, не единожды на эту могилу приходили соплеменники, желая сопричаститься силе и мудрости покойного и обеспечить ему лучшую участь в инобытии. В горах Загроса (Иран) в пещере Шанидар очень сухой горный климат сохранил примечательный штрих неандертальского погребения – на тело умершего мужчины чьей-то заботливой рукой были положены поздние весенние цветы. Обычай провожать близких «в последний путь» этого мира цветами распространен и у нас, но смысл его крепко забыт. Когда мы дарим цветы милым девушкам, мы подчеркиваем их красоту красотой ирисов или роз, но что подчеркиваем мы, кладя цветы на гроб? Между тем цветы – это прекрасный символ победы жизни над смертью. Вот подошла к концу все убивающая зима, жарче стало припекать солнце и на проталинах альпийских лугов раскрылись первые нежные цветы. Они вышли из черноты земли, в ней перезимовали их корни и семена, а с первыми лучами весеннего солнца они пробудились и раскрыли прекрасные свои соцветия. Цветы, которые кладем мы на гробы умерших – это ни что иное, как пожелание им воскресения после зимнего сна смерти. Видимо те же побуждения заставили обитателей Загроса мустьерского времени положить на тело умершего цветы. Цветы эти, кстати говоря, большей частью принадлежали лекарственным растениям и по сей день использующимся горцами в народной медицине. Не означал ли такой выбор, что с цветами соединялся не только символ воскресения, но и «врачевство бессмертия»? «Забота, с которой относились к телам умерших, практически не оставляет места сомнению в том, что погребальные обряды существовали в среднем палеолите» – констатирует Э. О. Джеймс, и продолжает. – Задолго до того, как на сцене появился Хомо сапиенс, таинственное и волнующее явление смерти привлекло внимание раннего человека и привело к попыткам использовать ритуал для того, чтобы победить ее» [53]. Неандертальцы не хоронили своих умерших в каких попало пещерах. Они предпочитали селиться отдельно от «кладбищ» и намного чаще мы находим стоянки без погребений, чем места погребений неандертальцев. Но кроме погребений до нас дошли и иные очень важные свидетельства религиозной жизни человека среднего палеолита. МЕДВЕЖИЙ КУЛЬТ В СРЕДНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ В 1917-1923 годах палеонтологи Эмиль Бахлер и Нигг занимались обследованием высокогорной пещеры в восточной части Швейцарских Альп, которую местные жители, обитатели кантона Сент Галлен, называли Драконовой (Drachenloch). Расположенная на высоте 2500 метров над уровнем моря и на 1400 метров над ложем долины речки Тамина, впадающей в Верхний Рейн, пещера эта почти никогда не посещалась и потому в ней сохранились неповрежденными интереснейшие следы неандертальской культуры. Около ста тысяч лет назад, в сырую и холодную ледниковую эпоху люди посещали Драхенлох значительно чаще, чем теперь. Первому залу, доступному восточным ветрам, они предпочитали второй, куда почти не проникали лучи солнца и пронизывающие ветры с горных вершин. В самом месте перехода из первого зала во второй археологи наткнулись на следы древнего кострища. Второй костер неандертальцы жгли уже в глубине пещеры в специально оборудованном очаге. В культурном слое были найдены каменные орудия мустьерского времени. Но самые интересные открытия ждали ученых в той отдаленной и совершенно темной части пещеры, где без искусственного света нельзя было сделать и двух шагов. При свете ламп Бахлер и Нигг увидели стенку, сложенную на высоту 80 сантиметров из необработанных известняковых плит, тянущуюся вдоль южной стены пещеры, отстоя от нее сантиметров на сорок. Культурный слой и найденные орудия оставляли мало сомнений в том, что стенка была сделана неандертальцами. Если так, то это – древнейшая постройка из камня, возведенная человеческими руками. Но для чего трудились древние посетители Драхенлоха? Заглянув за стенку ученые остолбенели от удивления. Все пространство было заполнено аккуратно уложенными костями громадного пещерного медведя (Uisus spelaeus). Здесь были длинные кости конечностей и черепа десятков особей. Но мелких костей – ребер, позвонков, стопы обнаружить не удалось. Утилитарно мыслящие современные европейцы сразу же предположили, что они нашли неандертальский склад медвежьего мяса. Постоянный климат пещеры давал эффект холодильника и позволял сохранять добычу достаточно долго. Однако, рассмотрев находку еще раз, ученые поняли, что о складе мяса речи быть не может. Кости медвежьих конечностей лежали так тесно, что совершенно очевидно – мясо снято было с них заранее. Бахлер и Нигг обнаружили не склад мяса, но хранилище костей пещерного медведя. Черепа были большей частью ориентированы в одном направлении – мордами к выходу – и у них имелись верхние позвонки, указывая на то, что головы отсекли от тел недавно убитых животных. В пещере были обнаружены в результате последовавших раскопок несколько шкафов из известняковых плит, в которых также хранились черепа пещерных медведей. В одном случае через глазницу и скулу черепа трехлетнего медведя были для чего-то продеты бедренные кости другого медведя. Характерно, что кости иных животных – оленей, горных козлов, серн, зайцев ученые обнаружили в существенно меньших количествах, и, в отличие от медвежьих костей, они были беспорядочно разбросаны по полу пещеры – это безусловно были просто остатки трапезы неандертальцев.  Вскоре аналогичные находки были сделаны и в иных альпийских пещерах – Петершёле (Германия), Вальдпирхель (Швейцария), Драхенхёхль и Зальцзофен (Австрия), Регорду (Франция). Кроме типологически близких швейцарскому Драхенлоху находок имелись случаи воздвижения медвежьих голов на отдельно стоящие высокие камни – Марингер назвал эти памятники «древнейшими из ныне известных алтарей» из ныне известных алтарей» [54], и закапывания-погребения частей жертвенных животных у входа в пещеру под специально положенной плитой. В Зальцзофене, обследованном Куртом Ехренбергом в 1950 году, кроме многочисленных кострищ и трех четко ориентированных по оси восток-запад медвежьих черепов была найдена кость, обработанная в форме мужского полового органа (фаллoса – греч.» ??????’’). Это первый пример широко распространившейся в религиях мира фаллической символики. Скорее всего древнейшие люди, подобно современным индусам-шиваитам, древним египтянам или участникам дионисийских мистерий не имели в отношении этого символа никаких скабрезных или эротических ассоциаций. Фаллос был органом, дающим семя жизни и потому он становится образом животворения, жизнедательной силы. Смерть с неизбежностью побеждает индивидуальную жизнь, но в детях жизнь отцов продолжается. Потому фаллос становится во многих религиозных культурах символом преодоления смерти, триумфа над ней жизни. То, что первый случай фаллического культа оказывается связанным с неандертальцем и его странным поклонением медведю – особенно знаменательно [55]. В настоящее время памятники неандертальского поклонения медведю обнаружены на пространствах от испанских Пиренеев до нашего Кавказа. Считать, что памятники эти возникли случайно, в результате разбрасывания самими медведями костей своих умерших сородичей, как утверждает А. Леруа-Гуран [56], в высшей степени надуманно. Культ медведя безусловно существовал среди европейских неандертальцев. Но в чем была его суть? Чаще всего культ этот именуют охотничьим и приводят распространенные среди современных дикарей обычаи захоранивать отдельные части убитых ими животных, чтобы те вновь возродились и леса продолжали изобиловать дичью. Но случай снеандертальским культом пещерного медведя мало подходит под такое объяснение. Дело в том, что громадный медведь (до трех метров длиной и более двух метров высотой в холке), вооруженный страшными зубами и когтями, являлся слишком опасным объектом охоты для человека плейстоцена. И действительно, неандерталец, судя по его кухонным отбросам, в повседневной жизни предпочитал питаться безобидными копытными или грызунами. С помощью ловчих ям он довольно безопасно мог ловить шерстистых носорогов и даже мамонтов. Отправиться же в глубину пещер на медвежью охоту его могли заставить либо отчаянные обстоятельства, либо иные, не связанные с пропитанием, но жизненно важные цели. Судя по тому, как обращались с останками убитых медведей, эти хозяева пещер потребны были неандертальцу для каких-то религиозных целей. То есть, не культ медведя был следствием охоты, но охота на медведя была следствием культа. Примечательно, что к черепу медведя относились неандертальцы столь же почтительно, как синантропы и иные Homo erectus к черепам своих собственных сородичей. Не указывает ли это, что пещерный медведь как-то ассоциировался с предком? По времени культ медведя совпадает с изменением похоронного обряда – поклонение черепу предка замещается захоронением мустьерского типа. Видимо, в это время умерший из связующего звена между божественным и земным мирами превращается в объект заботы своих живых сородичей. Умершему надо помочь преодолеть смерть и тление – отсюда похоронный обряд неандертальца. Для дости жения же Неба начинают использоваться иные приемы и, в первую очередь, соединение с существом, символизирующим всемощного и вечного Бога.  Череп трехгодовалого пещерного медведя без нижней челюсти с аккуратно продетой через арку скулы бедренной костью более молодого медведя. Две длинные кости еще одного пещерного медведя образуют основание. Неандертальское «святилище» в пещере Драхенлох (Швейцария) Соединение наиболее естественно происходит при вкушении пищи, а символом Творца всего естественней могло выступить особенно сильное и внушающее страх животное или человек. По непонятным для нас причинам культ посредника человека-предка замещается в эпоху среднего палеолита культом пещерного медведя. Именно это мощное и наводящее ужас животное превращается в символ божественного. Медведей ловят, видимо с риском для жизни, и после обрядов, неизвестных нам, убивают. Их мясо вкушают с благоговейным трепетом, полагая его субстанцией самого Творца, и потому к костным останкам проявляют особо почтительное отношение. Их не разбрасывают где попало, но собирают, аккуратно складывают, ориентируют по частям света, защищают от разрушения специально возведенными стенками и «шкафчиками», возносят на каменное основание, как объект поклонения. В большинстве пещер, где поклонялись медведю, совершали медвежий культ, видимо не жили. Швейцарский Драхенлох расположен слишком высоко и неудобно, Петершёль далеко отстоит от водных источников. Скорее всего эти пещеры избирали специально для выполнения религиозных обрядов. Особое отношение к медведю до самого недавнего времени сохранялось в Европе. Наше слово «медведь» – поедатель, знаток (ведающий) меда, возникло в результате табуирования, запрета на произнесение подлинного имени зверя. Таким именем могло быть или общеиндоевропейское рикптос (отсюда санкритское рикшас, греческое – арктос), или иное древнее индоевропейское слово для обозначения этого животного, сохраненное в немецком языке bar (древнеиндийское – бхаллас) и отразившееся в нашем слове берлога – медвежья нора, логово. Народные предания называют медведя человеком в шкуре, рассказывают о похищении медведями женщин. Гербы и названия многих европейских городов – швейцарского Берна, Берлина, Ярославля, Перми напоминают о медвежьем культе. И то, что все мы в детстве не обходимся без плюшевого мишки – тоже туманное воспоминание древнего и страшного обряда, творившегося в пещерах Европы неандертальскими охотниками. Почему именно медведь привлек внимание неандертальца и стал для него символом Высшего Бога трудно сказать. Скорее всего имела значение сила зверя, его вызывающая ужас мощь. Может быть, как предполагают авторы «Археологического словаря» Уорвик Брей и Дэвид Трамп, медведь стал основным соперником человека в борьбе за редкие сухие пещеры с южной диспозицией, в которых можно было пережить долгие суровые зимы плейстоцена. Но, как бы там ни было «медведь… занял исключительное место во всем восприятии палеоантропа» [57]. Фаллический культ, связанный с медвежьим и зафиксированный для Зальцзофена, еще более убеждает в том, что медведю поклонялись не как охотничьему трофею и не с магическими целями привлечения новых животных в охотничьи сети, но ради самой жизни, ради соединения с Богом, символом которого стал для неандертальца его могучий сосед по альпийским пещерам. В 1939 году в Италии на горе Чирчео, высящейся над Тирренским морем на полпути от Неаполя к Риму в пещере Гуаттари (Guattari) палеоантрополог А. Л. Бланк нашел человеческий череп мустъерского времени, являвшийся объектом культа, типологически близкого медвежьему. В пещере, также недоступной из-за завалов и потому сохранившей в непотревоженном виде следы древней культуры, ученый обнаружил залу, по углам которой были сложены кости зубров и оленей – остатки ритуальных трапез, а в центре, в круге из камней, на боку лежал череп неандертальца с искусственно расширенным затылочным отверстием (см. рисунок). 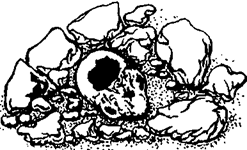 Человеческий череп в круге из камней – находка в пещере горы Чирчео. На рисунке ясно видно искусственно расширенное затылочное отверстие черепа. Итальянский антрополог Серджио Серджи исследовал череп и, обнаружив на нем следы ударов, предположил, что его обладатель, мужчина 40-50 лет был убит людоедами. Но другие исследователи, в частности отечественный археолог А. Окладников, сочли более правдоподобным религиозный характер находки. Круг камней мог символизировать солнце. Солярная символика в верованиях неандертальца не должна удивлять, если мы вспомним об ориентированных по оси восток-запад захоронениях. Солнце – символ победы над ночью и смертью. Череп первоначально был вознесен на шест, который, понятно, не сохранился за десятки тысяч лет. Почему неандертальцы не похоронили своего сородича, но, отделив его голову и изъяв мозг, на протяжении долгого времени поклонялись черепу, останется для нас навсегда неясным. Но то, что эта находка Бланка во многих деталях совпадает с памятниками медвежьего культа – очевидно. Медведь мог стать заменой человеку в обряде, требующем вкушения плоти уподобленной Богу жертвы. Однако у некоторых племен или в некоторых обстоятельствах такой замены почему-то не происходило и обряд сохранился в своей древней, раннепалеолитической форме поклонения человеческой голове. ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕАНДЕРТАЛЬЦА Этика не является самостоятельной формой человеческих отношений. Внимание к ближнему, стремление делать ему добро, умение поставить себя на место объекта своих действий и не творить другому того, чего не желаешь себе – суть те особенности поведения, которые обретают основание в признании за человеком великого предназначения к вечной и божественной жизни. Забота о человеке является заботой о божественном в человеке, проявление любви к человеку – проявление любви к его Творцу. Только очень поздно этика, отделившись от религии, попыталась стать самостоятельной. Если мы замечаем в древнем обществе высокие этические принципы, то с большой долей вероятности можем полагать его религиозно ориентированным. И напротив, когда мы обнаруживаем жестокость к человеку и животным, эгоизм, радость от страданий другого – то всегда замечаем и иные проявления религиозного упадка. Вне этики человек перестает быть человеком, превращаясь в зверя. Об этике древних обычно мы судим из книг, написанных ими, но неандертальцы писать не умели, и нам приходится делать выводы из скудных археологических находок. Однако, с другой стороны, дела, следы которых обнаруживают во время раскопок, порой красноречивее самых возвышенных слов. Во-первых, о нравственности неандертальца говорят захоронения. В ту суровую эпоху, невзирая на трудности жизни, мустьерские охотники не ленились откалывать могилы и по полному обряду предавать земле своих умерших. Равнодушие к мертвому телу – явный признак величайшей душевной черствости – было им неизвестно. Предавая земле своих мертвецов, напутствуя их в новую жизнь, они, должно быть, верили, что и их в урочный час не оставят без заботы и погребения. К своим больным и увечным соплеменникам неандертальцы также относились заботливо и внимательно. Они не проявляли животной жестокости к тем, кто не в силах был защитить и прокормить себя. Скелет того неандертальца, который был найден в долине Неандера и дал имя всему роду, имеет следы многих болезней и ранений, залеченных так, что он дожил примерно до пятидесяти лет – возраст весьма немалый для той трудной жизни. На Кармиле найден скелет с ранением острым пикообразным предметом, пробившим тазовую кость. Такое ранение надолго оставляет человека обездвиженным, и тем не менее раненый выжил, кость срослась. Кто-то носил ему пишу, поил водой, лечил травами. Пожалуй самым ярким свидетельством «гуманности» неандертальца является «старец» из Шанидара. Слепой с детских лет, с ампутированной по плечо правой рукой, много болевший, он безусловно был обузой своему племени и тем не менее дожил почти до шестидесяти лет. Общество, где новорожденных хоронят с той же заботой, что и взрослых, и питают увечных слепцов, бесполезных с утилитарной точки зрения, такое общество нельзя не признать этически ориентированным. * * * Религиозность человека среднего палеолита проступает для нас достаточно ярко и выпукло. И потому недавно еще бытовавшие в советской науке определения ныне кажутся малоубедительными: «Все наши знания о мозге неандертальца, – писали авторы учебника «История первобытных обществ» в 1974 году, – свидетельствуют, что у него еще не могло быть сколько-нибудь оформившихся отвлеченных представлений и что, следовательно, даже простейшие из этих представлений могли зародиться в лучшем случае в позднемустьерское время. Поэтому, допуская мысль о появлении у неандертальцев каких-то начатков религии, советские исследователи решительно отвергают попытки усматривать в мустьерских захоронениях сложный погребальный ритуал, представления о душе, боге и загробной жизни, и в конечном счете, доказательство извечности религиозной идеологии» [58]. Но тот же Алексеев через три года писал иное: «Активная дискуссия вокруг проблемы неандертальских погребений в конце концов закончилась их признанием, так как факты, свидетельствующие об этом, слишком демонстративны: правильно ориентированное по сторонам света положение погребенного, следы погребальных ям, обкладка трупа черепами животных и т. п.» [59]. Все что мы знаем о мозге неандертальца ровным счетом ничего не говорит ни за, ни против его способности к «отвлеченным представлениям». Мы знаем, что он обладал речью и владел правой рукой лучше, чем левой, но какой структуры должен быть мозг для способности к вере в Бога – этого науке не известно. Однако следы материальной культуры неандертальца безусловно говорят нам о нем, как о Homo religiosus и позволяют уверенно считать этого палеоантропа способным и к сложному погребальному ритуалу, и к представлениям о бессмертии души, о Боге и загробной жизни. Именно следы материальной культуры неандертальца убеждают нас в том, что его мозг, не во всем сходный по структуре с нашим, был, однако, вполне годен для «отвлеченных религиозных представлении». Это отнюдь не значит, что неандерталец был каким-то идеальным дикарем. Известны убедительные свидетельства людоедства (Крапинская стоянка), нанесения ран и даже убийства человека человеком в ту далекую эпоху. Но эти отдельные факты, еще раз подчеркивая несовершенство человеческого существа, только больше оттеняют порыв к вечности и добру неандертальского человечества. Лекция 3. РЕЛИГИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА Вступление Примерно 75-35 тысяч лет назад в Евразии происходят знаменательные события – некоторое потепление климата III межледникового периода сменяется новым и очень суровым оледенением. Именуемое Вюрмским, это последнее, четвертое по счету, как ныне полагает большинство специалистов, оледенение, превратило всю северную часть Евразии в непригодный для человеческого существования ледник. Лед полностью покрыл Скандинавию, затопил Балтийское море и даже распространился более чем на сто километров к югу от него. Льдом была затоплена и вся Северная Россия. Ландшафты Франции, Средней Германии, берегов Дуная и Днепра превратились в тундру. Это новое оледенение совпало с исчезновением неандертальца. Находки его останков становятся редкими в конце мустье, а около 35 тысяч лет назад и вовсе исчезают. Отныне в Евразии безраздельно господствовал Homo sapiens. Что произошло с неандертальцем, вымер ли он, смешался ли с современным человеком – на этот счет делаются только предположения. Человека верхнего палеолита, анатомически совершенно сходного с нами, обычно именуют кроманьонцем по первой научно описанной находке его останков близ деревни Лез-Эйзи (Дордонь, Франция) в гроте Кро Маньон в 1886 году. Материальная культура кроманьонцев существенно более развита, чем культура среднего палеолита, каменные орудия намного разнообразней, лучше отделанны и отшлифованы. Кроме камня кроманьонцы широко использовали кость и, разумеется, дерево, для своих потребностей. Не вовсе пренебрегая пещерами, кроманьонцы научились строить жилища, видимо неплохо защищавшие их от суровых зимних холодов. Мы находим остатки землянок и следы обширных жилищ шатрового типа, которые делались, скорее всего, из сшитых шкур животных. Кроманьонцы оставались преимущественно охотниками. Природные условия Вюрма делали собирательство надежным источником пищи только в южной, средиземноморской, зоне их проживания. Мнение, что кроманьонцы сумели одомашнить северного оленя, высказываемое рядом ученых, не подтверждается фактами. Но в охоте кроманьонцы достигли очень высокого мастерства, безусловно превзойдя и такого знатока охотничьего дела, каким был неандерталец. Именно кроманьонцу скорее всего принадлежит честь изобретения лука и стрел, гарпунов и острог для битья рыбы. Он бесстрашно охотился на таких огромных животных как мамонт, шерстистый носорог, пещерный и бурый медведь, пещерный лев, зубр и тур, используя многочисленные приемы и хитрости. Что же касается более мелких копытных, грызунов, птиц и рыб, то они составляли повседневное меню древнего охотника. Но, пожалуй, главное отличие кроманьонца от более древних людей состоит в том, что он стал рисовать и ваять. Художества неандертальца крайне редки, примитивны и почти всегда сомнительны по своей атрибутации, искусство же кроманьонца, открытое в конце XIX века, известно ныне многими десятками целых живописных собраний и потрясает своим совершенством, художественной и эстетической проработанностью. В нем, в лучших его образцах, мы сталкиваемся не с наивным примитивом, не с робким освоением техники, но с твердой рукой и точным глазом гениального художника, создавшего шедевры предельного уровня совершенства. Испанская Альтамира, французские Ляско и Нио без каких-либо оговорок встают в один ряд с залами Уффици и Прадо. Но искусство кроманьонца существенно для нас не только своим эстетическим содержанием, но и тем, что оно рассекает первое окно в мир наших предков. В изящных искусствах человек может выразить себя во много раз полнее, чем в погребениях и каменных орудиях. От живописи франко-кантабрийских пещер остается только один шаг до предельного уровня совершенства в передаче знания о себе потомкам, достигнутого запечатленным в письме словом. По особенностям памятников материальной культуры верхний палеолит обычно подразделяют на следующие временные периоды, наименованные по местам классических для этого периода находок: 65-35 тысяч лет до Р. Х. Поздний Мустье 35-25 тысяч лет до Р. Х. Ориньяк (Граветта) 25-20 тысяч лет до Р. Х. Солютр 20-10 тысяч лет до Р. Х. Мадлен Большая часть памятников верхнего палеолита имеет безусловно религиозный характер. Описание и систематизация их требуют времени, которого у нас нет, но мы не должны забывать, что, по верному замечанию современного американского философа Хьюстона Смита «Религия в первую очередь не собрание фактов, но собрание смыслов. Можно бесконечно перечислять богов, обычаи и верования, но если это занятие но дает нам возможность увидеть, как с их помощью люди преодолевали одиночество, горе и смерть, то сколь бы безукоризненно точно это перечисление не было сделано, оно не имеет к религии ни малейшего отношения» [60]. Попробуем же за фактами верхнепалеолитических находок увидеть их значение в духовных исканиях кроманьонца. ПОГРЕБЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА Трупоположение и бесспорно религиозное погребение характерно уже для неандертальца, но в течение всего верхнего палеолита сложность связанного с захоронением обряда, а следовательно, и затрата сил и средств на погребение все время возрастают. Умерших, как правило, хоронят в богатых одеждах (от них остались нашитые на истлевшие кожи раковины), снабжают оружием и утварью, пищей и предметами неясного, но очевидно религиозного назначения. Мы не можем предполагать, что верхнепалеолитические охотники были очень богаты и располагали необъятным досугом, скорее напротив, их жизнь протекала в напряженной борьбе за выживание в условиях сурового климата и массы всевозможных опасностей. Но на погребение своих близких они не жалели сил. Распределение усилий по сферам деятельности лучше всего говорит о склонностях и стремлениях человека. Стремления и склонности кроманьонца в очень большой степени определялись жаждой преодоления смерти, надеждой на обретение новой жизни. Классическим можно считать ориньякское захоронение, найденное в конце прошлого века в Брно (Моравия). Высокий и ладно сложенный мужчина лет 40-50 был положен в сравнительно глубокую (ок. 120 см)специально ископанную могилу, дно которой заранее обильно посыпали охрой. Поскольку у головы покойного палеоантропологи нашли около шестисот раковин трубчатого моллюска Dentalium badense, то можно предположить роскошную шапку или головную повязку. В могилу были также положены маленькая мужская фигурка из слоновой (мамонта) кости, два каменных кольца и множество дисков из камня, кости и мамон товой кости.  «Копьеметалка», украшенная фигуркой глухаря (музей Сен-Жермен, Франция). Сравнительно часто в верхнепалеоолитических погребениях находят странный предмет – тщательно выделанный и нередко богато орнаментированный каменный жезл с овальным или круглым отверстием с одного из концов. Как его только не величали археологи – жезл вождя, выпрямитель копий, копьеметалка и т. п. Но нахождение этих предметов в могилах намекает на их религиозное предназначение. Мадленская «копьеметолка» из Мас д'Азиль (Франция, департамент Арьеж) лучше иных выражает символику нового рождения. Птица – видимо, душа умершего, устремляющаяся к новому рождению из утробы земли (отверстие в основании жезла связано, должно быть, с вульварной символикой). Можно предположить, что такие жезлы клали в могилы тех людей, которые совершали священнодействия, соединяя миры и помогая умершим соплеменникам в достижении Неба Сверху тело опять посыпали охрой, накрыли лопатками мамонта и только после этого предали земле. Охра очень часто, почти повсеместно используется кроманьонцем как в заупокойном ритуале, так и при иных религиозных обрядах. Она символизирует кровь, жизнь и, говоря словами Э. О. Джеймса, «выражает намерение оживить умерших через соединение с веществом, имеющим цвет крови». Не исключено, что именно этот обычай положил начало устойчивой ассоциации «того света» с цветом кропи во многих религиозных традициях. Мужская фигурка, надо сказать уникальная для верхнепалеолитических захоронений, возможно изображала самого умершего и должна была, как это будет принято через двадцать тысяч лет в Древнем Египте, стать и той моделью, по которой восстановится плоть покойного после воскресения, и одновременно вместилищем его духа до воскресения. Каменные кольца довольно часто встречаются в погребениях этого времени. Может быть они символизировали женские креативные органы самой Матери-Земли, из чрева которой должен возродиться умерший. Множество каменных дисков кажутся какими-то погребальными приношениями близких. Не являются ли они символами солнца, ежедневно побеждающего смерть, а может быть и знаком того Высшего Существа, которое так часто именуется Солнцем в более поздних традициях. Наконец, лопатки мамонта и его положенные рядом с умершим бивни почти наверняка должны были символизировать присутствие божественного покрова над человеком и свидетельствуют не просто об уповании воскресения, но о надежде на воскресение в лучшем чем этот, в божественном мире. Та тщательность, с которой осуществлено это захоронение, безусловно свидетельствует нам о том, что жившие 25-30 тысяч лет назад в Моравии люди верили в посмертное существование человека, скорее всего надеялись на телесное воскресение и для осуществления своих чаяний охотно шли на большие жертвы. Подобных этому брюнскому захоронений найдено немало. Так хоронили и женщин, и детей, и даже новорожденных. Иногда тело умершего клали на горящий костер и лишь после того, как огонь прогорал, предавали земле. Обычай этот наверняка уподоблял человеческое тело иным огненным жертвоприношениям, которые должны, поднимаясь в огне, рождаться вновь в небесном, божественном мире. Обилие трубчатых и двустворчатых раковин моллюсков (даже теплолюбивых каури) во многих кроманьонских погребениях позволяет предположить, что это не просто украшение одежды покойного. Для повседневной жизни того времени такая обшитая хрупкими раковинами «кожаная риза» крайне неудобна. Видимо, мы имеем дело со специально сшитым заупокойным облачением. Тогда обилие раковин определенной формы становится понятным. Они обозначали мужские и женские креативные органы (раковины каури до сих пор сохранили такое символическое значение) и, следовательно, воскресение, новое зачатие и рождение – воз-рождение, в буквальном смысле этого слова. Например, в кроманьонском погребении в Ложери-Басс (Франция) раковины каури лежали парами у лба, рук и ног и по четыре у локтей и колен умершего, что почти наверняка должно было означать возрождение из лон земли этих членов, а в конечном счете – всего тела. Но не все погребения имеют такой торжественно спокойный характер. В полной противоположности к ним оказываются находки связанных после смерти тел, иногда лишенных каких-либо заупокойных даров; людей, похороненных лицом вниз под грудой тяжелых камней; расчлененных трупов. Видимо, в отношении некоторых из своих умерших погребавшие их люди имели опасения, что мертвый может, выйдя из могилы, вредить живым. Чаще такого рода захоронения принадлежали женщинам. Так, характерна находка в Вестоницах (Моравия) крепко связанного тела 35-40-летней женщины. Одним из объяснений этих необычных захоронений может считаться ритуальная нечистота умерших. Для женщин – это, возможно, смерть в родах. Соплеменники боялись, должно быть, не самого умершего, но того, что в его «нечистое» тело может войти какой-нибудь злой дух и побудить тело прервать свой сон, не дожидаясь всеобщего воскресения. На другую, быть может слишком смелую, интерпретацию, наводят древнейшие заупокойные тексты человечества, начертанные в долине Нила, в Египте в III тысячелетии до Р. Х. В 23-м речении «Текстов ковчегов» [СТ. 23], о которых нам еще придется подробно говорить на лекциях, посвященных религии Древнего Египта, провозглашается в отношении умершего: «О (имярек)! Тебя не будут подвергать испытанию, тебя не заключат в узилище, тебя не будут ограничивать, тебя не будут связывать по рукам и ногам, тебя не будут брать под стражу, не будешь отведен ты в место страданий, куда отводят мятежников (т. е. нарушителей божественных установлений) и песок не будет сыпаться на твое лицо (то есть тело не будет брошено в яму в пустыне без надлежащих погребальных облачений и плата, покрывающего лицо, как объясняет это место переводчик «Текстов саркофагов» на английский язык P. O. Фолкнер). Будь внимателен, будь осторожен и никто не воспротивится тебе. Остерегайся пойти в путь неготовым. Приими посох твой и суму твою, облачения твои, сандалии и стрелы, отправляясь в путь, которым будешь шествовать ты. Дабы мог ты отрубить головы и рассечь шеи врагам твоим, мужчинам и женщинам, которые окажутся близ тебя умершего. «Поспешай и прийди!» – таковы слова Бога, который приводит его (умершего) в день обвинения». В другой надписи, даже чуть более древней чем первая, от лица правителя объявляется каким-то законопреступникам: «Воистину мое величество запретит им, дабы не были они во главе воскресших блаженных в миро божественном, но дабы пребывали они связанными и скованными, ибо осуждены они Владыкой Осирисом (царем умерших)» [Urk. I. 305, 17-18]. Мы видим, что через 20-25 тысяч лет после брюнского и вестоницкого захоронений, бросали в яму без облачений, без правильного погребения, без «посоха и стрел», со связанными руками и ногами не из-за страха, что умерший встанет, но желая изобразить, как с законопреступником поступят на загробном суде. Тело грешника становилось своеобразной иконой мучений и гибели его души в инобытии, и, одновременно, поскольку образ и первообраз, тело и личность до конца, скорее всего, не разделялись по представлениям древних, должно было усиливать страдания души, лишенной божественного блаженства и воскресения. Так ли думали ориньякские охотники на мамонтов как их далекие потомки в долине Нила, или они руководствовались иными мотивами, торжественно погребая одних из умерших и «казня» тела других, но ясно одно – «Люди последней ледниковой эпохи хоронили своих мертвецов в безусловной уверенности их будущей телесной жизни. Они, кажется, также считали, что в телах умерших продолжает длиться какая-то жизнь» [61]. Если бы кроманьонские охотники не были убеждены в воскресении своих умерших, они наверняка не стали бы придавать такого значения заупокойному ритуалу и сохранению их физических останков. Но простой опыт безусловно свидетельствовал им, что такое воскресение не наступает вскоре – кости предков продолжали истлевать в земле несмотря на охру, бивни мамонтов и ракушки каури. И то, что это не обескураживало древних охотников, не взращивало в них безверие, заставляет предполагать, что кроманьонцы ожидали победы над смертью не вскоре, но в далеком будущем, когда все их ритуальные усилия принесут бесценный плод полносоставного телесного воскресения, или, если смотреть иначе, тo символическое воскресение, обретет чаемую безусловность реальности. ДУШИ УМЕРШИХ Но ожидание воскресения умерших отнюдь не означало для кроманьонца их полного исчезновения из жизни живых до наступления этого чаемого мига. Хотя кости покойников лежали в могилах, их души и силы оставались частью племени и принимали какое-то участие в жизни. О том, что так думали верхнепалеолитические охотники, мы можем догадываться по некоторым странным, на первый взгляд, находкам. В Ля Рош (Дордонь) в мадленском слое был найден овальный предмет из рога северного оленя около 16 см длиной. На нем ясно виден геометрический орнамент с доминирующей трехчастной символикой (см. рис.), а на одном из концов просверлено отверстие. Его истертый край убеждает в том, что предмет носили на каком-то шнурке. Очень похожие предметы с геометрическим орнаментом, только сделанные из дерева, до сих пор употребляют австралийцы, Они именуются ревунами и используются для общения с умершими предками. Когда по ревуну проводят специальными предметами (гребнем, шкурой тотемного животного) он издает звуки, в которых аборигены слышат голоса предков. На ревуне из Ля Рош сохранились следы охры, что безусловно указывает на связь предмета с заупокойным ритуалом и потусторонним миром. 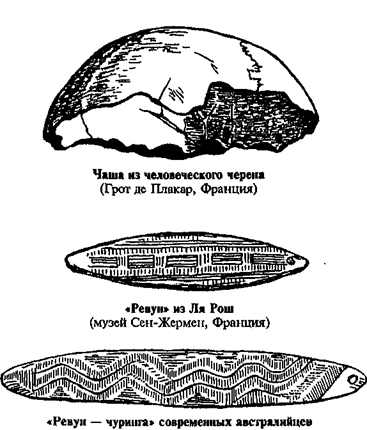 Мы не знаем, знакомы ли были кроманьонцы с начатками счета, но трехчастная символика лярошского ревуна вряд ли случайна. Число «три» практически во всех религиозных традициях имеет особое, священное значение, ассоциируясь обычно с жизнью, явлением Абсолюта в акте творения (преодоление одиночной замкнутости и двойственности), продолжением рода – от союза мужчины (единица) с женщиной (двоица) рождается ребенок (триада). Трехчастность свидетельствует о том, что кроманьонцы воспринимали род не только устремленным в будущее, но и выходящим из глубин прошлого. Они сознавали его единство и верили, что смерть, осложняя, тем не менее не прекращает полностью общения с родоначальниками, которые живы и ждут часа своего воскресения. Эта вера запечатлелась и в еще одном обычае, безусловно распространенном среди кроманьонцев. Хотя большей частью люди верхнего палеолита хоронили своих умерших, иногда они, как и в предшествующие эпохи, хранили черепа в жилищах живых или в специальных святилищах. Почему к разным умершим применяли различные ритуальные практики мы не знаем. В «гроте Мужчин» близ Арси сюр Кюр (Йонна, Франция) черепа аккуратно поставили на отдельно стоящий камень. Но в Гротт до Плакар ученые встретились и с иным обычаем. Были найдены верхи черепных коробок с явными следами, что головы их обладателей были отсечены от тел, а мягкие ткани счищены каменным орудием, после чего нижняя часть черепа была отсечена от верхней. Из черепной коробки сделали чашу для питья. Всегда думавшие скептически о нравственных достоинствах доисторического человека археологи тут же предположили банальное людоедство, да еще соединенное с жуткой практичностью в использовании останков жертвы. Более тщательное исследование заставило отказаться от этой версии происхождения чаш. Все четыре черепа – чаши из Гротт до Плакар были найдены в слое солютр и одном мосте – в глубине пещеры в конце небольшого коридора, рядом аккуратно были положены две длинные кости, также принадлежавшие человеку. В одной из чаш еще сохранилась охра, которой она когда-то была наполнена. «Безусловно, эта часть пещеры использовалась в качестве святилища. Люди солютра, а затем и мадленцы исполняли здесь какой-то культ, связанный с черепом, и ритуал включил подношение охры» [62] – указывает Марингер. Ныне такие чаши из черепов известны многими находками от Испании (Кастилло) до Моравии (Нижние Вестоницы). Чтобы их понять нам придется все же прибегнуть к аналогиям из современной этнографии и из истории. Путешествовавший по Южной Австралии в XIX веке Джордж Френч Ангас пишет о десятилетней девочке, повсюду носившей часть черепа своей матери и пившей из него, чтобы сохранить общение с умершей. В Бенгалии Джеймс Роннел видел прекрасно отлакированные чаши из черепов предков, из которых пили в дни их поминовения. На ту же практику – тибетцев указывают средневековый путешественник Уильям Рюсбрукский (XIII век) и современная исследовательница Тибета Александра Давид-Ноэль. Да и «отец истории» Геродот пишет, что иссидоны пили из отделанных в золото черепов предков, дабы ясно помнить о них. А тевтоны, по сообщению Плутарха, делали чаши из черепов тех своих убитых врагов, которые отличились особен ной храбростью. Вкушая из них, они хотели приобщиться их мужеству.  Пантелеймонов монастырь (Афон). Древний обычай почитания в черепе личности умершего удивительным образом сохраняется до сего времени в монашеских обителях Афонской Горы. В крипте, посреди стеллажей, на которых ровными рядами стоят черепа с написанными на лобной кости именами усопших иноков, день и ночь живые творят заупокойные молитвы Все эти разновременные свидетельства говорят об одном – череп, бывший вместилищем мозга, сохраняет какое-то духовное, незримое содержание, какую-то частичку личности умершего, которой могут приобщиться живые. Материальные останки умершего были для кроманьонцев не бесчувственным прахом, но одним из элементов, одной из составных частей их умершего сородича, оставшейся в их мире, дабы с ее помощью можно было вступать в общение с ушедшим в инобытие. Эта часть хранила что-то от личности усопшего, она была символом умершего человека. Но как и в случае с иными символическими образами, здесь он сохранял качества и силы первообраза, самого умершего предка. Заупокойный ритуал кроманьонцев, в котором, судя по остаткам в них охры, использовались чаши из черепов, еще более укреплял эту связь и делал умерших предков частью мира живых. РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ живописи Верхнепалеолитическая живопись была открыта в 1879 году маленькой дочерью испанского дворянина Марчеллино де Сатуоло. Он взял девочку с собой посмотреть на случайно открытую им за несколько лет до того во время псовой охоты пещеру. Марчеллино шел впереди со светильником, девочка, с замирающим от восторга и страха сердцем почти бежала за отцом. И вдруг Марчеллино услышал ее крик: папа, папа, быки! Для детского глаза многоцветные подтеки по потолку и сводам пещеры Альтамира сложились в замечательных зверей. Вскоре их разглядел и отец. Не прошло и нескольких лет, как весь культурный мир говорил о скальной живописи доисторического человека, тем более что открытия следовали одно за другим. Конец XIX – начало XX века было в Европе временем утонченного эстетизма Югенстиля, который в России прозвали «модерном», и почти полного равнодушия к глубинному смыслу религиозной жизни. В религии в то время тоже предпочитали искать эстетическое начало. Красоты палеолитического искусства взволновали общество, но о том, для чего оно создавалось, мало задумывались. Казалось само-собой очевидным, что в человеке просто проснулось чувство прекрасного и он стал вдохновенно творить. «Искусство для искусства» – было девизом того времени, и воззрение это с решимостью перенесли на 20-30 тысяч лет в прошлое, приписав кроманьонцу. Жестокий XX век принес и отрезвенье упоенному эстетизмом европейцу, и собрал довольно фактов, чтобы переосмыслить суть палеолитической живописи. В начале было обращено внимание, что и в живописи пещер, и в найденных позднее скульптурах животных, изваянных в то же время, немалое число сюжетов составляют сцены охоты, вернее, изображения поражаемых стрелами, копьями и камнями животных, иногда – истекающих кровью. И хотя при всей многочисленности такие сюжеты далеко не главенствовали в пещерном искусстве, палеоантропологи к концу 1930-х годов согласились на том, что побудительным мотивом кроманьонского искусства являлась симпатическая магия, то есть убеждение, что, изобразив перед охотой пораженного стрелой зверя, можно с уверенностью надеяться поразить его и в грядущей травле. Этнография давала необходимый дополнительный материал: некоторые примитивные племена, например пигмеи, – перед охотой действительно рисуют на песке животное, которое они собираются убить и на рассвете дня охоты, с первыми лучами солнца, поражают изображение охотничьим оружием, рецитируя определенные заклятия. Охота после этого, как правило, бывает удачной, и животное поражается именно в то место, которое пронзило копье на рисунке. Но после завершения охоты рисунок никогда не сохраняется. Напротив, на него изливают кровь (то есть жизнь-душу) убитого животного, а потом изображение изглаживается пучком отстриженной от шкуры шерсти. При казалось бы полном сходстве охотничьей магии пигмеев с памятниками палеолитической живописи сразу же заметны очень важные отличия. Во-первых, большинство животных все же остается на пещерных «фресках» непораженными, часто художник тщательно рисует их мирную жизнь, любит изображать беременных самок и животных во время брачных игр (впрочем, с завидной стыдливостью). Во-вторых, изображения делаются «на века» прочнейшими, имеющими долгую и очень трудоемкую технологию изготовления красками. Для пигмейского волхва важно изобразить животное, поразить его, потом, полив кровью, как бы вернуть убитому жизнь. После – изображение пораженного животного только мешает его возрождению и потому немедленно уничтожается удачливым колдуном. Палеолитический охотник почему-то вовсе не стремился после успешной охоты считать дело оконченным. Его стремления были противоположного свойства. В-третьих, колдуну, как правило, важно приблизить свое волхование к месту и времени события, на которое он хочет повлиять. Желая убить антилопу, пигмеи «убивали» ее изображение на рассвете дня охоты, на той же земле и под тем же небом, которые должны были стать свидетелями их охотничьего искусства. Совсем иначе поступали художники франке-кантабрийских пещер. Они казалось бы намеренно избирали самые темные, потаенные уголки, часто исключительно труднодоступные и, по возможности, поглубже уходящие в землю, в толщу горы. Иногда, после завершения работ, вход заделывался каменной стенкой, вовсе препятствуя проникновению людей в такую странную, остающуюся в кромешной тьме, «картинную галерею». Но даже вооружившись фонарем, вы не всегда сможете всласть полюбоваться древними художествами. Они то нарисованы на сводах крайне низких и узких тоннелей, где приходится ползти на спине, чтобы что-то увидеть, то, наоборот, вознесены на высоту многих метров загроможденных сталагмитами залов и, чтобы рассмотреть приглянувшийся сюжет, приходится взбираться на крошечный уступ в нескольких метрах от пола пещеры с риском сломать шею. Например, в известнейшей ныне французской пещере Ляско, о которой нам еще придется немало говорить, путь к живописным сокровищам идет через вертикальную шахту глубиной почти в 6 м , из которой невозможно выбраться без веревочной лестницы. В громадной пещере Нио, проходящей через всю толщу горы серией коридоров, залов, закоулков и шахт общей протяженностью 1200 м , живопись начинается только через 400 м от входа. В пещере Фон де Гом, длиной в 130 м первые рисунки встречают вас через 60 м от входа. Чтобы добраться до знаменитых фресок в гроте Трех Братьев, надо полчаса идти по бесконечным темным коридорам и залам. При том древние художники, в отличие от их нынешних собратьев, кажется, вовсе лишены были профессионального честолюбия. Они избегали работать там, где жили их соплеменники. Кроманьонцы селились, как правило, недалеко от входа в пещеру, если уж избирали этот вид жилища, а рисовали подальше от стойбищ, в сокровенной тишине подземелий. Но особенно любили они избирать галереями пещеры, вовсе не приспособленные для жилья, где никаких следов повседневной жизни кроманьонца археологи так и не обнаружили. Как раз Ляско с ее труднодоступностью и промозглостью оказалась особенно желанным местом для древнего художника. Но если живопись в верхнем палеолитие не украшала быт и не помогала добыванию пищи, то зачем же старались пещерные художники? Современному, утилитарно мыслящему человеку, услаждающему себя пищей и, в лучшем случае, любованием красотой, трудно понять иные цели труда. Но странности палеолитической живописи заставляют искать нетривиальный ответ. Кроманьонцы навыкли хоронить в земле своих мертвецов. И если они стремились поглубже в глубинах земли оставить изображения, то скорее всего и эти изображения имеют отношение не к этому надземному, но к тому подземному (инфернальному) миру. Они пытались скрыть изображения от глаз случайных зрителей, а часто – и от зрителей вообще – следовательно не человеку были предназначены они, или уж точно – не всякому человеку. Это были картины, предназначенные для обитателей подземного мира, для душ умерших и духов преисподней. Это были картины того охотничьего рая, куда уходили предки и в котором они пребывали в ожидании воскресения. Духи, в отличие от живых, не могут поражать животных стрелами и копьями, но они нуждаются в крови жертвенных животных, чтобы там вести полноценную (полнокровную) жизнь и помогать обитателям этого мира. И потому изображены на сценах охоты истекающие кровью, умирающие животные. Это – вечно длящиеся жертвоприношения усопшим. А сходящиеся и беременные животные вечно умножают стада жертвенных зубров, лошадей, медведей, оленей и горных козлов. Жизнь того мира не прекращается, и жертва не прекращается, и благоденствие предков не омрачается всегда возможным для кратковременно живущих здесь людей забвением. Стремясь, видимо, утвердить жертвенный характер изображений, древние художники подмешивали в свои краски частицы сожженной плоти животных, их кровь и мозг, взятые, скорее всего, от телесных жертв. Кое-где в залах, полных изображениями райских стад, ученые нашли остатки плошек жировых светильников, охру и даже отпечатки в окаменевшем иле босых человеческих ног. Видимо, посвященные в древние таинства жизни и смерти пробирались по бесконечным запутанным коридорам в запретные для других подземные святилища и там, в мерцающем свете чадящих ламп, танцем, песней и кто ведает как еще разрывали тот покров, которым отвека мир живых отделен от мира усопших. Крупнейший специалист в области палеолитической живописи А. Леруа-Гуран [63] указал на интереснейшую ее особенность – «исключительное единообразие художественного содержания» – «образный смысл изображений, кажется, не изменяется с тридцатого до девятого тысячелетия до Р. Х. и остается одним и тем же от Астурии (западная часть Пиринейского полуострова. – А. З.)до Дона». Это явление сам французский ученый объяснил существованием «единой системы идей – системы, отражающей религию пещер». Географические пределы этой «религии» можно еще расширить, имея в виду очень сходные с франко-кантабрийскими, хотя безусловно и несколько упрощенные, «провинциальные» росписи Каповой пещеры Южного Урала. В чем причина казалось бы совершенно невозможного, в ту далекую эпоху малочисленного и разделенного человечества, единства и устойчивости художественного стиля мы, скорее всего, не узнаем никогда. Но это пространственное единство и временная устойчивость стиля являются косвенным свидетельством того, что для ориньякского и мадленского охотника живопись являлась не развлечением, не искусством для искусства, но значительнейшим для жизни делом. В эпоху верхнего палеолита религиозный гений человечества делает великое открытие. Можно, нарисовав изображение жертвы, быть уверенным, что она вечно будет приноситься, независимо от участия людей в тайнодействии. Жертву телесную, которую, судя по остаткам пищи на могилах, 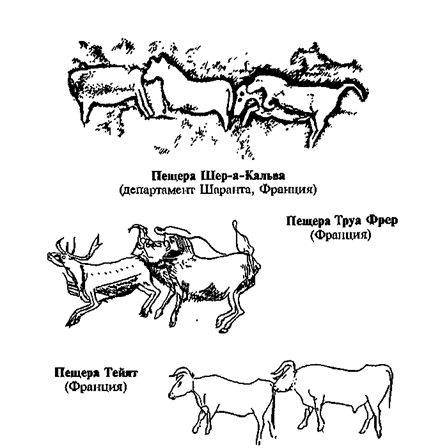 Пасущиеся в полях иного мира, отрицающиеся и размножающиеся животные, которых в этом мире верхнепалеолитические охотники приносили в жертву, ища соединения с Богом, должно быть отражали их веру в вечно длящееся жертвоприношение, свершающееся в том прекрасном мире, куда, завершив земной путь, уходят люди, искавшие единения со своим Творцом еще в этой жизни. Райские «поля великих жертвоприношений» изображались с великим тщанием в сокровенной глубине пещер приносили уже неандертальцы, а то и синантропы, кроманьонец дополнил жертвой изображенной, но оттого, не менее значительной, а напротив, не единовременной, вечной. В великом поединке со смертью человек начал осваивать новый прием, который, казалось бы, приближает победу. Можно ли полагать этот новый прием «магическим»? Большинство исследователей верхнепалеолитической живописи, как бы они ее не объясняли, однозначно говорят – «да» [64]. Но такая однозначность ответа объясняется двумя специфическими особенностями собственного сознания этих ученых. Будучи в своем большинстве выходцами из протестантских обществ, они с детства заражены своеобразным иконоборческим импульсом. В мысли о том, что сделанное человеком изображение ведет его к изображенному объекту, такие исследователи усматривают «привкус жажды магического обладания». Для них и христианская икона есть магический объект. С другой стороны, протестантизм Лютера принципиально отрицает посмертную жизнь души. До последнего воскресения и суда умерший пребывает как бы в беспробудном сне. Потому-то любые заупокойные обряды не приемлются строгим лютеранством. Отсюда – стремление установить отношение с душами умерших предков для ученых лютеранской культуры – это тоже «суеверие», магизм. Магия в этом случае превращается просто-напросто в «плохую религию». Однако смысл магии можно определить намного строже. Магия есть определенная религиозная практика, ориентированная на подчинение духов или положительное (привлечение их сил себе в подмогу) или отрицательное (так называемая защитительная магия, когда воздействия духов стараются избежать). В теистических религиях (то есть в таких, которые ориентированы на Бога-Творца) магия занимает всегда более или менее скромное и подчиненное место. В тех же религиях, где Бог-Творец «вынесен за скобки» актуальной религиозной практики и адепт всецело погружен в мир духов (такие религии я именую демонистическими – от греч. «????????» – дух, низшее божество), магия становится, из-за устранения Бога-Творца, основной религиозной практикой. Поэтому демонистические религии часто именуют магическими, или, попросту, магией, оставляя право именоваться религией только за религиями теистическими. В отличие от религиозного, магическое сознание стремится овладеть духовным миром, подчинить его своей воле. Религиозное же сознание, напротив, желает само, избавившись от своеволия, подчинить себя воле своего Создателя – Бога. Сама по себе палеолитическая живопись не позволяет нам, как бы мы ее не интерпретировали, безусловно определить ее как магическую или религиозную. Очень часто и религия, и магия пользуются одними и теми же объектами, вкладывая в них различный смысл и преследуя вовсе несходные цели. В руках палеоантрополога имеются только материальные объекты и если он не установит за ними определенный духовный смысл, он может их с равным успехом считать и магическими и религиозными. «Магические практики, – указывал А. Йенссен, одним из первых усомнившийся в магизме кроманьонской живописи, – представляют собой всего лишь аппликацию старинных культовых действий, более не сознаваемых ясно и потерявших первоначально свойственный им религиозный смысл» [65]. Но как установить, что имеем мы в верхнем палеолите – религиозное стремление или его «магическую аппликацию»? А. Бруннер в своем прекрасном исследовании указал на важнейшее отличие содержательной стороны магии от религии: «Мы можем рассматривать магию как нечто враждебное собственно религии, утверждающееся по мере увядания религиозной жизни и подмены идеи Бога интересом к иным духовным сущностям» [66]. Это последнее замечание очень важно. Магист не может уютно жить с Богом. Своим Творцом он овладеть не может, а потому предпочитает забыть о Нем, вынести Его «за скобки» и остаться в мире духов – таких же сотворенных сущностей, как и он сам, с которыми иметь дело попроще. Итак, чтобы ответить на вопрос – магия или религия побуждала творить кроманьонского художника, нам необходимо рассмотреть представления о Боге в верхнем палеолите. ИДЕЯ БОГА В ВЕРХНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ Вернемся ненадолго к брюнскому захоронению. Когда ориньякские охотники хоронили своего товарища, то они положили рядом с его телом посыпанные охрой бивни мамонта и накрыли тело лопатками мамонта. Эта особенность погребального обряда была повсеместно распространена в Евразии 35-20 тысяч лет назад. В могилах времени Ориньяка и Солютра постоянно встречаются части черепов мамонта и его клыки. В самом Солютре, давшем название культуре, в валлийском Пэйвилэнде, в немецком Клаусе, на пространствах Великой южнорусской степи – повсюду археологи встречают захоронения этого типа. В Вестоницах даже связанную, лишенную какого-либо погребального инвентаря женщину похоронили все же под лопаткой мамонта. В Предмостье склеп ориньякских охотников также был устроен из лопаток мамонта. На Десне К. Поликарпович обнаружил в 1935 году тридцать черепов мамонта и десяток бивней, уложенных кругoм двух землянок. Здесь же обнаружил он и десять овальных пластинок мамонтовой кости от 15 до 26 см длиной с геометрическими насечками, близкими к «ревуну» из Ля Роша и австралийским ревунам. Сам Поликарпович назвал свою находку «верхнепалеолитическим святилищем». Ревуны указывают, что оно как-то было связано с миром предков. На Северских равнинах Северо-Восточной Украины никаких пещер найти невозможно и потому, видимо, создатели святилища на Десне были вынуждены довольствоваться специально открытыми землянками для совершения заупокойных обрядов и общения с духами предков. Обилие находок бивней и черепов мамонта в могилах и святилищах Ориньяка и Солютра привело к тому, что этих кроманьонцев стали именовать «охотниками на мамонтов», так же как неандертальцев из-за находок складов медвежьих костей – «охотниками на медведя». Сомневаться в том, что обитатели Евразии охотились 20-30 тысяч лет тому назад на мамонтов не приходится. Однако зачем охотились они на этих огромных животных? Кажется, ответ ясен – ради мяса и шкур. Но в действительности все не так просто. Хотя мясо слонов вполне съедобно, а некоторые части тела – просто деликатес и до сих пор высоко ценятся гурманами, такая гастрономия была сопряжена для ориньякского охотника с очень большим, вряд ли оправданным риском и трудом. Вокруг было полно не менее вкусной, но существенно более доступной дичи (олени, кабаны, лоси, зайцы), а также рыба и птица были вполне достижимы после изобретения мощного (в человеческий рост) лука и оперенных стрел, гарпуна, остроги и, наверное, рыболовной сети и удочки с крючком из рыбьей же кости. Нам кажется, что в мамонте может привлекать возможность за раз добыть огромное количество мяса. Но такое количество мяса охотнику могло быть и не нужно или нужно только в начале зимы, когда мороз мог предохранить добычу от порчи. Ведь жили ориньякские и мадленские охотники не бесчисленными дикими ордами, а небольшими группами по 6-12 человек. Наличие туш огромных животных около стана только соблазняло хищников тундры разделить эту добычу с человеком и тем самым могло подвергать жизнь людей неоправданной опасности. Мамонтов между тем убивали не как исключение, но регулярно, как будто без них кроманьонец никак не мог обойтись. Есть даже мнение, что это замечательное животное исчезло по причине слишком пристального интереса к нему древнего человека. И интерес этот, кажется, был не столько гастрономического, сколько религиозного свойства. Мамонт был необходим верхнепалеолитическому охотнику в ритуале. 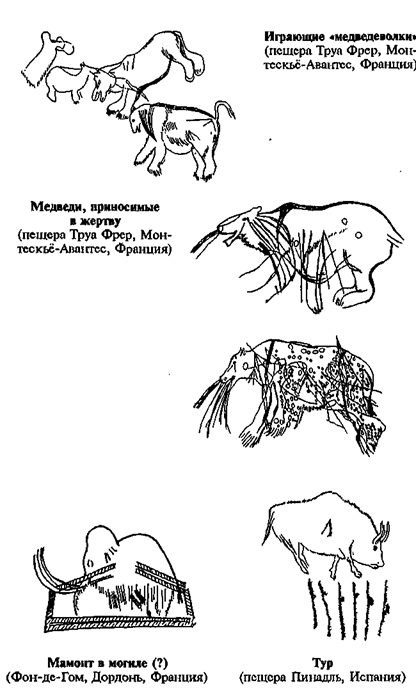  Жертвоприношение зубра. Костяная палетка из Абри Раймонден (Дордонь, Франция). Таинственные изображения животных, то приносимых в жертву, истекающих кровью, то стоящих посреди какой-то конструкции, то заимствующих детали от разных видов живых существ – весьма распространенный сюжет верхнепалеолитической живописи. О том, что пытался выразить через эти изображения древний человек, мы можем только догадываться «Не имел ли кроманьонец намерения помещать своих умерших под покров этого громадного животного, самые размеры которого должны были отпугивать злых духов» – высказывает предположение Дж. Марингер [67]. Но вряд ли размеры убитого зверя могут отпугнуть сами по себе даже геену и орла-могильщика. Скорее, размеры и мощь мамонта символизировали для ориньякского охотника всемощное Высшее Существо, точно также как для неандертальцев таким символом был пещерный медведь. Примечательно, что и современные пигмеи Тропической Африки никогда не охотятся на слона просто ради мяса. Эта опасная и трудная для них охота всегда сопряжена с жертвоприношением. Слона они считают воплощением Высшего Бога, духом, покровителем человека. Перед ним извиняются за то, что его убили, самые вкусные части (например, хобот) хоронят в земле, а мясо едят с благоговением, в надежде сопричаститься высшей Небесной Силе. Аналогию этих обрядов с обычаями кроманьонца впервые усмотрел П. Вернер [68]. Видимо, и для древних охотников Европы общение с мамонтом в жертвоприношении, присутствие бивней и костей мамонта в могиле, в святилище было знаком богоприсугствия, богообщения. Отдавая своих умерших покрову Того Существа, символом которого являлся мамонт, кроманьонцы скорее всего уповали на приобщение своих умерших к Его свойствам вечности, всемощности. Живя в мире дикой природы, досконально зная ее строй и порядок, могли ли эти древние охотники лучше выразить идею божественного всемогущества в земных, то есть в единственно возможных для всех нас образах, чем уподоблением мамонту Божественного Существа? В святилищах верхнепалеолитических пещер иногда находят маленькие глиняные модельки шатров или землянок. Предполагают, что это – жилища душ умерших [69]. В пещере Фон-де-Гом (Дордонь, Франция), в таком домике стоит мамонт с громадными бивнями. Может быть, это дух умершего, уподобившийся уже своему божественному Творцу? Культ мамонта безусловно доминирует в позднем палеолите Евразии, но и более древние культы медведя не забылись полностью. Некоторые племена отдавали им предпочтение, а возможно, оба эти культа сосуществовали в одних и тех же общинах. Л. Зотз обнаружил в пещере Рейерсдорф (Глац, Силезия) вместе с памятниками мадленской культуры черепa медведей в нишах и на вершине камня. Один из черепов, принадлежавший медведице, был поставлен в специально устроенный «шкаф» и прикрыт камнем. В хорошо сохранившемся черепе отсутствовала правая теменная кость, через это отверстие, видимо, был удален мозг. Аналогичные находки были сделаны А. Лемози в Пеш Мерль (Франция). Находки эти, как нетрудно заметить, очень сходны с неандертальскими из Драхенлоха и Петершёле. В другой силозской пещере, Хелльмишхёхлль, Л. Зотз сделал в 1936 году еще более интересную находку. Недалеко от входа он обнаружил специально захороненную голову молодого (2-3 года) пещерного медведя вместе с костями бурого медведя. Археолог обратил внимание, что зубы пещерного медведя были тщательно спилены незадолго до его гибели (дентин на спилах не успел восстановиться полностью). В черепе были найдены орудия раннеориньякского времени. Вскоре после опубликования Л. Зотзом этой находки, этнолог В. Копперс подсказал современную аналогию находке Зотза. Оказывается у гиляков и айнов Сахалина и Курилл еще в начале XIX века был замечен обычай так называемого «медвежьего праздника». Зимой, после солнцеворота, специально выращенный в неволе 2-3-летний медведь, после торжественных ритуалов приносится в жертву. Его полагают посланцем к великому духу и, по убеждению айнов, он будет ходатайствовать за племя перед этим духом в течение всего года и особенно будет споспешествовать охотникам. Примечательно, что незадолго до жертвоприношения зубы жертвенного медведя спиливаются «дабы он не причинил вреда во время празднеств». «Обычай, бытовавший в эпоху палеолита, сохранился до наших дней среди окраинных народов Северной Азии» – указывал Копперс [70]. Аналогия еще более усиливается, если мы вспомним, что айны прежде чем убить жертвенного медведя, подвергали его всяческим насмешкам, раздражали его. Дети и подростки кидали в животное камни и дротики. И лишь затем разъяренного окровавленного зверя убивал жрец. В гроте «Трех Братьев» (Франция) имеются хорошо известные изображения медведей, в которых летят камни и стрелы и из пасти и носа которых потоком льется кровь. Очень возможно, что здесь изображено жертвоприношение медведя по сходному с современным айнским обряду. Но сохранение обряда у айнов и гиляков вовсе не значит, что и объяснения его сути дошли до нас в неизменном виде. Обитатели Курильской гряды и Сахалина не в состоянии разумно объяснить зачем они мучают и без того обреченного на жертву и при том весьма почитаемого в принципе зверя. «Таков обычай» – отвечают они на все распросы этнолога. Да и то, что дух принесенного в жертву медведя идет к Великому Духу гор, не есть ли позднейший домысл? Обряд избиения медведя, появляющийся в верхнем палеолите, не мог не иметь тогда ясного и хорошо сознаваемого людьми смысла. Скорее всего он как-то был связан с идеей страдания Высшего Существа за грехи людей, он был ритуальным воспроизведением какого-то божественного события, бывшего «во время oно» и связанного со страданием Бога, Событие давно забыто гиляками, ритуал превратился просто в жестокий обычай, а убитое животное уходит теперь к горному духу, чтобы помогать племени в охоте в наступающем году. Но повсеместный страх, уважение, связанные с медведем, и по сей день среди народов северной Евразии указывают нам на значительно более важную роль, игравшуюся этим животным прежде. В палеолитической живописи изображения медведей редки – он, видимо, не входил в число жертвенных животных заупокойного культа, а имел отношение к миру живых. Но там, где медведь все же изображается, он часто имеет элементы иных животных – то морду волка, то хвост зубра. Встречаются и изображения людей в шкурах медведей, с медвежьими головами. Древний художник как бы старался сказать, что почитается не медведь сам по себе, но существо, им отображаемое, и потому нет ничего предосудительного в смешении черт, присущих различным животным, а то и человеку. Это последнее – особенно знаменательно. Если останки медведя редко встречаются в могилах кроманьонцев, то старая символика рогов продолжает связываться с заупокойными представлениями. Отношение к рогу, как к символу божественного могущества, перешло на бивни и даже иные кости скелета мамонта, который поражал древнего человека своей мощью еще более, чем зубр или олень. Но там, видимо, где мамонтов нелегко было поймать, приходилось ограничиваться рогами оленя, горного козла, а то и газели (Передний Восток). На пространствах французского Центрального Массива, где из-за сложного пересеченного рельефа мамонты были редки, в захоронениях обычно встречаются черепа и рога благородного или северного оленя. Они сопутствуют в вечность не только мужчинам охотникам, но и женщинам (грот Сан Жермен Ля Ривьер) и потому никак не могут считаться простыми «охотничьими трофеями». Это – почти безусловно знак божественного присутствия, надежда на приобщение вечной, божественной жизни. В Солютре мужчина был похоронен в склепе в 1,8 м высоты, а внутри и рядом со склепом были заботливо положены рога от 80 северных оленей и части костяка мамонта. В пещере Кафзех, на финикийском побережье Средиземного моря, тринадцатилетний подросток лежал в могиле лицом к небу. На скрещенных крестообразно его руках покоились рога лани [71]. Однако ни древний культ медведя, ни рога оленей и бивни мамонта в могилах соплеменников не могли в эпоху верхнего палеолита полностью успокоить рвущуюся за пределы этого земного и временного мира человеческую душу. В пещере Ляско (Lascaux. Дордонь, Франция), которая, скорее всего, была исключительно святилищем, но не местом обитания кроманьонца, нас встречают некоторые изображения по сей день никем не объясненные сколько-нибудь удовлетворительно. Начать с того, что в первом же зале процессию разнообразных животных «ведет» по сводам странное трехметровое существо. Оно имеет хвост оленя, заднюю часть дикого быка, горб зубра. Задние ноги напоминают слоновьи, передние – конские. Головой животное это подобно человеку, а от темени отходят два длинных прямых рога, каких вовсе не сыщешь в животном мире. Зверь этот, по мнению ряда исследователей, являет собой женскую особь с подчеркнутыми признаками беременности [72]. Если бы целью древнего художника была «охотничья магия», то он никогда бы не изображал подобных монстров. Ведь чтобы поразить животное во время охоты, надо, с точки зрения колдуна, как можно более точно воспроизвести его образ, а потом убить изображение. Даже если согласиться (а это весьма сомнительно), что темные пятна на шкуре чудовища из Ляско – это следы от камней охотничьей пращи, то непонятно зачем надо было стараться колдуну над трехметровым изображением, занимающим центральное место среди изображений первого зала, если животное такое все равно не встретишь в полях охоты. Комбинированные изображения животных убедительно свидетельствуют против объяснения палеолитического искусства как «охотничьей магии». Но зачем тогда понадобилось кроманьонцам это странное существо? «В подземных святилищах, – указывает французский искусствовед и палеоантрополог А. Ламин-Эмперэр, – более многочисленны знаки… изображения фантастических животных, существ полузвериной-получеловеческой природы, схематические изображения людей. Напротив, в памятниках на открытом месте изображения преобладают над знаками, «реалистическая» трактовка над схематической, изображения хорошо известных животных над фантастическими, женские образы над мужскими…» [73]. В чем смысл замеченной Ламин-Эмперэром закономерности? Чтобы понять это, попробуем проследовать вслед за стадом, предводительствуемым «чудищем», в глубь пещеры. После немалых усилий протискивания по узким коридорам мы наконец оказываемся в последнем, находящемся глубоко под землей, небольшом зальце. Стены его сохранили следы красной охры. Вспоминаются слова одного из крупнейших специалистов по доисторической религии – Марии Гимбутас: «Пещеры, расселины, провалы земли являются естественными явлениями исконной утробы Матери. Идея эта уходит в глубину палеолита, когда узкие подземные проходы, овальные залы пещер, трещины окрашивались в красное. Этот красный цвет символизировал цвет детородных органов Матери» [74]. И хотя скорее он понимался шире – как цвет крови и жизни, нельзя не представить себя в утробе земли, находясь во внутренней пещере Ляско. Может быть это та самая утроба, которая была видна извне в первой пещере – утроба, которой обладало странное чудовище с прямыми рогами. Может быть, это и есть утроба земли, в которую погружают умерших и из которой ждут их возрождения? А может быть это, подобно египетской Нут, «небесная корова», уже принявшая в свое чрево души умерших кроманьонцев? Увы, рисунок не может сказать нам всего.  Изображение ископаемого человека. Изображение ископаемого человека.Одно из первых портретных изображений ископаемого человека, сделанное им самим. Человеческая голова из Дольних Вестониц (Моравия, Чешская республика). Кость мамонта, около 25 тыс. лет назад. Хотя этот «портрет» относится и к верхнему палеолиту, но вглядываясь в черты лица изображенного кроманьонца мы не сможем не заметить печать ума и глубины на этом совершенно человеческом лице Но вглядимся в изображения внутренней пещеры. Они странны. Мы увидим существо с человеческим телом, но с четырьмя пальцами на руках и ногах и с птичьей головой. Существо это лежит навзничь, раскинув руки и вытянув ноги, подобно телу, положенному в могилу. Но художник почему-то изобразил у этого Умерший перед Великим Зубром.  Живопись. Пещера Ляско ( Lascaux ) Монтиньяк (Дордонь, Франция). Живопись. Пещера Ляско ( Lascaux ) Монтиньяк (Дордонь, Франция).Пещера Ляско, названная «палеолитической Сикстинской капеллой» из-за исключительной красоты и многообразия находящихся на ее стенах живописных изображений двадцатитысячелетней давности (большинство специалистов относят живопись Ляско к Мадленской эпохе), была обнаружена совершенно случайно в сентябре 1940 г., когда четыре мальчика заинтересовались глубокой ямой, открывшейся под корнями вывороченного бурей дерева. Ныне эта пещера – всемирно прославленный музей. Но среди всех изображений, оставленных мадленскими художниками в Ляско, нет фрески более загадочной, чем знаменитая сцена «трагически закончившейся охоты» в «апсиде» второго зала пещеры. Ее исключительную значительность для древних посетителей Ляско признают практически все исследователи. Не является ли в действительности эта «охотничья сцена» древнейшим развернутым изображением посмертных представлений доисторического человека? На левой части фрески написан уходящий шерстистый носорог, отделенный от основного изображения тремя рядами по две точки в каждом. Носорог этот то ли реальный виновник гибели охотника, похороненного под изображением, то ли символическое изображение зла смерти. Характерно, что, в отличие от мамонта, зубра, тура и оленя, рога и кости носорога не использовались в захоронении мадленцев умершего мужские половые органы в состоянии готовности к соитию. Птицеголовость, птицелапость (четыре пальца – лапка птицы). Все это признаки духа, оторвавшегося от бренности земли в таинственном полете. Фаллос – символ жизни и жизнедательной силы. Художник желал показать, что изображенный – дух живой, имеющий свою силу с собою. Прямо перед лежащим человекоптицей стоит громадный зубр. Он опустил голову с мощными рогами и смотрит на лежащего. Его грива поднялась дыбом, хвост также поднят вверх, что показывает высокую возбужденность зверя. Его мужские части подчеркнуты с какой-то особой гипертрофией. Они столь велики, что иногда их считают «вывалившимися от удара копьем внутренностями». Этот огромный рогатый, полный великой силы бык, стоящий над «живым умершим», скорее всего то самое существо, присутствие которого в могиле символически отображали бивнями мамонта, рогами оленя или зубра. Это – Он Сам. Художник подчеркнул его величайшую жизнедательную силу. Он – источник и податель жизни. Тот, кто после смерти приходит к Нему – тот будет жить. Потому-то и умерший изображен с фаллос эректос. Здесь, в этой таинственной фреске из Ляско, перед нами предстает самое сокровенное упование палеолитических людей – надежда на победу над смертью, и предстает не в виде элементов заупокойного ритуала, но в символическом изображении. Стоящий над умершим зубр поражен кажется тяжелым копьем. Он и податель жизни – и жертва за жизнь. Представление это может показаться слишком сложным для ориньякских охотников, но вспомним, что именно с таким представлением о гибели и победе над смертью подателя жизни (Осирис в Египте, Думузи в Шумере, Яма – в ведах) входит человечество в религиозную историю 4-5 тысяч лет назад. Идея единства жертвоприношения, жертвы и жертвователя – идея очень древняя. «Жертвою Боги пожертвовали жертве» – провозглашают, например, веды [RV. 10.90.16.1]. Близ этой фрески в земле найдены остатки светильников. Видимо посвященные в таинства жизни и смерти совершали в этой окрашенной охрой пещере свои обряды, слов которых мы не узнаем никогда. Но, пожалуй, с фреской Ляско совпадает изображение на палетке из пещеры Раймондон (Raymondon. Франция). Только здесь действие происходит не в потустороннем, но в земном мире, и не закланный в жертву зубр животворит умершего, но люди приносят в жертву зубра, надеясь, должно быть, через эту жертву соединиться с первообразом, с тем великим Существом, символом Которого был для кроманьонца зубр. На палетке безусловно изображено жертвоприношение. Голова зубра на уже освобожденном от мяса костяке и две передние ноги, отсеченные и лежащие перед головой. По обе стороны зубра стоят люди. Это – участники жертвоприношения, жертвенной трапезы. У одного из них в руке нечто наподобие пальмовой ветви. Фреска Ляско и палетка из Раймондон – две части целостной картины религиозных упований человека верхнего палеолита. На палетке мы видим жертвоприношение в мире людей, на стенах пещеры – результат (и одновременно причину) этого жертвоприношения в мире богов, куда так желал попасть человек, пройдя рубеж земной жизни. Можно привести немало примеров находок остатков таких жертвоприношений, какое изображено на палетке из Раймондон. Например, в Ла Шапелль-о-Сен перед входом в неандертальское «кладбище», под камнем лежала голова, грудь и передние ноги северного оленя. Животные для жертвы были взаимозаменяемы, но смысл жертвоприношения от этого не менялся. «ВЕЛИКИЙ КОЛДУН» Смешение частей от разных животных в одной фигуре, что мы так отчетливо замечаем в Ляско, преследует определенную цель – показать, что «в том мире» все не так, как в этом. Такие смешанные изображения очень часты. Они как бы разбивают наивное представление ученых, что древние полагали Богом зубра или медведя и объясняют нам с предельной для доисторического охотника ясностью – нет, не зубр есть Бог, но зубр – это символ Бога. И там, где возможно, лучше нарисовать зубра не совсем настоящим, чтобы этой символичностью никто не обманулся и не принял тварный образ за первообраз.  «Великий колдун». Ученые, вполне условно называют верхнепалеолитические изображения этого типа – «Великий колдун». В чем их действительный смысл, кого изображают они никто не знает и мы можем строить только догадки о сути сюжетов, представленных здесь изображениями из французских пещер Труа-Фрер и Лурд: а) из Лурдской пещеры (Франция); б) изображение из пещеры Труа-Фрер, Монтескьe-Авантес (Южная Франция) Но часто эти смешанные изображения перестают быть чисто звериными. В них то там, то тут начинают проглядывать человеческиечерты. То корпус, то ноги, то черты лица этой странной фигуры обнаружат человеческое. «Это колдуны в масках» – говорят иногда исследователи. Но безусловно – это не маски. Это все те же составные фигуры «иного мира». В гроте «Три Брата», также как и Ляско, бывшем святилищем, а не жилищем, таких составных фигур очень много. Но над всеми ими, в самой глубине пещеры царит изображение удивительного существа. У него торс зверя, хвост и уши волка, глаза филина, рога оленя, но руки и ноги человеческие. Существо с хвостом лошади, рогами оленя, но с бородатым мужским лицом встретится нам в Лурдской пещере. Аббат Брёль назвал изображенного в этих пещерах «богом охотников», Марингер – «великим колдуном». Первое относится к религии, второе определение – к магии. Для нашей, христианской иконографии, эти рогатые звероподобные, козлоногие существа с подчеркнутыми мужскими частями конечно же – духи зла, черти. Но не забудем, что десятки тысяч лет назад человек мыслил в иных образах. Члены жертвенного животного напоминали ему объект жертвы, рога – могущество Бога, фаллос – жизнедательную силу. А когда древний художник придавал этому «богу охотников» какие-то собственные, человеческие черты – он делал дерзновенный шаг в познании Абсолютного начала бытия. Помимо могущества и великой силы кроманьонец увидел какое-то сходство между собой, маленьким, затерянным среди диких пространств неосвоенного еще мира, человеком – и Творцом этого мира. Придавая великому БогуЗверю человеческие черты, он, должно быть, хотел показать, что он сам сродни божественному и потому смеет рассчитывать на благосклонность «того мира». Может быть так думали и раньше, но человек верхнего палеолита, овладев живописным искусством, сумел показать наглядно, хотя и в причудливых для нас формах, что Великий Бог и он сам в чем-то подобны друг другу. В Великом Звере стали проступать человеческие черты, а в человеке – подобия Великого Зверя. Может быть на некоторых «фресках» действительно изображены древние жрецы, которые, совершая в глубине пещер свои обряды, одевались так, чтобы уподобиться Великому Зверю, может быть даже их облик послужил образцом для древнего художника в изображении Высших сил – в сущности все это ничего не меняет. Кроме необычного для нас иконографического решения ничто не позволяет говорить: «великий колдун», смотря на эти изображения. И связь с заупокойным ритуалом, и безусловные ассоциации с жертвой, и надежда, очень явно обозначенная, на преодоление смерти через соединение с Творцом – все это позволяет согласиться скорее с Брёлем, нежели с Марингером. Когда древние охотники спускались в темноту пещер, освещая свой путь неверными огоньками светильников, они шли не совершать колдовские радения, но просить у Великого Подателя жизни удачи в этом мире, а главное – победы над вечным врагом человека – смертью. У нас нет никаких объективных данных, позволяющих считать человека верхнего палеолита магистом, но в нашем распоряжении есть множество свидетельств его напряженного религиозного искания. «Односторонние утверждения о художественной магии палеолитического человека звучат крайне неубедительно. Напротив, его искусство все наполнено культовым и религиозным содержанием» – заключает Карл Нарр [75]. «ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕНЕРЫ» Еще одним кругом верхнепалеолитических находок, имеющих значение, выходящее за пределы этой обыденной посюсторонней жизни, являются многочисленные фигурки, рельефы и рисунки женщин. Разумеется, и этот сюжет был сначала истолкован вполне материалистично, как проявление эротических наклонностей древнего человека. Но, надо сознаться, эротизма в большинстве этих изображений немного. Фигурки палеолитических «венер», относящиеся большей частью к Ориньяку и в Мадлене исчезающие, показывают, что интерес к женщине тридцать тысяч лет назад весьма отличался от нынешнего. Лицо, руки и ноги проработаны в этих фигурках очень слабо. Подчас вся голова состоит из одной пышной прически, но вот все что имеет отношение к рождению и кормлению ребенка – все это не просто тщательно прописано, но, как кажется, преувеличено. Огромный зад, бедра, беременный живот, отвисшие груди. Палеолитическая Венера – это не грациозное создание, пленяющее воображение современного мужчины, и не цветущая женственность луврской Афродиты, но многорожавшая мать. Таковы наиболее известные «венеры» из Виллендорфа (Австрия), Ментоны (Итальянская Ривьера), Леспюжю (Франция). Таков и примечательный рельеф из Луссель (Франция), на котором стоящая в фас женщина держит в правой, согнутой в локте руке массивный рог, очень напоминающий роги изобилия, но, скорее всего это – знак присутствия Бога-Зубра. 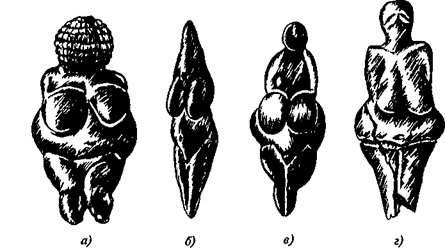 Палеолитические «венеры». Женские фигурки из камня и кости, безликие, но с подчеркнутыми признаками женского, рождающего естества, были очень широко распространены в верхнем палеолите всей Северной Евразии. Почти безусловно они отражали возрождающую к печной жизни материнскую утробу земли. Вестоницкие «венеры» особенно интересны тем, что сделаны из глины и обожжены. Это чуть ли не первые и истории человечества образцы терракоты (25 500 лот назад). Палеолитические «венеры» Ориньякского времени: а) из Виллендорфа, Австрия. Высота 11 см. Известняк; б) из Сапиньяно, Италия. Высота 22,5 см. Серпентин; в) из Леспюжю, Франция. Высота 14,7 см. Кость мамонта; г) из Дольних Вестониц, Чехия. Терракота И не то чтобы палеолитический художник просто не умел или не желал изображать женскую красоту. На нескольких памятниках мы можем видеть, что он в принципе прекрасно это делал – головка из слоновой кости (Брассемпуй), рельеф в пещере Ля Мадлен, открытый в 1952 году. Но фигурки и изображения «венер» отнюдь но ставили целью прославить совершенство женской красоты. Находки, сделанные на Украине К. Поликарповичем, проясняют смысл странных статуэток. В святилище на Десне кроме черепов и бивней мамонта, кроме ревунов им была найдена и женская фигурка из слоновой кости типа «венер». Она раньше была прикреплена к чему-то и являлась частью заупокойного святилища.  Беременная женщина у ног оленя. Крупные копытные животные, зубры, мамонты, олени, быки становятся в верхнем палеолите почти универсальным образом Небесного Бога. Они, носители мужского «семейного» начала, дают жизнь, которую принимает и вынашивает в своей утробе «Мать-Земля». Не эта ли мысль направляла резец верхнепалеолитического мастера из Ложери-Басс, когда он работал над изображением беременной женщины у ног оленя? Скорее всего, эти «венеры» являлись изображениями «МатериЗемли», беременной умершими, которым надлежит еще родиться вновь к вечной жизни. Может быть, сущность так изображавшаяся была самим родом в его протяжении от предков к потомкам, Великой Матерью, всегда производящей на свет жизнь. На Украине же, в Гагарине, семь таких фигурок располагались по стенам землянки мадленцев. Они стояли в специальных нишах. Это безусловно был объект поклонения. Для хранительницы рода не важны индивидуальные «личные» признаки. Она – вечно беременное жизнью чрево, вечно кормящая своим молоком мать. Вряд ли размышления древних поднимались до высоких абстракций, но коль хоронили они своих мертвецов в землю, то стало быть верили и в их воскресение, а если верили, то не могли не поклоняться Матери-Сырой-Земле, дающей пишу, жизнь и возрождение. Надежды кроманьонцев не ограничивались землей, они душой стремились к небесному Богу-Зверю, всемощному подателю жизни. Но из опыта повседневности они прекрасно знали, что семя жизни должно найти ту почву, в которой только и может прорасти. Семя жизни давало небо, почву – земля. Поклонение МатериЗемле, столь естественное у земледельческих народов, в действительности оказывается древнее земледелия, так как целью поклонения был для древнего человека не земной урожай, но жизнь будущего века. Весьма ошибается Мирча Элиаде, когда во введении к «Священному и мирскому» утверждает: «Ведь очевидно, что символика и культы Матери-Земли, плодовитости человека,… священности Женщины и т. п. смогли развиться и составить широко разветвленную религиозную систему лишь благодаря открытию земледелия. Столь же очевидно, что доаграрное общество бродяг-номадов было не способно также глубоко и с той же силой прочувствовать священность Матери-Земли. Различие опыта – это результат экономических, социальных и культурных различий, одним словом – Истории» [76] – «Очевидное» – еще не истинное, это лучше других должен был знать религиовед. Культы Матери-Земли охотников верхнего палеолита заставляют нас предположить, что религиозное не есть всегда продукт социального и экономического, но, подчас является их причиной и предпосылкой. Для лучшего понимания всей неоднозначности причин и следствий в человеческой культуре особенно интересны фигурки «венер» из Дольни Вестонице. Вестоницкие «венеры» сделаны из глины и обожжены. Это чуть ли не первые в истории человечества образцы терракоты (25 500 лет назад). Древний мистик должно быть старался в самом материале запечатлеть великую идею земли, соединяющейся с небесным огнем для принятия в себя небесного семени. Может быть удар молнии, оплавившей почву, навел его на эти образы. От бытовой керамики, появляющейся в раннем неолите, эти специально обожженные на огне глинянные статуэтки Матери-Земли отделяют не менее двенадцати тысячелетий. Очень характерна и обнаруженная в конце 1950-х годов под навесом скального укрытия Англе сюр л'Англи (Angles-sur-l'Anglin, Вьенна, Франция) сцена мадленского времени. Три женщины, с ясно подчеркнутыми знаками своего пола, стоят близ друг друга. Одна – с узкими девичьими еще бедрами, другая – беременная, третья – старая, обрюзгшая. Первая стоит на спине зубра, поднятый хвост и наклоненная голова которого показывают, что он изображен в возбуждении гона. Не отображает ли этот рельеф ритм жизни и не подчеркивает ли он, что для кроманьонца жизнь эта была не случайностью, но божественным даром, семенем Божиим, которой надо правильно распорядиться, дабы обрести вечность? А может быть это первое из долгого ряда изображений Великой Богини в трех ее образах – невинной девушки, матери и старухисмерти, изображений – столь характерных для позднейшего человечества? Смерть, уведение от жизни в этом случае оказывается не полным исчезновением, но только этапом бытия, за которым следует новое зачатие божественным семенем, новое рождение. ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА Число памятников, свидетельствующих о тесной жизни рода, возрастает в верхнепалеолитическое время. Люди имели родовые святилища и родовые погребения. Одно такое погребение-склеп найдено было в Предмостье (Predmost. Моравия). Здесь на протяжении более чем столетия в одну могилу клали умерших членов рода – и взрослых, и детей. Все это ясно свидетельствует в пользу крепких семейно-родовых устоев в верхнем палеолите. В том же Предмостье недалеко от склепа на стоянке ориньякских охотников были найдены кости от человеческого скелета с насечками от снятия плоти каким-то каменным орудием. Череп вместе с костями обнаружен не был. К. Абсолон, сделавший эту находку, предположил факт людоедства, заметив, что голова жертвы возможно была использована в ритуальных целях. Видимо, заботливо предавая земле соплеменников, предположил ученый, люди из Предмостья ловили случайных чужаков и убивали их. Наличие большого числа костей многообразных животных на стоянке показывает, что обитатели Предмостья вряд ли пошли на людоедство, побуждаемые голодом. Если догадка К. Абсолона верна, то их каннибализм имел ритуальный характер и он может свидетельствовать в пользу существования каких-то магических обрядов, сходных с традициями современных людоедов. Но Дж. Марингер [77] достаточно убедительно ставит под сомнение характеристику этой находки как следов каннибальского пиршества. Напоминает эта находка и погребальные традиции исседонов, о которых, со слов Геродота, рассказывалось в предыдущей лекции. Очень может быть, что люди древнего каменного века были лучше, чем мы о них думаем, втайне желая оправдать нашу собственную жестокость и нравственное несовершенство. Лекция 4. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕОЛИТА ТЕОРИЯ «НЕОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» Приблизительно 13-10 тысяч лет назад в жизни древнего человечества происходят глубокие изменения, без которых и наша нынешняя цивилизация оказалась бы совершенно невозможной. Бродячий охотник и собиратель, кочующий за стадами диких животных и питающийся главным образом их мясом, в эти переломные тысячелетия превращается в оседлого земледельца и в пастуха-скотовода. Некоторые из основанных в X тысячелетии до Р. Х. поселений и поныне являются обитаемыми, например прииорданский Иерихон или североаравийская Бейда. Этот глубинный сдвиг в образе жизни человека именуют «неолитической революцией». Термин этот был предложен в 1925 году молодым британским археологом Виром Гордоном Чайлдом в книге «На заре европейской цивилизации» [78]. В. Г. Чайлд (1892-1957) один из ведущих археологов XX века, профессор Эдинбургского университета, знаток доисторических культур Европы и Переднего Востока, создал теорию доисторического развития под влиянием изменений окружающей среды и давления растущего народонаселения. Отвергая представления о преимущественном значении сферы идей для общественного развития, Чайдл настаивал на материалистических предпосылках общественного прогресса. Был увлечен философскими построениями Карла Маркса и Эмиля Дюркгейма. Кроме названной работы перу Чайлда принадлежат «Социальная эволюция» (1951) и «Восстановление прошлого» (1956). Хотя и при жизни и после смерти Чайлда многие его утверждения активно оспаривались, труды этого ученого сделали очень много для создания современной теории доисторического человечества. Само понятие «неолит» – то есть по-гречески «новый камень» – новый каменный век, ввел в научный оборот Джон Леббок (лорд Эвбюри, 1834-1913), в книге «Доисторические времена». Сохранение каменной индустрии при переходе от добывающего к производящему хозяйству является главной отличительной чертой неолита. Продолжая и развивая Леббока [79], Чайлд объяснил, как произошел этот переход, который сам лорд полагал, в духе прогрессистских идей XIX века «естественным» следствием человеческого развития. По мнению Чайлда, переход от добывающей к производящей экономике произошел на Переднем Востоке после окончания великого оледенения (плейстоцена). Отступление ледников из Центральной Европы и с Русской равнины привело к перемещению на север зоны обильного увлажнения, которая располагалась ранее в Сиро-Палестине, Месопотамии, Аравии, Иране. Засухи, происходившие все чаще, заставляли людей и животных скапливаться в немногих оазисах. Туда же постепенно перемещались и влаголюбивые растения. Жизнь в оазисах заставляла человека бережней относиться к природным ресурсам, заботиться об них воспроизведении. Он стал воздерживаться от охоты на стельных самок и детенышей, затем – подкармливать их во время засух. Нехватка мясной пищи побуждала жителя оазисов обратить больше внимания на собирание растительных продуктов, что в конце концов привело к одомашниванию (доместикации, как говорят ученые) растений – злаковых и бобовых. Однако эта стройная теория не подтвердилась жизнью. Тщательные палеоклиматические и палеоботанические исследования 1940-1950-х годов показали, что на переднем Востоке в XII-VIII тысячелетиях до Р. Х. климат существенно не менялся и потому никаких особых оазисов, где бы протекала «неолитическая революция», просто не существовало. Кроме того, самостоятельные очаги протонеолитических культур археологи обнаружили далеко за пределами Переднего Востока – в долине Дуная (Лепеньски Вир), в Индокитае (Хоа Бинь), в Японии (Дзёмон), на островах Малайского архипелага, в Перу и Мезоамерике. Климатические условия в этих районах были очень различны, а признаки перехода от палеолита к неолиту во многом сходными. Сомневаясь в аргументах Чайлда, археологи редко отвергают саму материалистическую предпосылку «неолитической революции». Для них аксиоматичным остается убеждение, что бытие определяет сознание и вопрос только в том, что такое «бытие» – внешние обстоятельства или стремление к лучшим материальным условиям жизни. Чайлд предполагал первое. Роберт Дж. Брейдвуд [80], работавший в Институте ориенталистики Чикагского университета – второе. По мнению этого видного теоретика археологии «революция» была результатом «углубления культурной дифференциации и специализации человеческих сообществ». Стремление человека ко все более надежным источникам пищи постепенно привело его к одомашниванию растений и животных. Это в свою очередь способствовало появлению оседлых поселений, так как теперь не человек следовал за источниками пищи, но источники пищи были им приближены к местам своего обитания. А оседлая цивилизация, быстро развиваясь, породила разделение труда, город, государство, письменность. Но опять же, в этой теории есть слабое место – постоянные укрепленные поселения «открытого типа» (то есть не в пещерах, а состоящие из специально построенных жилищ под открытым небом) предшествовали эпохе одомашнивания часто на 1-3 тысячи лет во многих местах Переднего Востока, на Дунае, в Японии. «Имеется немало археологических памятников, указывающих на существование постоянных поселений без всяких признаков доместикации. Эти древние поселения как будто подтверждают мнение ряда ученых о том, что иногда постоянные поселения порождают необходимость в доместикации, а не наоборот» – отмечают современные американские исследователи» [81]. Попытка создать «синтетическую теорию неолитической революции», предпринятая Кентом Флэннери в 1970-е годы, также не может считаться до конца удачной. По мнению этого археолога рост населения заставлял отдельные группы людей все дальше уходить от мест, удобных для добывающей экономики, в суровые области, где одними собирательством и охотой тяжело было поддерживать существование племени. Именно там, на границах экумены началась, по Флэннери, «неолитическая революция» [82]. Однако первоначальная культивация «фиксируется ныне не на окраинах оптимальных зон, а в их центре (Иерихон А. Нахал-Орен II, Мюрейбит III). Распространение культивации на окраинные районы явилось следующим шагом «неолитической революции». Чтобы лучше понять феномен «неолитической революции», нам следует от теорий на какой-то момент перейти к последовательности событий. 11-13 тысяч лет назад человек начинает создавать в некоторых районах мира (Палестина, Верхняя Месопотамия, Загрос, Дунайская равнина) оседлые поселения с прежней присваивающей экономикой. Значение растительной пищи в рационе их обитателей постепенно возрастает, а мясной – сокращается. 9-11 тысяч лет назад начинается доместикация растений и употребляемых в пищу животных (собака была одомашнена ранее). Одну – две тысячи лет спустя широко распространяется керамика и ткачество, возникают, как показали открытия Дж. Мелларта [83], сравнительно крупные города. Наконец, с освоением плавки металлов в V-III тысячелетиях до Р. Х. эпоха камня заканчивается и наступает время меди, позднее – бронзы, еще позднее – железа. Принципиальный вопрос «неолитической революции» – почему тринадцать тысяч лет назад человек решил покончить с бродяжничеством и прочно осесть на землю. Экономических преимуществ новый строй жизни не давал. Племена кочующих охотников в этих районах мира жили тогда сравнительно богато. Навыки и промысловые приемы людей мезолита [84] отличались изощренностью и совершенством. В настоящее время большинство палеоатропологов считает, что обитатели первых стационарных открытых поселений жили существенно беднее и питались менее разнообразно и обильно, чем бродячие охотники. Никакой особой житейской выгоды переход к новому образу жизни почти наверняка не сулил, а ведь надо было преодолеть еще и привычку к тысячелетиями устоявшемуся жизненному укладу. Человек древности являлся существом весьма консервативным, и только какие-то очень существенные причины могли побудить его круто изменить строй жизни. МИСТИКА ЗЕРНА И НАЧАЛО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ На юге иорданской пустыни Эль-Гор, в двух десятках километров к западу от реки Иордан, путешественника встречают сочной зеленью полей и садов холмы оазиса Иерихона, древнего библейского города Палестины. Неиссякающий источник, бьющий у подножия одного из холмов, дает жизнь этому поселению, окруженному со всех сторон белесыми выжженными равнинами. 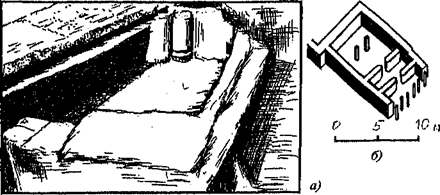 Святилища докерамического Иерихона. Древнейшие постройки, которые могут быть атрибутированы, как храмы, обнаружены на Переднем Востоке в Иерихоне и Бейде: а) раскопанное святилище; б) аксонометрия (частичная реконструкция) Раскопки, осуществлявшиеся Кэтлин М. Кэньон с 1952 по 1958 год, обнаружили, что легендарный город, слышавший трубы Иисуса Навина, был далеко не первым в этом удивительном месте [85]. За восемь тысяч лет до библейского Иерихона на холме также располагалось поселение. Оно состояло из полусотни круглых домов на каменных основаниях. Никаких следов земледелия и скотоводства в поселении не обнаружено. Есть лишь кости диких животных и зерна дикорастущих злаков. Там же, на материковом основании, обнаружено и «святилище» – сравнительно большое здание, состоявшее из двух помещений. В его полу находились круглые обмазанные глиной ямы для хранения зерна, рядом лежали ступки и песты для растирания зерен в муку. Повторю, что все данные современной палеоантропологии единодушно свидетельствуют против существования в Палестине IX тысячелетия до Р. Х. земледелия. Если земледелия еще не существовало, то предметы, связанные с хранением и обработкой зерна предназначались для дикорастущих злаков. Но почему находки сделаны в «святилище», а не на хозяйственном дворе, где больше пристало располагаться мукомольному производству? Отношение к обработке зерна в ту далекую доземледельческую пору преднеолита отличалось «странностями» и в иных поселениях. Преднеолитическая культура, к которой принадлежит и первоепоселение на холме Иерихона, в археологии именуется натуфийской. В другом натуфийском поселении Хайоним (Палестина) ступки использовались в качестве могильных камней. Иногда их вкапывали в землю даже углублением вниз [86]. На горе Кармил в местечке Нахал-Орен большие ступки также отмечали погребения. Они отличались такой массивностью, что не были скрыты культурным слоем и до начала раскопок возвышались над землей. В Эйнане – натуфийском городище близ западного берега озера Хуле (Северная Палестина) в одном из круглых домов (зарегистрированном в археологическом отчете под номером 26/3) на полу лежало более 20 пестиков и зернотерок. Семь из них были расположены так, что воспроизводили абрис человеческой фигуры [87]. Часты в натуфийской культуре и захоронения в обмазанных глиной ямах, до того использовавшихся для хранения зерна. Хорошо известно, что земледелие вызвало глубокие перемены в культовой символике. Зерно и продукты зерна стали широко использоваться при богослужении и в похоронных обрядах. Здесь все просто – изменения в технологии бытия приводят к переменам в «идеологии», в сознании. Так, ни на минуту не сомневаясь, утверждал, например, Мирча Элиаде: «Первым и, возможно, значительнейшим следствием открытия земледелия явился кризис в системе ценностей палеолитического охотника: религиозные отношения с миром животных вытесняются тем, что может быть наименовано таинственным единством между человеком и растительным миром. Если кость и кровь до того являли сущность и священный образ жизни, то теперь эти идеи воплотились в семя и кровь.‹…,› Можно сказать, что от неолита и до Железного века история религиозных идей и верований составляет одно целое с историей [материальной] цивилизации. Любое открытие в сфере технологии, каждая хозяйственная или общественная новизна отражалась, кажется, в системе религиозных смыслов и ценностей. Когда мы будем говорить об открытиях неолита, их религиозное «эхо» всегда должно учитываться» [88]. Но действительность жизни часто разрушает наши наглядные схемы. Люди стали использовать зерно в религиозных обрядах за одно, а то и два тысячелетия до начала регулярного земледелия и практически одновременно с фиксируемым археологическим сбоом дикорастущих злаков. 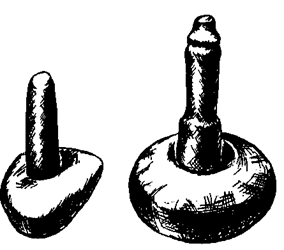 Зернотерки Джармо Складывается впечатление, что зерно, мука, выпечной хлеб сначала были элементом ритуала, священнодействия и лишь постепенно проникли в профанную, обыденную сферу жизни. Впрочем, и до сих пор к хлебу у нас сохраняется не вполне «простое» отношение. Народная традиция воспрещает выбрасывать хлеб, с пренебрежением относиться к нему. Зерно, как известно, очень емкий символ смерти и воскресения, возрождения. Падая в землю, умирая и разлагаясь в ней, оно дает росток, колос и множество новых семян. Древние могли усмотреть в этом и индивидуальную победу над смертью и родовое ее преодоление. Человек умирает, но он оставляет потомков, род, которые после него будут жить на земле, и он, умерший, будет жить в них, как в колосе пшеницы живет то зернышко, из которого пророс колос. Не исключено, что если еще в палеолите зубр и мамонт были воплощенными символами небесной, творческой, божественной реальности, то колос, зерно и, шире, растительная пища вообще – реальности земной, родовой. Собирая дикорастущие злаки, растирая их зерна в муку, выпекая хлебы и вкушая их, наши древние предки соединяли себя с «родом отцов своих», и их, «отцов», с собой, через стихию все принимающей и все возрождающей земли. Если мощные животные, олицетворявшие Творца в эпоху палеолита, не несли непосредственного символического сходства с образом смерти и воскресения, оставались как бы по ту сторону смерти, в инобытии, то зерно вполне выражало анастатические идеи. И тогда, когда в обществе первобытных охотников эти идеи усилились, они обратили внимание на семя, ценой своей смерти в земле вызывающее к жизни росток. Вкушая годные в пищу семена дикорастущих трав, в первую очередь крупные – зерна злаков и бобов, человек, видимо, подразумевал, что и он, если ест их с соблюдением определенных ритуалов, так же победит смерть. Не исключено, что первоначально ритуальной пищей, по крайней мере, на Ближнем Востоке, был отвар из муки, сохранившийся в качестве священной снеди в Элевсинских мистериях Греции (??????) [89], связанных непосредственно с Персефоной и ее матерью Деметрой (то есть с зерном и Матерью-Землей). Опресноки – бездрожжевой хлеб – это дальнейшее развитие ритуальной пищи. Они возникают от непосредственного соприкосновения с огнем смеси муки с водой. Огонь – переносчик жертвы, соединил с небом победившее смерть зерно, ставшее при этом хлебом (вспомним широко распространенный обычай поминальных блинов). Выпечка хлеба безусловно имела место в Юго-Восточной Европе и на Переднем Востоке уже в VII тысячелетии до Р. Х. и она наверняка была связана с культом (см. ниже). Примечательно, что в древнеегипетском языке плуг, обрабатывающий землю и мужской половой член одинаково произносятся hnn (хенен), хотя иероглифически изображается несколько различно:  Как женщина получает семя извне, от мужа, так и земля – от сеятеля. А в образе «могила – утроба земли» само тело умершего становится семенем его новой, будущей жизни и подателем этого семени является Сам Творец всяческой жизни. В древнейшем литературном религиозном памятнике человечества – в «Текстах пирамид» (середина III тысячелетия до Р. Х.) мы встречаем эхо этого доисторического образа, удивительно сплавившего в себе неолитические и палеолитические символы: «Земля взрезается плугом, дары приносятся, земля Тиби (?) приносится, две божественных области кричат перед ним, когда он (умерший) сходит в землю. О Земля, отверзи уста свои для твоего сына, ставшего Осирисом, ибо то, что позади него, принадлежит пище; то, что впереди него – принадлежит охоте» [Руг. 560,1394-1395]. Последняя формула – «то, что позади него, принадлежит пище; то, что впереди него – принадлежит охоте» – почти наверняка восходит к палеолиту. Это – слово охотника. Убитые животные, оставшиеся за его спиной на охотничьей тропе, являются уже пищей, те же, что еще не поражены – объект охоты, «принадлежат» охоте. Вполне возможно, что знание, полученное при символическом использовании семян растений, дало толчок их одомашниванию и широкому использованию в качестве пищи [90]. Почитание зерна, орудий земледелия и выпечки хлебов отнюдь не было попыткой «сакрализовать жизненно важный труд и его плоды», то есть не было идеологией, когда слово является оправданием дела. Тогда, при переходе к производству пищи, логика нашего далекого предка, скорее всего, была противоположной: «Религиозное творчество было побуждено не эмпирическим феноменом сельского хозяйства, но тайной рождения, смерти и возрождения, явленной в ритме жизни растений» [91]. Потому-то предметы, связанные с обработкой и хранением зерна, мы встречаем ранее времени доместикации растений и встречаем именно в сакральной сфере. Символика зерна, хлеба прошла через всю историю религий и ярко проявилась в евангельской проповеди и в церкви. «Аз есмь хлеб жизни» [Ин. 6, 35], «хлеб – плоть Моя» [Ин. 6, 51], «хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» [Ин. 6, 33] – многократно повторял Иисус. В древнем Моисеевом законе специально подчеркивалось, что «не одним хлебом живет человек, но всяким исходящим из уст Господа живет человек» [Втор. 8, 3]. «Как пшеничное зерно ложится в землю, чтобы, взойдя, стократно умножиться ко времени жатвы, – объясняет современный богослов [92], – так и тело погребается, дабы осуществилась полнота человеческой жизни». Тот же «неолитический» образ используется в современных религиях и на чисто аскетическом уровне: «Да будет сердце мое доброю для Тебя землею, приемлющею в себя доброе семя, и благодать Твоя да оросит меня росою вечной жизни» [93]. И особенно характерно, что в сфере заупокойного ритуала хлеб, как правило, заменяется прошедшими термическую обработку целыми зернами – кутия христианского отпевания, рисовые шарики заупокойных индуистских жертвоприношений, печеное зерно тантристского обряда (мудра). Посыпание зерном связано и с брачными церемониями и также символизирует рождение новой жизни. Это – очень древнее воспоминание. ПОЧИТАНИЕ ПРЕДКОВ И НАЧАЛО ОСЕДЛОЙ ЖИЗНИ Начало использования зерна в ритуальной сфере происходит одновременно с переходом человека к оседлому образу жизни. Оседлая жизнь, как я уже говорил, не сулила охотникам и рыбакам мезолита никаких бытовых преимуществ. Первые поселения, принадлежащие к натуфийской культуре (Нахал-Орен, Эйнан, Иерихон) весьма бедны. Да и одомашнивания растений и животных еще не произошло. Что же, если не «экономический интерес» могло заставить общины бродячих охотников резко изменить весь строй жизни? Исследование натуфийских «деревень» позволяет сделать некоторые предположения. Натуфийские дома еще очень напоминали охотничьи шалаши и временные жилища палеолита. Они делались круглой или овальной формы диаметром 4-7 м. Форма их была, скорее всего, конусообразной. Верх делался из легких материалов – соломы, стеблей камыша, переплетенных ветвей, но стены представляли собой достаточно надежное сооружение из камней, обмазанных глиной. Пол в доме, как правило, был существенно ниже уровня земли. Что сразу же бросается в глаза при раскопках натуфийских поселений, так это обилие погребений, расположенных прямо среди домов, а очень часто и непосредственно под полом. Под полами чаще хоронили детей и подростков, а взрослых сородичей – между домами в специальных обмазанных глиной колоколовидных ямах. Большинство захоронений – вторичные. Видимо тела сначала выносили из поселения, помещая их во временные могилы или оставляя на открытом воздухе. После распада мягких тканей кости вновь вносили в поселение и предавали окончательному захоронению. Погребального инвентаря в могилах практически нет. Обычны только средиземноморские раковины денталии, формой напоминающие клыки. Видимо, они являлись распространенным элементом погребальной одежды. Но бедность могил отнюдь не говорит о равнодушии натуфийцев к своим усопшим. Внимание теперь сосредоточено не на заупокойных дарах, а на приближении умерших к живым. В эпоху палеолита дома смерти и дома жизни редко совпадали. И неандерталец и кроманьолец, при всем почтении к своим умершим сородичам, избегали жить рядом с их могилами. Теперь людьми овладевает совершенно иное представление – род должен быть связан воедино и топографически. Что было причиной изменения в представлениях мезолитических и протонеолитических охотников мы не знаем, но само это изменение выявляется совершенно наглядно. Иногда даже сами жилища превращались после смерти их обитателей в склепы, над которыми возводились жертвенные алтари. Такой склеп IХ тысячелетия до Р. Х. обнаружен был в Эйнане. Вот как описывает его Джеймс Мелларт: «Наиболее интересным в натуфийской культуре является погребение вождя, найденное в Эйнане. Оно относится к среднему строительному горизонту; круглая гробница диаметром 5 м и глубиной 0,8 м, возможно, первоначально была жилищем этого вождя. Гробницу окружал парапет, обмазанный глиной и окрашенный в красный цвет; по краю его выложен круг из камней диаметром 6,5 м. В центре гробницы лежали два полностью сохранившиеся скелета. Они были положены на спину, ноги, отделившиеся после разрушения тела, были перемещены. Один из скелетов, принадлежавший взрослому мужчине, был частично перекрыт камнями и опирался на каменную кладку; лицо было обращено на снежные скалы горы Хермон. У другого скелета, по-видимому женского, сохранился головной убор из раковин денталии. Ранее погребенные здесь останки были сдвинуты (поэтому их черепа оказались смещенными), чтобы освободить место для этих покойников. Затем погребение засыпали землей, а сверху соорудили каменную вымостку, на которой был сложен очаг. Около очага положен еще один череп, и поверх насыпанной земли была сделана еще одна вымостка, круглая, диаметром 2,5 м, окруженная низкой стеной. В центре последней вымостки лежали три больших камня, окруженные маленькими» [94].  Погребального инвентаря нет и в этом сложном заупокойном сооружении, воздвигнутом общинниками для, безусловно, социально-значимого лица. Красная охра, обильно встречающаяся и в этом и в иных натуфийских погребениях, показывает, что древний еще палеолитический символ крови и жизни сохранял свою актуальность. Череп, найденный у очага первой вымостки, имел два верхних шейных позвонка, то есть он был отделен от тела или живого или только что умершего человека, что не исключает возможность человеческого жертвоприношения. С другой стороны, три больших камня, возвышавшихся над склепом, очень вероятно, подобно менгирам мегалита (см. лекцию 5), являлись воплощением душ умерших и погребенных тут людей, их вечными, неразрушимыми толами. Поскольку камней три – можно предполагать, что и третий череп принадлежал не жертве, но какому-то позднее умершему родственнику или преемнику погребенного здесь вождя. Нас не может удивлять особое отношение к черепу усопшего, заметное в этом эйнанском погребении. Культ черепа прослеживается еще с раннего палеолита. Но в неолитических поселениях древний обряд обретает огромную значимость. В Иерихоне начала VII тысячелетия до Р. Х. («докерамический неолит В») было найдено не менее десяти человеческих черепов с прекрасно моделированными гипсом чертами лица и инкрустированными раковинами каури глазами. Нашедшая эти черепа Кэтлин Кэньон предположила, что они играли какую-то роль в культе предков. Скорее всего, они были выставлены в домах на специальных полках, зримо отражая единство рода, побеждающее смерть. Вдоль стен на полках черепа были расставлены и в ранненеолитическом поселении Северной Сирии – Мурейбите. В Телль Рамаде (Южная Сирия) и Бейсамуне (озеро Хуле) черепа были водружены на вылепленные из глины фигуры – подставки высотой до четверти метра. На лбу телльрамадских черепов красной охрой нанесены большие пятна. Примечательно, что вместе с черепом в фигуру-подставку вмонтировались и верхние шейные позвонки. Эти находки объясняют большое число «обезглавленных» захоронений. Видимо после смерти головы часто отнимались от тел и сохранялись в жилищах живых, в то время как остальное тело предавалось земле. Из всех частей тела именно голова с наибольшей полнотой выражает личность человека. Поэтому, то что мы обнаруживаем в протонеолите Натуфа и в раннем неолите – это не просто культ рода, но внимание к конкретным личностям усопших родственников, без помощи которых обитатели древних Эйнаны и Иерихона не могли надеяться на реализацию собственных религиозных задач, также, видимо, связанных с преодолением смерти, через которую переступили, сохранив жизнь, прародители. В тех культурах, где головы предков все же не сохранялись в жилищах, их возможно заменяли грубо моделированные портретные камни; на камнях человеческое лицо иногда схематизировалось до крестообразного символа. Камни эти очень напоминают расписные гальки мезолитической культуры Азили (Италия, Швейцария), также связанные по всей вероятности с культом предков. Сравнивая азилийские гальки с этнографическим материалом наших дней, Дж. Марингер усмотрел сходство между ними и чурингами коренных обитателей Австралии [95]. Каменные и деревянные чуринги с рисунками, обвязками и насечками считаются австралийцами вместилищами душ умерших предков. Ф. Сарасин обнаружил большое число таких «чурингообразных» расписных камушков в швейцарской пещере Бирсек. Все они были тщательно расколоты на части. Скорее всего это враги, захватившие родовое святилище, пытались покончить с силой предков, разбивая их «вечные» каменные тела. И если бирсекские гальки – это действительно воплощенные души предков, то тогда находка Ф. Сарасина говорит об огромном значении почитания предков в века перехода к неолиту. Сила предков, их способность защитить своих потомков полагалась столь значительной, что ее «нейтрализации» врагами племени уделялось особое внимание. Видимо с культом предков связаны и сравнительно немногочисленные находки статуэток в слоях протонеолита и докеами еского неолита. 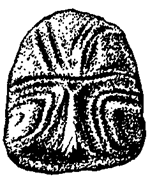 Голова – крест из ранненеолитической Палестины (Эйнана. IX тысячелетие до Р. Х.) Из Айн-Сахри происходит купленная аббатом А. Брейлем у бедуинов, крупная галька, обработанная в виде обнимающейся пары [96]. Скорее всего древний художник старался изобразить соитие, которое и ныне любят совершать на Переднем Востоке в подобной сахрийской сидячей позиции. Похожая находка была сделана и в Нахал-Орене [97]. Изображения в высшей степени целомудренны. Не возбуждая никаких эротических желаний, они привлекали внимание к важнейшему моменту родовой жизни- зарождению нового поколения. В болеепоздней (VI тысячелетие) скульптурной группе из Чатал Хююка (Малая Азия), на пластине зеленовато-серого вулканического камня, с большим мастерством изображена в левой половине аналогичная сцена соития, а в правой – мать, прижимающая к себе маленького ребенка. 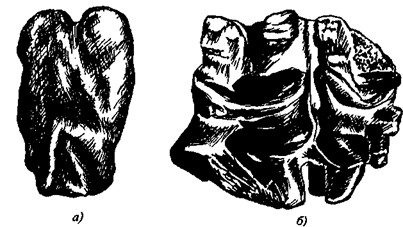 Обнимающиеся пары а) Айн Сахри; 6) Чатал Хююк Очень возможно, что с утратами сохранившаяся от VII тысячелетия глиняная скульптурная группа из Палестины (Айн Гхазаль) воспроизводила тот же образ. Зачатие и рождение потомков должно быть сознавалось одним из священных моментов родового бытия, уничтожающих власть времени и смерти. Известные во всех «исторических» религиях строжайшие принципы регулирования отношений полов и тяжкие, вплоть до смерти, наказания за их нарушение восходят скорее всего к этой древней эпохе, когда значение родовой жизни для реализации высших личных религиозных целей было впервые, кажется, осознано во всей полноте. Но такое внимание к предкам, родоначальникам, продолжающим помогать живым в их и временных, земных, и в вечных, небесных, нуждах, такое чувство взаимозависимости поколений не могло не отразиться и в организации жизни. Могилы предков, священные реликвии рода, нужно было максимально приблизить к живым, сделать частью мира живых. Потомки должны были зачинаться и рождаться буквально «на костях» праотцов. Не случайно захоронения часто находят под теми глинобитными скамьями неолитических домов, на которых сидели и спали живые. Кочевой образ жизни, характерный для палеолита, вступал в столкновение с новыми религиозными ценностями. Если могилы предков должны быть как можно ближе к дому, тогда или дом должен быть недвижим или кости переноситься с места на место. Но почитание родящей стихии земли требовало стационарных погребений – зародыш новой жизни, погребенное тело, не мог по мере необходимости изыматься из утробы. И поэтому единственное, что оставалось человеку протонеолита – это осесть на землю. Новый строй жизни был труден и непривычен, но тот духовный переворот, который произошел в сознании людей около 12 тысяч лет назад, требовал выбора – или пренебречь родом, общностью с предками ради более сытой и удобной бродячей жизни, или связать себя навсегда с могилами предков нерасторжимыми узами единства земли. Некоторые группы людей в Европе, на Переднем Востоке, в Индокитае, на Тихоокеанском побережье Южной Америки сделали выбор в пользу рода. Они-то и положили начало цивилизациям нового каменного века. Удивительно, но на большом отдалении от передневосточного центра перехода к неолиту, происходят почти одновременные и имеющие массу общего с натуфийской культурой процессы. Сравнительно недавно в Восточной Сербии ниже Железных Ворот была открыта своеобразная лротонеолитическая культура начала VIII тысячелетия до Р. Х. – Лепеньски Вир.  Идол предка. Лепеньски Вир Доместикации еще не было и главным источником пищи являлись обширные пруды и дунайские старицы, изобильные хорошей рыбой. Но не пруды заставили древних обитателей Приданубья сесть на землю. Хорошая рыбалка позволяла перейти к оседлости, но не могла сама по себе заставить сделать этот серьезный шаг. Раскопки в Лепеньском Вире обнаруживают истинные причины изменения всего строя быта. Из 147 построек поселения около 50 имели внутри себя святилища – прямоугольные алтари, окруженные блоками камня, вцементированными в пол. Алтари имели круглое или овальное место для жертвоприношений, окруженное несколькими скульптурами из крупной гальки. Скульптурки эти, с подчеркнутыми мужскими и женскими половыми признаками, скорее всего обозначают предков. Для них же сделаны треугольные отверстия в полу прямо против алтаря, очерченные охряными камушками или нижними человеческими челюстями. Если добавить, что священная часть жилищ с алтарями всегда представляет в Лепеньском Вире сектор в 60° по оси запад-восток, вершиной упирающийся в алтарь и расходящийся в противоположную входу сторону, и что именно в этом секторе находятся треугольные отверстия, и в нем же, по оси север-юг покоятся человеческие останки (детей до пяти лет непосредственно похороненных в доме и взрослых – перезахороненные), то становится совершенно ясно, что через отверстия в полу предки должны были получать жертвенные пищу и питье из рук живых. То, что фигуры вокруг алтарей тоже ориентированы по оси север-юг, подтверждает наше предположение: изваянные в скульптуре – не боги, а предки. Скорее всего именно эти полсотни жилищ и являются родовыми домами-жилищами – остальные – служебные постройки и временные сооружения. Связь предков и потомков оказывается в дунайском протонеолитическом поселении не менее явной, чем в Иерихоне или НахалОреие, а привязанность к земле, которую еще не обрабатывали, вполне понятной. Это была та Мать-Земля, в которую, подобно семени в утробу, входили отцы и где они покоились до времени, отнюдь не оставляя своим попечением живых. Почему в ряде мест Старого и Нового Света почти одновременно вспыхивает эта новая вера, бесконечно усилившая древнее, как сам человек, почитание живыми своих умерших, заставившая человека отказаться от бродяжничества и обратившая его внимание на чудесную тайну умирающего, возрождающегося и умножающегося зерна? Ответа на этот вопрос, ответа убедительного, палеоатропологи не дают и по сей день. МАТЬ – СЫРА ЗЕМЛЯ Присущее уже верхнему палеолиту почитание земли в образе беременной женщины в эпоху неолита вполне сохраняется и во многом усложняется. Но суть почитания земли остается той же – это благоговение перед стихией, в которую уходит семя жизни и которая возрождает его к новому бытию. В протонеолитическое и неолитическое время растительное семя, зерно, бобовые становятся постоянным и общепринятым символом семени человеческого. «Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время» [Иов 5,26] – слова эти из ветхозаветной книги Иова отражают очень древние и сильные символические образы. В Египте V тысячелетия до Р. Х. (культура Меримды) умерших погребали лицом к востоку, наполняя при том рот покойника зернами пшеницы. В Библе IV тысячелетия до Р. Х. почти все захоронения делались в сосудах для хранения зерна (пифосах), а непосредственно в земле – не более одного процента погребений. Умершего клали в пифос вперед ногами, практически без инвентаря, горлышко закрывали черепком. Достаточно часто умерших хоронили в гротах и пещерах – это прямое продолжение палеолитической традиции, но новая – в сосудах для зерна – для жителей поздненеолитического Библа оказалась более распространенной. Традиция связывать зерно и умерших в своеобразной форме дошла до классической Греции, где в домах часто около домашнего очага врывались пифосы с пшеницей и ячменем. Они считались вместилищами душ умерших предков. С VII тысячелетия распространяется почитание процесса выпекания хлеба. Хлеб становится не только священной пищей, соеди няющей предков с потомками, но и символом нового качества человека, прошедшего через смерть и победившего ее. Выпекание хлебов, прохождение смеси муки с водой через огонь вполне могло казаться древнему земледельцу образом жертвоприношения и даже само быть жертвоприношением. Так же как малосъедобные зерно и мука,в огне хлебной печи превращаются в прекрасную пишу, так же и умерший, прорастая в иной мир, на огне жертвоприношения обретает новые качества, роднящие его с небесным божественным началом, к которому стремятся языки жертвенного огня. По крайней мере в Восточной и Балканской Европе VI-IV тысячелетий до Р. Х. получают большое распространение модельки хлебных печей, с нарисованными над зевом-ртом глазами. Антропоморфные черты получают энеолитические [98] очаги и в Анатолии. Из этих же районов происходят и модели целых домов, в которых женщины растирают зерно и выпекают в печах хлеб. Труба в таком доме-модели нередко оформляется в виде головы, а крыша – имитирует груди кормящей женщины [99]. В поселке трипольской культуры (Украина, Молдавия IV тысячелетия до Р. X.) Сабатиновка II археологи обнаружили и прототип таких моделей – дом площадью в 70 м2 с печью, зернотерками, сосудами для хранения зерна и крестообразным алтарем против входа. Около печи и зернотерок лежали женские статуэтки, кроме того 16 статуэток находились на торцовой скамье. Две из них восседали на стульчиках с увенчанными рогами спинками. Исследователь этого памятника Т. Г. Мовша предположила, что здесь, в храме трипольской культуры, «осуществлялся магический обряд растирания зерна и выпечки хлеба» [100]. Определение обряда как «магического» ничем не подтверждается в исследовании, но само предположение о культовом характере выпечки хлебов и приготовления муки в Сабатиновке II, видимо, справедливо. Тогда и модельки святилищ и печей с Украины и Балкан имеют тот же смысл. Это – картины священнодействия, позволяющие, в соответствии с законами религиозного изображения, открытыми еще в верхнем палеолите, символически повторять изображенное бесчисленное множество раз. Трипольские модели святилищ – это вечно длящиеся жертвоприношения хлебов. Что же касается изображений печей – то они, скорее всего, суть символические образы самой Матери-Земли в ее ритуальном облике преобразовательницы мертвого в живое, под образом превращения холодной и несъедобной смеси муки с водой в теплый и вкусный хлеб. Примечательно, что печь сохранила в восточноевропейском фольклоре характер защитницы от смерти. В нее прячутся спасающиеся от Бабы-яги дети, после того как отведали испеченных в ней «пирожков». Когда же дети отвергают дары печи, они попадают во владения смерти. [Яга – это и есть смерть – nga (угро-фин.).] «Приготовление обрядовых хлебов и поднесение их божествам – постоянный элемент обрядов всех религий «исторического периода», – указывает Е. В. Антонова. – Известна финикийская терракота эллинистического времени, изображающая группу из нескольких фигур, среди которых беременная богиня. Посередине находится предмет, напоминающий сводчатую печь. Возможно, вся сцена передает ритуал печения хлеба в присутствии богини» [101]. Хлеб, который выпекается в священной печи – это сам человек, умерший и побеждающий смерть в жертвенном огне, возносящем его к небу. Вкушение от таких «обрядовых хлебов» означало подготовку к победе над смертью, залог той жизни, которая проросла из умершего в земле зерна, дав колос нового хлеба. Среди исследователей неолитических ритуалов бытует мнение, высказанное, в частности, и Марией Гимбутас, что умерший, по представлениям того времени, призван был вечно возрождаться на земле, подобно зерну, падающему из колоса [102], но как раз почитание печи и выпекаемого в ней хлеба говорит об ином. Земля призвана была родить умершего не себе, но вечному Небу. До нашего времени дошло несколько моделей жертвенных хлебов эпохи неолита, сделанных из глины [103]: Потпоранье (Восточная Югославия), Баньица (под Белградом). На их верх нанесены образующие треугольники и ромбы, насечки со вдавленными точками или настоящими зернами. Такие же треугольники и ромбы с заключенными в них точками или зернами находим мы и на многочисленных статуэтках беременных женщин из жилищ и погребений VII-V тысячелетий до Р. Х. [104] Поскольку эти знаки, как правило, рисовались на животе, ягодицах и в районе половых органов, они, видимо, обозначали внутренние органы деторождения, принявшие в себя семя. «Похороны в утробе сходны с посаженным в землю зерном и в обоих случаях вполне естественным было ожидание появления новой жизни из старой» – указывала М. Гимбутас [105]. Формы неолитических «венер» менее гипертрофированы, чем ориньякских, но также существенно преувеличены и специально подчеркнуты: женщина изображалась с одной или обеими руками на беременном животе, как бы подчеркивая этим весь смысл своего образа «земли, древней богини, что в веках неутомима» в возрождении умерших [Софокл, Антигона, 346-348]. Яйцеобразные могилы Юго-Восточной Европы и такой же формы сосуды, использовавшиеся для погребений на Переднем Востоке, имитировали женское лоно, матку, в которой до времени «родов» пребывает умерший – зародыш новой жизни. Могилы в форме печи для хлеба, также встречающиеся на Балканах (культура Винча Тордош), подтверждают наше предположение, что хлебная печь являлась символическим образом Матери-Земли. Все эти многочисленные фигурки беременных женщин лишены какого-либо сексуального символизма. Внимание сосредоточено на передаче чревоношения и, нередко, на сценах родов. На южной стене «святилища» V. I Чатал Хююка (VI тысячелетие до Р. Х.) изображена сцена, которую Дж. Мелларт а за ним и Е. Антонова именуют «оплакиванием умершего». Скорее всего здесь действительно передан сюжет, связанный с заупокойным культом. «В восточной части этой стены нарисованы какие-то длинноногие птицы, обращенные головами друг к другу. Рядом с ними стоит животное, похожее на осла. Ниже показан человек, опустившийся на одно колено и простерший руки в стороны. Навстречу ему движутся два персонажа: мужчина, несущий корзину (подобную тем, в которых хранились костяки умерших), и мужчина, как бы в отчаянии закинувший руку за голову. За ними сидит раздвинув колени (в позе роженицы), женщина. Под всеми этими людьми изображен лежащий на спине человек» [106]. Символическое изображение возрождения умершего очевидно делалось путем уподобления этого таинственного процесса земному рождению. Одним из аспектов этого образа было плодородие земли и стад. Фигурки беременных и рожающих женщин часто находят под полом амбаров, овинов, мукомолен. Нередко делается вывод, что «беременная богиня» – это дух-покровитель полей и урожаев, богиня плодородия, без которой никак не обойтись было древним скотоводам и земледельцам. Но в действительности само земледелие и скотоводство превращались в глазах человека неолита в емкий символ победы жизни над смертью. Подобно Деметре исторической Греции, древняя богиня земли «заведовала» и плодородием стад и посевов, и даровала людям путь, ведущий из смерти в жизнь. И путь этот проходил через ее лоно. Прав был Борис Пиотровский, когда указывал, что «богиня земли является лишь особой формой богини-матери, богини всей природы». «Эта богиня встречается и в охотничьем быту, выступая в форме владычицы зверей» [107]. Иногда, дабы подчеркнуть подземный, хтонический [108] характер богини-матери ее в позднем неолите изображали с головой змеи (халафская культура, Телль Арапчая), но много чаще – в совершенно человеческом облике [109]. В поселениях халафской культуры миниатюрные терракотовые изображения рожающей или беременной богини часто носили на шнурке на шее. Это был один из дорогих для неолитического человека образов. Но, пожалуй, самым существенным для понимания сути почитания богини-матери в неолите является ответ на наивный, на первый взгляд, вопрос: кого рожала богиня? В скульптуре и фресках Чатал Хююка богиня очень часто изображается в момент рождения из ее чрева существа с бараньей или бычьей головой. В Хаджиларе, другом малоазийском протогородском поселении VI тысячелетия, многочисленны статуэтки обнаженных или почти обнаженных полных женщин, держащих на руках детеныша леопарда или ребенка с хвостом этого хищника. 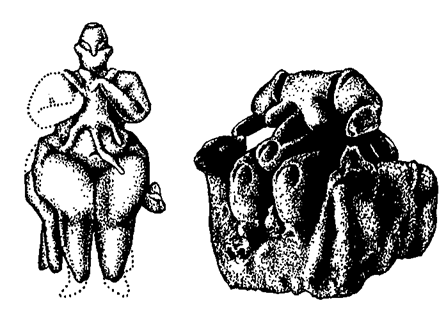 Роженица с детенышем леопарда (Хаджнлар), Богиня на троне (Чатал Хююк) Леопард, как можно заметить, очень часто сопровождает богиню. Иногда она едет на спине этого животного. Леопарды оказываются поручами трона восседающей богини (Чатал Хююк, начало VI тысячелетия). Иногда из этих фактов делается вывод, что изображаемая – мать природы, дающая жизнь всякой твари. Но по всей видимости, обитателей Чатал Хююка и Хаджилара больше волновало отображение реалий иного порядка. Дж. Мелларт [110] заметил, что умерших горожан Чатал Хююка, хотя и не всегда, но погребали облаченными в леопардовые шкуры. Костяные застежки от этих «костюмов» в большом числе обнаружены в могилах. На фресках святилищ также многократно изображены люди в леопардовых шкурах. О принадлежности бычьей и бараньей головы к образу Небесного Бога известно еще из верхнепалеолитической живописи, а в малоазийских неолитических городах, как, впрочем, и повсюду в Европе и Азии того времени, бык и баран становятся распространеннейшими символами. Леопард, хищник, способный пожрать плоть, подобно могиле, смерти, оказывается удачным образом «плотоядной» земли. Матрона, рожающая бычью или баранью голову, ласкающая детеныша леопарда, очень возможно – изображение возрождения умершего к божественной жизни из недр Матери-Земли. Умирает и кладется в могилу тленный человек. Воскресает из лона земли Бог. «Сеется в тлении, восстает в нетлении… сеется тело душевное, восстает тело духовное» [Кор. 15. 42-44]. Изображения неолита, преодолевая скудость художественных выразительных средств, в немногих образах доносят до нас древнюю веру в грядущее обoженье человека. В Чатал Хююке и Хаджиларе часто встречаются двойные и тройные изображения. То это грациозная девушка, зрелая, возможно беременная, женщина и мальчик на леопарде, то девушка, женщина и старуха; то обнимающаяся пара, а рядом – женщина, дающая жизнь бараньей голове. Мы помним, что сходные триады встречались и в религиозной живописи верхнего палеолита. «Следует специально подчеркнуть тот факт, что (в доисторической пластике – A. З.)встречаются два типа женских статуэток. – Отмечал в специально посвященной этой проблеме статье Карл Блеекер. – Помимо изображений матери, пышной беременной женщины, встречаются также изображения стройной девицы, девственницы. Важно и существенно, что богиня земли меняет свое обличье, доказывая тем самым, что мы неверно понимаем ее сущность, когда называем ее только «матерью», производящей на свет. Она оказывается также и прекрасной девой. Именуя ее только «матерью», мы слишком очеловечиваем ее. На самом деле это – Божественная госпожа» (Divine Lady) [111]. И хотя точно понять смысл этих изображений нам, видимо, никогда не удасться, ибо смолкло слово священнослужителя, свершавшего обряд, давно изглажены из памяти его жесты, все же можно предположить, что изображенное связывалось с изменением качества стихии земли. Вот она девственно прекрасна и нет еще в ней семени божественной жизни. Она – как бы невеста Бога, ждущая его объятий. Вот она несет в себе божественную жизнь, которая символом небесного Бога-Творца – бараном, быком являет себя из нее. Ребенок, стоящий на леопарде рядом с беременной матроной, – это достигший обоженья умерший, вышедший из утробы земли. И, наконец, старуха, часто изображавшаяся с чертами хищной птицы – это, видимо, земля, отдавшая своих мертвецов, ждущая обновления и, может быть нового принятия семени жизни. Последнее в образе великой Девы-Матери – это странный на первый взгляд вопрос – была ли она объектом поклонения, являлась ли «богиней». Несмотря на очень распространенные наименования ее среди ученых-религиоведов «богиней-матерью», «богиней природы», «богиней земли», ответить на этот вопрос не так то просто. Имеющиеся в нашем распоряжении скульптурные и живописные изображения Девы-Матери не дают убедительных фактов почитания ее в качестве самодостаточной божественной личности. Фиксируется в них ее беременность, ее чадородная сила, но не она сама. Проводивший раскопки в Лепенски Вире сербский археолог Драгослав Срейович обратил внимание на изобилие обломков глиняных женских статуэток в мусорных ямах культуры Винча. Видимо, изображения эти не имели самостоятельного культового значения и не ценились вне ритуала, – делает вывод ученый, – после завершения священнодействия они выбрасывались [112]. Но мы помним, что еще в среднем палеолите неандертальцы умели видеть в образе, например пещерного медведя, божественный первообраз, и потому с благоговением относились к его останкам. Смешать с бытовым мусором и отправить в яму поврежденные священные предметы вряд ли бы осмелился человек древности. К тому же повреждения статуэток скорее нарочиты, чем случайны. Очень может быть, что подобно могиле, считавшейся не вечным, но только временным пристанищем человека на пути к Богу, и сама Мать-Земля воспринималась скорее как средство перехода из смерти в жизнь, нежели как цель и причина. Лишь постепенно универсальный закон брака, превращающий двоих в «одну плоть», сделал утробу земли божественной. Сравнение с культом Небесного Отца человеков добавляет правдоподобия этому предположению. «НЕЗНАЕМЫЙ БОГ» НЕОЛИТА Находки множества женских изображений, имеющих отношение к области религиозного культа, заставляют подумать о причинах почти полного отсутствия изображений «мужских божеств» в тысячелетия неолитической культуры. Мужские фигурки, если и встречаются, то не как образы богов, но скорее – в качестве существенных для заупокойного ритуала изображений умерших. Доминирование женских образов позволило некоторым исследователям делать выводы о матриархальных отношениях неолитических сообществ. Вывод этот между тем несколько поспешный. Уже в самых ранних поселениях, в эпоху протонеолита встречаются странные объекты, местоположение которых свидетельствует об их почитании. Это – вертикально поставленные необработанные или почти необработанные камни. Иногда на них изображались глаза. Такие камни ставились близ очагов или даже помещались в специальные стенные ниши против входа. Такое помещение с нишей, где на глыбе камня, как на постаменте, установлена колонка высотой в 40 см и диаметром – в 16 см было раскопано К. Кэньон в Иерихоне [113]. В Бейдо (Северная Аравия) в странной трехчастной постройке, отстоящей метров на пятьдесят от поселения, в центральном «нефе» возвышалась необработанная скала песчаника. В библейской истории повествуется об Иакове, поставившем камень на месте, где видел он во сне лестницу, восходящую к Богу, «и возлил елей на верх его» [Быт. 28, 18] – т. е. воздал ему почитание, приличное Богу. И эти находки, восходящие к началу VIII тысячелетия до Р. Х., и это древнее предание говорят об одном – было время, когда человек ясно сознавал полную неподобность Бога ничему земному, ничему из сотворенного Им. Избегая какого-либо конкретного «тварного» образа Творца, человек неолита предпочитал бесформенность камня всем формам мира [114]. Мудрый царь Соломон сказал как-то о Боге: «Он благоволит обитать во мгле» [2 Пар. 6,1]. А древний христианский автор, которому церковная традиция усвоила имя «Богослов» [115] (329-389) отмечал: «Божественная природа есть как бы некое море сущности, неопределенное и бесконечное, простирающееся за пределы всякого понятия и времени и природы. Если наш ум попытается создать слабый образ Божий, созерцая Его не в Нем Самом, но в том, что Его окружает, то этот образ ускользнет от нас прежде, чем мы попытаемся его уловить, озаряя высшие способности нашего ума, как молния, ослепляющая взоры». В другом месте он же написал о Боге, перефразируя слова Платона из диалога «Тимей»: «Изречь невозможно, а уразуметь еще более невозможно» [116]. Конечно, может показаться, что бедному обитателю ранненеолитических деревень было далеко до столь возвышенного богословствования. Мы не знаем и скорее всего никогда не узнаем, как он объяснял свою склонность отображать Бога бесформенной глыбой камня. Но нет серьезных оснований сомневаться, что им владела та же интуиция, что и константинопольским епископом Григорием. Бог не познаваем, и потому изображение Его не может и не должно давать пищу для познания. В памятниках Иерихона, Бейды и им подобных мы встречаемся почти наверняка не с примитивным обожествлением каменной глыбы, не с литолатрией, но с глубокопродуманным, а скорее – глубоко пережитым образом божественной безoбразности. Камень, твердейший и неразрушимейший из всех земных материалов, говорил древнему человеку еще об одном, крайне важном свойстве Бога – о Его вечности и незыблемости. Смертный, легко разрушимый человек, желал соединить себя с Существом, над которым не властны смерть и тление. И видимо поэтому камень стал для людей неолита «иконой» непостигаемого Бога, «иконой», перешедшей позднее в Египет («пуп» Амона в Оазе Сива), в Элладу (камень Афродиты в Пафе) и даже в знаменитую мекканскую Каабу мусульман. В книге «Обряды и верования первобытных землевладельцев Востока» Елена Антонова [117] писала: «Известно, что форма выражения какого-либо явления и его содержание связаны, поэтому относительно примитивному выражению должно соответствовать аналогичное содержание». Но можно ли считать примитивным убеждение в непознаваемости Бога, выраженное в бесформенности каменной глыбы? С точки зрения религиозно-философской в форме выражения святыни из докерамического Иерихона больше глубины, чем в статуях Фидия или во фресках Сикстинской капеллы. Глубочайшую истину, что «Бог беспределен и непостижим, и одно в Нем постижимо – Его беспредельность и непостижимость» [118] постиг весьма глубоко «примитивный» обитатель ранненеолитических поселений. Более универсальным, практически общепринятым в течение всех неолитических тысячелетий, был, однако, иной образ Небесного Бога. Он, безусловно, пришел в неолит из древней, палеолитической эпохи. Образ этот – увенчанный рогами самец копытных животных – бык, баран, горный козел. Зубр из внутренней пещеры Ляско не был забыт, и хотя его образ больше не соединялся с трудной и опасной охотой на сильного зверя, наследованная из охотничьего прошлого человечества иконография Бога Творца сохранялась. Часто целое изображение быка замещалось одной головой, увенчаной рогами, часто создатели святилища ограничивались и еще более лапидарным образом одних мощных рогов. Символ этот, кажется, не знает границ культурных зон. Мы встречаем его и в Анатолии, и в Индии, и в Месопотамии, и на Дунайской равнине. В Ганджадаре (Западный Иран) раскопано маленькое помещение конца 8 тысячелетия до Р. Х. в нишу стены которого вмазаны один над другим два бараньих черепа с рогами. Бычьи рога встречают нас и в святилищах протонеолитического времени в жилищах северосирийского Мурейбита. В поселениях культуры Сескло (Фессалия, Македония, VI тысячелетие до Р. Х.) маленькие изображения рогатых бычьих голов носили на шее чуть ли не все их обитатели. Но нигде нет такого множества вмурованных в стены и скамьи бычьих и бараньих голов и рогов, как в Чатал Хююке. Здесь – это обязательный элемент любого священного пространства. Назвать эти находки свидетельствами «культа быка», «культа барана» – значит не объяснить ничего. Почитали неолитические обитатели не самих зверей, которых постепенно научились одомашнивать и использовать для пропитания и хозяйственных нужд, но тот Первообраз, образом которого стал со времен Ориньяка дикий бык и баран. В святилищах Иерихона, Бейды, Мурейбита, Сескло встречается множество маленьких глиняных фигурок, часто разбитых, быков, оленей, баранов, козлов. Это – жертвы Тому, Кого животные отображали первообразом жертвы. Очень возможно, что первоначально для жертвоприношений использовали диких, специально отловленных животных. Их содержали в загонах в ожидании дня священнодействия и постепенно научились приручать. Если так, то доместикация животных подобно одомашниванию растений имеет ритуальные первопричины. Образ рогатого копытного животного как «икона» Верховного Бога достиг исторического времени и обнаружил себя во многих религиозных сообществах. Египтяне рогами быков отмечали мастабы (гробницы) древнейших царей. Быком и овном, часто «диким быком», именуется Амон-Ра, «незримое солнце», Верховный Бог египтян. Рогатые тиары венчают шумерских богов; Зевс – бык как минойской, так и классической греческой религии; бык – образ Верховного Бога у хеттов, у обитателей протоиндской цивилизации, в классическом индуизме (нанда Шивы) – все это звенья одной цепи, образы единого символического ряда [119]. Рога жертвенника Синайской теофании [Исх. 27, 2], почти повсеместный в поэтике образ рога, как синоним мощи – «В тот день возвращу рог дому Израилеву» (Изд. 29, 21) также восходят к этой древней «иконографии». 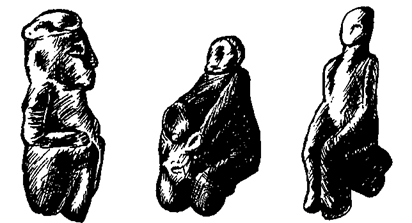 Антропоморфные изображения Бога (Чатал Хююк) Но среди этих символических, а то и вовсе бесформенных образов Небесного Бога в конце VII тысячелетия в Чатал Хююке вдруг возникают антропоморфные изображения. Что касается ребенка или юноши, как правило, изображаемого вместе с «богиней» или ее животным – леопардом, то это скорее всего – не Бог, но умерший, возможно идущий от смерти к Небу и к обладающему вечным бытием Творцу всяческих. Но вот зрелый муж с бородой, восседающий на быке – это, видимо, – Сам Творец. Появление этих изображений, не очень многочисленных и вскоре исчезающих (хотя в гхассульской культуре IV тысячелетия до Р. Х. Палестины распространены мужские статуэтки с рогами), говорит о великом открытии древнего человека или, по меньшей мере, об изобразительном отображении важнейшего религиозного понятия. Изображая великого небесного Бога-Творца человеком, мужем, чаталхююкский художник отнюдь не «снижал планку» умозрения, заданную в докерамическом неолите, когда непознаваемость Бога оказалась отображенной бесформенностью каменной глыбы. Нет, теперь, через два тысячелетия, человек сделал следующий шаг в отображении неизобразимого. Решившись изобразить Бога человеком, он думал об ином, бесконечно более важном для него уподоблении. Усваивая Творцу образ твари, художник единственно возможным способом демонстрировал подобие твари, подобие человека своему Создателю. Человек – образ Божий, желал сказать он, наделяя безoбразного Творца человеческим обликом. СВЯТИЛИЩЕ И XPАM Святилища, или, иначе говоря, особые священные, посвященные Богу или богам пространства, появляются в первых же известных нам жилищах. В круглых домах Лепеньского Вира, протонеолитического Иерихона, Эйнана достаточно легко выделяется пространство вокруг очага и сектор от очага до противоположной от входа стены, особенно богатые предметами, имеющими религиозное значение. «Знаками присутствия внечеловеческих сил в помещениях, обычно служивших жилищами или предназначавшихся для других бытовых целей, были различные изображения и естественные предметы – фигурки животных, на ранних этапах – особенно их головы и рога, сосуды в виде фигур животных или людей, статуэтки, камни необычной формы и проч. Близкий набор реалий обнаруживается в погребениях» [120]. Среди палеоантропологов распространено мнение, что долгое время святилище, теменос (от греч. ??????? – священное место) не отделялось от жилых помещений, располагалось непосредственно в них. На одном и том же очаге готовили пищу и приносили жертвы, рядом со скамьями, на которых спали живые, стояли на полках черепа умерших предков. Священный и обыденный, профанный [121] миры совмещались. Сознание древнего человека еще не навыкло, якобы, отличать чистое от нечистого. То, что в тысячелетия протонеолита и докерамического неолита (6,5-10 тысяч лет до Р. Х.) в жилых постройках часто размещались домашние святилища неоспоримо. Но нельзя забывать, что задолго до неолита, и в среднем и в верхнем палеолите, культовые пещеры очень часто имели чисто религиозное назначение и не использовались для жилья. Скорее, мы можем отметить, что с переходом к оседлому строю жизни меняется и представление людей о своем быте. Он в значительной степени освящается, перестает противопоставляться священному. Это не «неразвитость» сознания, но, скорее, этап развития, некоторая «антитеза» палеолитической религиозности, о содержательном смысле которой мы можем только догадываться. Видимо, как и сам переход к оседлости, расширение сакральной (от лат. sacrum – священный предмет, освящение) сферы в начальный период неолита было связано с миром предков. Переживание рода как священного целого заставляло хоронить предков под полами жилищ, выставлять их черепа близ очага. Это же переживание делало жилище теменосом, священным пространством. Однако если дом в века перехода к неолиту и стал святилищем, то святилищем особенным, родовым. Не в том смысле родовым, что тут священнодействовали только члены родового коллектива, но в смысле объекта священнодействия. В домах мы крайне редко встретим головы быков и баранов, вмонтированные в стены. Ниша с камнем – апофатической [122] иконой Бога также не является обычным элементом интерьера натуфийского или дунайского жилища. Вокруг очага-алтаря в домах нередко стоят крупные камни, но их множественность и соседство с могилами предков указывают скорее на связь с умершими и погребенными тут родственниками, нежели на образ Бога Творца. В доме чтут именно род отцов своих, черпают силу, обращаясь к предкам с молитвой и жертвой. Но уже и тогда в поселениях людей неолита скорее всего существовали специальные храмы, где искали связи и единства не с родом, но с Самим Творцом жизни. В настоящее время достаточно распространено различение между храмом и святилищем, предложенное У. Лэмб. Исследовательница неолитических поселений Малой Азии указывала, что святилище связано с постройками иного, не культового назначения, входит в их состав, является их частью, в то время как храм противопоставлен дому, как священное – профанному [123]. Мы уже говорили о двух храмах Иерихона («докерамический неолит В»), о «трехнефной» постройке Бейды, о маленьком храме Ганджадара. В них, видимо, совершались какие-то обряды, значимые для всего сообщества поселения, связанные с поклонением не предкам, но Творцу. Очень вероятно, что обряды и богослужения в этих первых, специально построенных, храмах включали приготовление и преломление освященного хлеба (вспомним зернотерки и зерновые ямы иерихонского храма «мегаронного» типа). Зерно, семя жизни, ассоциировалось не с землей, где оно проростало, но с Небом, которое его даровало. Приготовление муки, растирание зерен символически уподоблялись половому акту Неба и Земли, в которых пестик и ступка оказывались знаками мужского и женского креативных органов. Потому-то ступку ставили на могилу как надгробье – она была образом стихии земли, а сложенное из пестов изображение человека (Эйнана, дом № 26/3) знаменовало силу божественной жизни, как бы сходящей с Неба, оплодотворяющей землю. Характерное для раннего неолита доминирование домашнего родового святилища при наличии в поселении и специального храма, где возносились молитвы Творцу жизни, замещается в середине VII-VI тысячелетии до Р. Х. своеобразными религиозными центрами, существующими в окружении сельской периферии, почти лишенной предметов определенно культового назначения. Так, на дунайской равнине, на площади примерно в 120 тыс. км., где распространена была культура Лепеньски Вир – Винча, всего в пяти – шести поселениях наблюдается скопление множества религиозных объектов и предметов культа. В десятках же простых деревень и деревенек археологи находят лишь отдельные культовые предметы, как правило, связанные с почитанием Матери-Земли. Религиозные центры отличаются не только обилием следов интенсивной религиозной жизни их обитателей, но и размерами – они в десятки раз больше простых сельских поселений и их даже возможно именовать городищами (так как они имеют укрепленный валами и частоколами рубеж) и даже – протогородами. Подлинной сенсацией в археологии стало открытие в 1961- 1963 годах неолитических городов Анатолии Джеймсом Меллартом. Крупнейший из них – Чатал Хююк. Площадь холма, под которым покоится поселение, более 13 гектаров, но раскопано к настоящему времени только полгекгара и то не до уровня девственного грунта. Нижних слоев Чатал Хююка еще не коснулся заступ археолога. Самый древний известный период поселения – 6500 год. Город существовал и рос до 5400 года. Последние века он страдал от набегов и пожаров, которые, в конце концов, и погубили это крупнейшее из известных в мире средненеолитических поселений. Дж. Мелларт назвал раскопанную им часть города «жреческим кварталом» [124]. И это потому, что на сравнительно маленькой площади ему встретилось четыре десятка специальных святилищ, среди которых не было двух подобных. К ним примыкали и стандартные жилые постройки – комната около 25 м2 , кухня, хозяйственный дворик. Здесь, по всей видимости, жили те, кто священнодействовал или помогал во время религиозных обрядов. Дальнейшие раскопки должны показать, действительно ли Мелларту «повезло» случайно раскопать жреческий квартал, или же такой характер носило все поселение, являвшееся сакральным центром для деревенской «профанной» провинции. Жреческий характер другого, меньшего по площади анатолийского протогорода Хаджилара и сакральные центры Дунайской равнины культуры Винча скорее подсказывают, что «жреческий» характер имеет весь Чатал Хююк. Очень может быть, что он – древнейший аналог дворцов Минойского Крита (см. книгу III, часть – Крито-Микенская религия) III-II тысячелетий до Р. Х. От эпохи неолита до нас не дошло более богатых и разнообразных памятников религиозного характера, чем святилища Чатал Хююка. В них широко представлена и настенная живопись, и рельеф, и полная скульптура, и мелкая пластика, и разнообразные погребения. Центральное место в святилищах Чатал Хююка занимают образы рогатых копытных, чаще всего – быка, реже – барана, еще реже – благородного оленя. На основе подлинного черепа животного с рогами моделируется его морда, выступающая из стены. В одном святилище таких голов может быть несколько. Кроме того, на полу делаются специальные скамьи и ставятся столбики, увенчанные одной или несколькими парами рогов. Иногда головы животных моделировались не на основе их черепов, но с использованием костей иных животных (например, кабана) или даже связок соломы. Быков изображают также горельефно или живописно. Есть фрески, изображающие то ли игры, то ли охоту на быка или оленя. Быть может это – моменты сложных жертвоприношений. Надо заметить, что в Чатал Хююке рога и головы быков присутствуют и в помещениях, считающихся жилыми, но это миниатюрные модельки. Вторым важнейшим сюжетом святилищ Чатал Хююка являются изображения женщин с широко расставленными, почти перпендикулярными корпусу руками и ногами, с животом и грудью последних недель беременности. Как правило, это барельефы, но встречаются и живописные изображения и статуи. Нередко бычьи и бараньи головы изображаются сразу под женской фигурой, как бы рожденные от нее. Довольно часто на стенах святилищ моделируют изображения женских грудей, в которых под глиняной обмазкой находятся черепа кабанов, ласок, грифов, лис. В святилище E. VI.10 на восточной стене пара грудей была вылеплена справа от бычьей головы так, что черепа грифов, служившие для них каркасом, выступали остриями клювов на месте сосков. 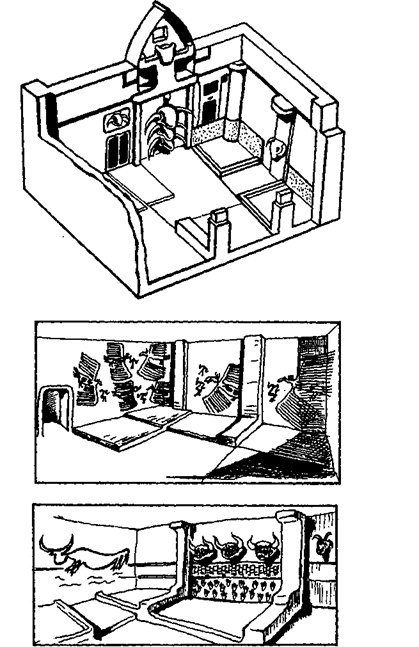  Интерьеры святилищ Чатал Хююка Груди, видимо, символизируют пищу мертвых, то молоко земли, которым умершие питаются в ожидании воскресения. Возможно, это и символ нашего мира, в котором вся пища – суть «молоко земли». И потому вкушающие земную пищу идут со смертью в утробу земли, откуда уже «небесным быком», богоподобным существом восходят на небеса. Сцены родов бычьей или бараньей головы очень наглядно отображают это представление чаталхююкцев. Восточную стену многих святилищ Чатал Хююка «украшает» четырехугольная «красная ниша» – выкрашенный охрой, без каких-либо изображений прямоугольник. Только по сторонам его могут находиться бычьи или бараньи головы, женские груди. Дж. Мелларт полагает, что «красная ниша» – образ «того света», инобытия. Очень может быть, что мнение открывателя Чатал Хююка справедливо. Ведь охра издревле была символом жизни, победившей смерть. Восток – место появления солнца, разгоняющего тьму ночи, является вполне значимой символической ориентацией красной ниши в святилище. Это как бы «святая святых» – образ Неба и Бога. Бычьи и бараньи головы святилищ Чатал Хююка также часто окрашивались в красный цвет. Очень распространено изображение на стенах святилищ человеческих ладоней. Иногда они буквально впечатаны в обмазку стен. Ладони могут создавать своеобразный орнамент пустого пространства стены, могут покрывать головы быков и баранов. Реже они встречаются и на барельефах женских фигур. Что означают эти изображения, мы точно не знаем. Дж. Мелларт высказал предположение, что они – символ преданности человека Богу, знак поклонения, связи. В святилищах VII.21 и VII. 8 северные стены расписаны изображениями громадных грифов (до 1,8 м в размахе крыльев), пожирающих скорченные безголовые человеческие тела. Может быть это картины определенного этапа погребального ритуала – многие народы до сих пор оставляют тела умерших на съедение хищным птицам. Но, возможно, изображенное имеет и более глубокий смысл. Гриф, наравне с леопардом, являлся в Чатал Хююке животным Матери-Земли. Есть даже статуэтка старой женщины рядом с грифом. Ведь земля, подобно хищникам, «питается» мертвечиной, принимает в себя ее. У грифов как бы в разрезе показаны наполненные желудки. Примечательно, что человеческие тела на этих фресках все безголовы. Таков, по всей видимости, и был погребальный обряд – головы после смерти отторгали от тел и хранили особо. При раскопках этот обычай подчеркнуто благоговейного отношения к черепу выявлен повсеместно в Чатал Хююке. В святилище VII.21 на платформах были найдены открыто стоявшие человеческие черепа. Но голова, как мы помним, уже с раннего палеолита считалась священным вместилищем человеческой личности. И фрески с грифами как бы подчеркивают, что личность человека не пожирается, не объемлется землей и смертью. Тлену подвержено только тело – отсюда безголовость умерших. Личность же усопшего должна обожиться при воскресении, символическим отображением которого являются роды Матерью-Землей быкоголового существа. Следует иметь в виду, что изображения делались в святилищах Чатал Хююка не для декоративных целей, а исключительно для культовых. Они замазывались и затем воспроизводились вновь почти в неизменном виде. В некоторых святилищах число живописных слоев на стенах достигает ста. Видимо, сам процесс рисования был элементом религиозного действа и требовал повторений. В тех случаях, когда святилище переставало действовать, все изображения в нем тщательно уничтожались, барельефы сбивались, живопись замазывалась, статуи разрушались или уносились. Должно быть, жители города боялись осквернить священные изображения обыденной, «греховной жизнью», которую ведет человек изо дня в день. Только святилища, погибшие в пожарах, спасли для археологов целостность внутреннего убранства. Период создания «священных поселений», «жреческих городов», таких как Чатал Хююк, Хаджилар, Лепеньски Вир для большинства неолитических культур оказался сравнительно недолгим – не более двух тысячелетий. Но с точки зрения понимания развития религиозного сознания священный город среднего неолита весьма примечателен. Культ предков, побудивший бродячего охотника осесть на землю 9-14 тысяч лет назад, как бы стер дистанцию между священным и обыденным, божьим и человеческим. Предки – часть рода, такие же люди, но обладавшие в ином мире особым могуществом. Почитание Небесного Бога-Творца в это время не имеет большой значимости: постройки, которые можно счесть храмами, невелики и не главенствуют в застройке ранненеолитических поселений. В VII и VI тысячелетиях до Р. Х. почитание рода вполне сохраняется, но растет и значение Божественного Творца. Его образы в виде крупных копытных занимают главное место в святилищах. Появляются и изображения Небесного Бога в человеческом облике. Люди как бы вновь вспоминают и громадную дистанцию между собой и своим Творцом, и расстояние между совершенным, богоподобным человеком и реальностью человеческого несовершенства и неподобия. Осознание этой дистанции и побуждает должно быть жителей неолита отделить священное от профанного, объект упований и молитв – от грешной повседневности. Отделяются не только святилища, но и те, кто служат в них. Умершие, очень возможно и из других поселений, приносятся и предаются земле под полом святилищ и иных построек священного города, но живые далеко не все могут жить в нем, но только «чистые», «посвященные Богу». В дальнейшем переживание собственной нечистоты и греховности продолжает углубляться. Святилище преображается в храм, отделенный от жилища, часто поставленный на специальное искусственное возвышение или естественный холм. Таковы, например, храмы в Месопотамии IV тысячелетия в Эль Убейде и Эриду. Но, с другой стороны, это позволяет людям приблизиться к храму. Противопоставление «священного города» и «профанной деревни» исчезает. Возникает город, стягивающий население как можно ближе к священной земле теменоса. «Ученые ныне согласны в том, – указывал Мирча Элиаде, – что древнейшие города возникли в местах совершения постоянных священнодействий (in ceremonial complexes)» [125]. Паул Уитли [126] на множестве примеров показал, что древнейшие города строились вокруг святилищ и что первоначальное значение города было религиозным и в Месопотамии, и в Китае, и в Египте, и в Центральной Америке. Города возникали «вблизи таких священных местностей, осей мира, где казалось наиболее возможным связать воедино землю, небо и преисподнюю» [127]. Такой город дошел от V-IV тысячелетий до Р. Х. до наших дней. Повсюду в мире можно видеть, что стоящие на центральных площадях старинных городов храмы являются градоорганизующей осью, от которой разбегается сеть улиц и переулков. Храм зримо стягивает к себе город, напоминая, что когда-то город возник не только вокруг священного центра, но и из-за святыни, жить поближе к которой стремились люди. Близость к святыне храма была, по всей видимости, символической близостью к Тому, кому эта святыня посвящалась. Примечательно, что в храмах V-IV тысячелетий Переднего Востока нет ни статуй, ни изображений, но только алтари, вокруг которых, видимо, совершался ритуал. Часто эти алтари имеют следы огня, остатки золы – на них приносились огненные жертвы. Печати IV тысячелетия до Р. X.из Тепе Гавра (Северная Месопотамия) доносят до нас формы древнего богослужения. На них изображены религиозные процессии вокруг алтаря, танцы, поклонение престолу. Запредельность, безвидность Бога вновь утверждается в сознании. Антропоморфные изображения Бога-Творца не создаются более. В религиозную символику вторгаются изображения небесных светил – солнца, луны, звезд. В Телль Гхасуле (Иордания) в сравнительно большой постройке с очерченным полукругом камней жервенником, посетителей встречала фреска – восьмилучевая большая звезда, которую окружают человеческие фигуры. Символические фигурки космических сил дошли от IV тысячелетия из храмов Румынии (Каскуйарехе) и Болгарии (Овчарёво). Космическая символика очень ясно свидетельствует об увеличении дистанции между небом и человеком. Звезды, луна, солнце сияют над миром, даруют ему свет, красоту и тепло, но совершенно недостижимы с «грешной» земли. И подобно тому, как мы сейчас не жалеем сил в деле освоения материального космоса, люди позднего неолита, остро пережив всю безмерность расстояния между собой и своим Творцом, готовы были приложить невероятные усилия в преодолении этой метафизической пропасти. «МИР МЕРТВЫХ» И «МИР ЖИВЫХ» «Они хоронили своих умерших в земле, – писал С. Г. Ф. Брэндон, – поскольку они были убеждены, что обиталище мертвых находится под землей… Снабжение умерших предметами, в которых они имели нужду в этой жизни, видимо, может быть объяснено тем, что первобытные люди совершенно не были в состоянии представить себе жизнь после смерти как либо иначе, чем жизнь, которую они знали здесь, на земле» [128]. Это высказывание крупнейшего религиоведа в специальной работе, посвященной посмертному суду в верованиях различных народов, примечательно своей характерностью. Но в действительности оно очень оглупляет древнего человека, который прекрасно знал, что преданный земле мертвец лежит там, где его похоронили, не пользуется никакими орудиями и не ест ничего из оставленной в могиле пищи. Похоронный обряд доисторического человека как минимум должен предполагать, что в сознании совершавших его существовало представление о двойственности человеческой природы, о теле, истлевающем в могиле, и о душе, которая сходит в «обиталище мертвых». Душе соответственно нужны не сами материальные предметы, но их «души». Так же, как на земле телесный человек ест материальную пищу из глиняной чашки и поражает врага боевым топором, так же в мире душ, душа умершего способна вкушать душу пищи и поражать душу врага душой топора. Чтобы человек «испустил дух», чтобы душа разделилась с телом, обязательно должна произойти смерть материального тела. Чтобы души предметов могли стать частью мира умершего, они как материальные предметы также должны умереть. Отсюда – довольно распространенный обычай поздних веков – убивать рабов и жен на могилах их хозяев и мужей и восходящая к неолиту традиция разбивания на могиле посуды и иных предметов из обихода живых. Разрывание одежды в знак скорби по умершему восходит, быть может, к этому же ряду символов. Но, хотя знание факта двойственной, а то и троичной (дух, душа и тело) природы человека уже можно обнаружить в самые ранние эпохи существования рода Homo, в среднем и даже в раннем палеолите (синантропы Чжоу Коудяна), объяснение им всей полноты погребального ритуала вряд ли возможно. Во-первых, хоронят тело, телу придают эмбриональную позу или позу сна. Значит верят в пробуждение, в возрождение тела, значит – не ограничивают древние инобытие человека жизнью души, а ждут в будущем какого-то чудесного мига, когда души воссоединятся с телами и мертвые проснутся. Во-вторых, разламывание заупокойных даров – довольно поздний и не всеобщий обычай. Скорее – здесь мы сталкиваемся с вторичной рационализацией заупокойного, погребального ритуала. Первоначально и поза, которую придавали телу умершего, и пища, и предметы труда, и оружие, положенные в могилу, подчеркивали, символически обозначали, что умерший жив, что смерть – это временное его состояние. В иных культурах для знаменования этого факта прибегали к иным символическим рядам и не сопровождали предметами земной жизни погребение. Да и предание земле, зафиксированное с мустьерских погребений неандертальцев, возникло не из желания «приблизить» покойника к подземному обиталищу душ, но, скорее, из простого и одновременно бесконечно глубокого убеждения, что Матери-Земле, из которой тело взято, надо вернуть свое. А она, Земля, когда наступят сроки, возродит семя небесной жизни, Вечному Небу. И опять же, только вторичная рационализация связала обитель душ, царство мертвых, с подземным миром именно потому, что в землю издревле помещали в ожидании воскресения тела умерших. Мы увидим, как борются, как сосуществуют небесное, внеземное и подземное местоположения душ умерших в древнейших письменных культурах – в Шумере, в Египте. Неолитические погребения, в сравнении с верхнепалеолитическими, могут удивить бедностью погребального инвентаря. В протонеолитический и ранненеолитический период умершие становятся частью мира живых и потому их жизнь не нужно знаменовать погребальными «дарами». Черепа умерших стоят в доме рядом с очагом, кости покоятся близ жертвенника. С теми, кто уже «не существует», так поступать не могут. Мертвые в ту эпоху не просто считались живыми, но их жизнь была существеннейшей опорой жизни живых. В тех случаях, когда захоронения производились под открытым небом, мы находим на заупокойных алтарях толстый слой золы. В Нахал-Орене он достигает полуметра. Кому приносились жертвы на могилах предков – самим умершим или их Творцу – не ясно. Но совершенно очевидно одно – огненные жертвы не могли приноситься тем, кто обитает «под землей». Огонь возносится от земли к небу и объект жертвы натуфийцев (Нахал-Орен – одно из натуфийских поселений Палестины) имел небесную природу. Когда представления о подземной топографии мира мертвых закрепилось, жертвы мертвым стали совершаться иначе – кровь жертвенных животных должна была напитать землю, а сами жертвенники, например, в греческом культе героя, устраивали ниже уровня земли. Захоронения с рогами копытного в руках или на груди умершего (например, Эйнан), а позднее с амулетами в виде бычьих голов (Сескло, Фессалия, VI тысячелетие до Р. Х.) безусловно, указывают на цель посмертного странствия – к Небесному Богу. На ожидание странствия указывают нередкие находки скелетов собак рядом с людскими захоронениями (Эрк эль-Ахмар, Убейд, Альмьера). Сбака, проводник охотника в этом мире, оказывается понятным символом верного пути при переходе в инобытие. Собакоголовые Анубисы, Керберы – позднее воспоминание этого ранненеолитического образа. Характерные для раннего неолита захоронения под полами домов и внутри поселений остаются обычными и в священных городах VII-VI тысячелетий. В Чатал Хююке на площади раскопа в полгектара обнаружено более пятисот захоронений. Хоронили под лежанками жилых домов, причем мужчин – под угловой скамьей, а женщин вдоль длинной стены. Мелларт предполагает, что на этих же скамьях спали живые мужчины и женщины [129]. Кроме того, немало захоронений обнаружено и в овальных ямах вне домов. Довольно много людей похоронено в святилищах. В святилище VI. 10 найдено 32 скелета, в святилище грифов (VII.8) – шесть погребений. Мелларт отмечает, что одежды, украшения и вещи погребенных в святилищах обычно намного богаче и разнообразней, чем у похороненных в домах и в овальных ямах. Ученый предполагает, что в святилищах покоились останки высших жрецов, которые при жизни совершали в них священнодействия. Примечательно, что в хозяйственных двориках и хранилищах запасов захоронения полностью отсутствуют. Это указывает на неслучайность выбора мест погребений чаталхююкцами. Хоронили не там «где попроще», а там, где полагали нужным. Расположения костей скелета, неполнота скелетов указывают на вторичный характер захоронений в Чатал Хююке, да иначе и невозможно было делать при стремлении горожан жить в одних домах со своими усопшими. Ряд стенописей святилищ показывают, что тела умерших оставляли вне города на легких помостах для экскарнации (распада мягких тканей). Затем очищенные кости заворачивали в одежды, шкуры или циновки и погребали в домах и святилищах. Останки посылались охрой и киноварью, черепа в области шеи и лба красили синей или зеленой краской. С погребенными клали небольшие «дары», но статуэток и керамики нет в могилах Чатал Хююка. Иногда черепа, как и в начале неолита, отделялись от скелетов и помещались открыто в святилищах. «Священные города» как бы завершают традицию X-VIII тысячелетий до Р. Х. С VI тысячелетия все заметней проступает новая тенденция к разделению миров мертвых и живых. В хассунской культуре (Месопотамия, VII-VI тысячелетия) мертвых, как правило, погребают уже вне поселений. Под полами домов продолжают хоронить только тела детей и подростков. В Библе VI тысячелетия под домами также обнаружены только детские погребения, в которых человеческие кости иногда перемешаны с овечьими. Такие захоронения делались в специальных небольших сосудах. Почти полное отсутствие взрослых погребений говорит о наличии специальных кладбищ. Такие «кладбища» или переходные к ним формы типа «домов мертвых» вскоре были обнаружены. В Библе это постройка «46-14», под полом которой похоронено более 30 человек, в Телль ас-Саване (Средняя Месопотамия) – постройка «№ 1» VI тысячелетия, под которой в ямах на 30-50 см ниже уровня пола находилось более ста вторичных захоронений. В это же время из интерьеров жилищ исчезают и черепа умерших родственников, которые раньше нередко ставили вдоль стен и вокруг очага. Те же тенденции заметны и в погребальных обычаях Дунайской равнины VI тысячелетия. Взрослых и здесь редко теперь хоронят под домами, но обычно – вне поселений, в пещерах или на специальных кладбищах. Причины изменения казалось бы устоявшегося обычая можно понять, поскольку перемены не распространились на детей. Жители среднего неолита почему-то полагали, что именно тех, кто умер во взрослом возрасте необходимо разлучать с домом, предавая земле или на кладбищах или в специальных «домах мертвых». Но чем дети отличаются от взрослых? Подобно неандертальцам и кроманьонцам, обитатели неолитических поселений полагали, что умершие дети в инобытии станут взрослыми. В том же Телль ас-Саване [130] детские захоронения по инвентарю неотличимы от взрослых, в них нет специальных детских вещей. Поэтому живых смущал не возраст сам по себе, а нечто, лишь отчасти связанное с годами земной жизни, а не с «возрастом» в вечности. Надо заметить, что и в настоящее время в Индии общий для всех индусов закон о кремации умерших не распространяется на детей до пяти-шести лет и на святых. Объясняют эти «исключения» обычно тем, что маленькие дети еще свободны от греха и потому не оскверняют собой землю, а святые подвижники аскезой уничтожили в себе все греховное. Очень возможно, что люди среднего неолита размышляли подобным образом и потому перестали хоронить взрослых в своих жилищах. Взрослые были грешны. Понятие греха – одно из важнейших в большинстве религий. Суть его в том, что человек своевольно нарушает какие-то установленные Творцом мира законы. Если все в мире – и живое и неживое – естественно следует тем правилам, которые заложены в основание мироздания, то человек может делать это, а может и не делать. Он – свободен. Свобода эта не беспредельна. В чем-то, подобно всем живым существам, человек инстинктивно подчиняется естественному закону – он не в состоянии свободно отказаться от питья, дыхания, сна, хотя может волевым усилием и существенно ограничить свои потребности и желания. Но где-то, и в очень обширной области своих действий, человек свободен вполне. Он может делать другим людям гадости, а может помогать им, он в состоянии жертвовать собой ради ближнего, любимого им, а может и требовать жертвы себе от других людей. Каждый из нас много раз на дню делает, часто того не замечая, такие выборы между добром и злом, хорошим и плохим. Для религиозного ума добро – это не просто то, что люди согласились считать таковым. Добро – это объективное установление Божие человеку, это – воля Божия в отношении человека, это, если угодно, предписанный ему Творцом закон, следуя которому он обязательно достигнет счастья, поскольку Бог – благ. Напротив, зло – это отход от Бога в своеволие. Презрение к закону, данному человеку Творцом. Поскольку Бог – единственный первоисточник жизни, то отход от Него есть смерть, превращение в ничто. Грех – это и есть такое самоуничтожение, хотя с точки зрения самого совершающего грех человека, он самоутверждается, реализуя поставленные им перед собой цели. Человек не может вполне понять своим умом, почему-то хорошо, а это плохо, желание плохого к тому же часто застилает ему глаза. Отсюда – закон – это объективированная, но не объясненная воля Бога. Во многих религиях именно божественный закон является нитью, ведущей человека к своему Творцу, к блаженству и бессмертию. Разделение заупокойных обычаев, различия в топографии погребений детей и взрослых с наибольшей достоверностью могут быть объяснены именно сознанием греховности взрослого человека. Но так же и убежденностью в безгрешности младенцев. Поэтому мы можем предположить, что в эпоху неолита грех считался делом рук самого человека, его свободного волевого выбора. Понятно, что младенец такой выбор сделать еще не может и потому сохраняет безгрешность. Умерший взрослый начинает сознаваться, как вместилище грехов, которые могут перейти на живых, продолжающих жить в доме, где он покоится. Ведь мысль о взаимообмене силами живых и умерших за несколько тысячелетий доразделения дома и кладбища уже легла основанием религиозного бытия человека, вызвав к жизни, как мы предположили, и оседлость, и доместикацию. Но тогда, в протонеолите и раннем неолите этот «взаимообмен» воспринимался как благо, теперь же – как вредоносная опасность. И мертвые покидают мир живых. Их обителью отныне становится некрополь – город мертвых, кладбище. Примечательно, что приблизительно в это же время святилище окончательно превращается в храм, отделяясь от жилища. Живые не только умерших, но и самих себя не считают более достойными постоянного предстояния Богу и святыне. Они грешны в своей повседневной жизни и поэтому, дабы не вызывать гнев Божества лучше Его дом отделить от своего и посещать Дом Божий в особые дни в состоянии очищенности, чистоты. Не связано ли это обострение переживания греха с проникновением антропоморфизма в иконографию Творца? То есть, когда люди смогли уподобить Бога себе, тем самым, говоря, что они подобны Богу, несут в себе Его образ, они остро ощутили собственное несовершенство, то, что божественное в них подавлено человеческим, доброе – злым. Как бы то ни было, но в это время в погребениях, по-прежнему бедных инвентарем, встречается часто только один нарочито поставленный предмет – это сосудик различной формы, но всегда небольшой. Иногда таких сосудов несколько. Они ставятся у груди и рук, реже – у ног и темени покойного (Телль ас-Саван). В погребениях самарской культуры (Месопотамия, VI-V тысячелетия до Р. Х.) в руках, на груди или у головы умершего ставилась маленькая каменная фигурка с чашечкой на голове. Дж. Отс, посвятивший этим статуэткам специальную работу, обратил внимание, что украшения фигурки и тела покойного, близ которого она помещена, совпадают [131]. В убейдской культуре (IV тысячелетие) в захоронениях находят керамические тарелки с опрокинутыми на них чашечками. Судя по более поздним аналогам уже исторического времени, все эти сосудики и чашечки содержали в себе растительное масло. По всей видимости, именно из VI-V тысячелетий идет широко распространенный и ныне во многих религиях западной половины мира обычай умащать тела умерших. Что символизировало масло, елей? [132]  Погребальный сосуд из Телль Арпачии Драма борьбы со смертью прекрасно отображена в погребальном сосуде из Телль Арпачии (Месопотамия, VI тысячелетие). В нем был предан земле череп. Внешняя стенка сосуда орнаментирована крестами мальтийского типа и бычьими головами. Также изображен огромный погребальный сосуд, над которым склонились два человека. Между их руками чашечка, полная, видимо, елея. Внутренняя стенка содержит сцену битвы умершего со смертью, олицетворенной хищным зверем. Тут же стоит бык и две женщины с распущенными волосами и подчеркнутыми знаками пола держат погребальный плат Жаркий и сухой климат Переднего Востока быстро иссушает кожу. Под немилосердными солнечными лучами она трескается, начинает сочиться сукровицей, причиняя человеку тяжкие страдания. Но, если в кожу втереть растительное масло, страдания прекращаются. Кожа вновь становится эластичной и мягкой, болезненные трещины быстро врачуются. Должно быть это умягчающее действие масла обратило на себя внимание древнего человека [133]. Кроме того, масло питает огонь светильника. Напитанный им фитиль горит, но не сгорает. Второе качество – прекрасный образ молитвы, первый – милосердия. Соединение двух этих качеств в одном веществе очень хорошо соответствовало религиозному чувству – молитва, устремленная к Богу, вызывает Его милость, которая умягчает раны, причиненные грехом. Мертвый тем более нуждается в милосердии Божием. Он уже бессилен добрыми делами исправить соделанное им в жизни зло. Близким умершего остается только уповать на милость Творца. И потому сосуды с врачующим елеем ставятся близ тела покойного. Масло – символ исцеления Богом страждущего от пламени греха человека. Чувство греха, переживание собственной некачественности, испорченности, материализовавшееся в разделении дома с кладбищем и святилищем, в широком использовании елея в погребальном обряде – особенность неолита. Осознав свою несоответственность Творцу, человек с новой драматической силой начинает искать пути преодоления ясно увиденной пропасти между собой и Богом. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ Некоторые находки эпохи неолита заставляют предположить, что возможно вместе с усилением чувства греха в религию пришли и человеческие жертвоприношения. Останки детей и подростков порой находят в основаниях фундаментов домов, иногда состояние скелета, безусловно, свидетельствует о том, что в момент смерти тело было грубо разрублено на части (Ярымтепе, Месопотамия). Смешанность детских костей с овечьими может, конечно, быть результатом заупокойной жертвы, но не исключено, что сам ребенок был такой жертвой вместе с ягненком. Под основанием странной постройки, напоминающей бассейн, обнаруженной в Иерихоне (докерамический неолит), находились десятки детских погребений. Но если находки, сделанные на Переднем Востоке, позволяют лишь предполагать принесение людей в жертву, то в Средней Европе в VI-V тысячелетиях, безусловно, имели место какие-то культы, требующие убийства людей. В Южной Германии в пещерах Большой и Малый Офнет найдены десятки обезглавленных трупов, головы которых аккуратно были сложены в специальные гнезда, посыпаны охрой и обращены лицом на запад. В этой находке можно было бы усмотреть своеобразный погребальный обряд, но тщательное исследование останков убедило ученых, что обезглавленные люди были специально умерщвлены ударом деревянного молота в левый висок. Позднее аналогичные находки были сделаны и в иных местах Центральной Европы. Большинство принесенных в жертву – молодые женщины и дети, хотя есть несколько и мужчин. В чем смысл человеческих жертвоприношений? Человек всегда сознавал, что за дурной проступок он должен принести какой-то выкуп, жертву. Чем тяжелее грех, чем яснее его осознание, тем большая жертва потребна. Но что может быть большей жертвой для человека, чем он сам? Однако расставаться с жизнью не хотелось, да это было и запрещено в большинстве религий. И тогда кое-где решили приносить себя в жертву не непосредственно, а в лице ближайших к жертвователю людей – детей, жен. Ведь ребенок – это продолжение родителей, их плоть, семя отца, выросшее на крови матери. Ребенок – как бы сам родитель, но уже отделенный от него. Жертва детьми была очень распространена в Восточном Средиземноморье в III-I тысячелетиях до Р. Х., но могла существовать она и раньше, во времена неолита. Жена – также часть плоти мужа. Возможно, какие-то обряды типа усыновления делали и пленного чужестранца «ребенком» жертвователя и позволяли тому принести его в жертву за себя. Впрочем, безнравственность такой подмены хорошо сознавалась большинством неолитических племен и потребность в подлинно собственных жертвах, в личном усилии к спасению вызвала религию, которую мы, по памятникам ей присущим, именуем религией «больших камней», мегалитической. Лекция 5. МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ КУЛЬТУРА «БОЛЬШИХ КАМНЕЙ» Палеолит, неолит – это эпохи существования человека, временные границы которых очерчены учеными главным образом из соображений специфики трудовой деятельности и образа жизни. Палеолит – это время охоты и собирательства, кочевого или полукочевого образа жизни. Неолит – время освоения человеком производства продуктов питания, распространения скотоводства, земледелия, переход к оседлости, начало керамической индустрии. Религия этих обществ была частью их бытия, судя по доле затрачиваемого на нее труда – частью важнейшей. И все же, рамками для изучения религии палеолита и неолита являются рамки социально-экономического бытия. У нас слишком мало данных, чтобы выявить в сколь-либо полной форме религиозную систему саму по себе. Впервые такая возможность предоставляется нам для последних тысячелетий неолита и начала эпохи металла. Удивительно, но эту возможность дают не высокоразвитые неолитические сообщества Переднего Востока, не готовые вскоре заговорить на вечном языке письмен египтяне и шумерийцы, но обитатели холодных прибрежий Атлантического океана, жители Британских островов, Скандинавии, Бретани, Иберийского полуострова. Мегалиты, то есть в переводе с греческого «большие камни», – это не какая-то новая технология изготовления орудий и не новые формы хозяйственной деятельности, но совокупность очень характерных памятников, дошедших до нас в большом количестве, всегда известных человеку в последующие за их возведением века, всегда будивших воображение, множивших догадки и домыслы о том, кто были их создатели и в чем были причины их трудов. Мегалитами именуют довольно разнообразную совокупность объектов, возведенных по сходной технологии из необработанных или мало обработанных громадных камней весом до нескольких десятков тонн каждый. Поскольку мегалитические памятники бы ли первоначально исследованы и описаны в тех краях Европы, где сохранилось древнее кельтское население (бретонцы Франции; валлийцы, гэлы Великобритании, ирландцы), и потому что народная легенда связывала эти камни с древними кельтами, их отдельным разновидностям были даны кельтские названия. Всего же таких памятников в Западной Европе известно ныне до пятидесяти тысяч. Дольмен (дол – стол, мен – камень) – это сооружение из нескольких вертикально врытых в землю каменных плит, на которые положен сверху монолит. Часто вход также загорожен огромной плитой или двумя плитами с маленьким отверстием круглой или элипсообразной формы между ними. Например, знаменитый дольмен Сото около Севильи имеет длину почти 30 м . Вход в него загораживает гранитная плита в 3,5 м высотой и 3 м шириной при толщине в 70 см . Весит эта плита 21 т. Некоторые дольмены были настолько велики, что их еще недавно использовали как загоны для стад коз и овец, другие – небольшие, в которых с трудом поместится один человек. Ныне дольмены большей частью стоят открыто, но когда они возводились, то они покрывались землей, над ними насыпались курганы. Галерейные гробницы – иногда к дольмену пристраивали длинный коридор тоже из каменных, врытых в землю вертикально плит, перекрытых или монолитами или ложным сводом из больших плоских камней. Дольмен, к которому вел такой коридор, превращался в обширное помещение овальной или крестообразной формы, также перекрытое ложным сводом. Над таким каменным сооружением насыпался громадный курган. Например, расположенный в долине реки Бойн (Ирландия) расползшийся курган Ньюгрэйндж (Newgrange) имел длину почти 40 м , а высоту внутренней сводчатой камеры - 7м. Иногда, например, на Оркнейских островах (Шотландия), курганы имеют форму длинного вала, расширяющегося на концах. Коридор и камера часто составляют в длину только 1/6 – 1/8 часть такого кургана. Там, где ветры сдули за тысячи лет земляной покров, галерейные гробницы кажутся случайному глазу просто грудой хаотически набросанных камней, но специалист легко различает, что это сложная постройка. Менгир (мен – камень, гир – длинный) – специально врытые в землю, вертикально стоящие камни то в одиночку, то большими группами, являются кое-где на атлантических прибрежьях Европы чуть ли ни обычным элементом ландшафта. Во Франции насчитывается до шести тысяч менгиров, в том числе в одном департаменте южной Бретани – Морбиан – 3,5 тысячи. Крупнейший из известных менгиров Мен-ен-Хрёх (близ Локмариакёр), упавший от землетрясения и расколовшийся на пять частей, имел двадцать метров высоты. Обычная высота менгира 4-8 м. 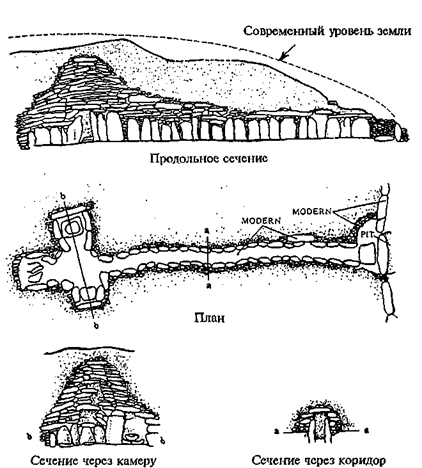 Курган и галерейная гробница в Ньюгрэйндж Во Франции и Англии есть места, где менгиры стоят рядами по нескольку сотен. Самая знаменитая «аллея менгиров» в Карнаке (Сагпас, Франция) одиннадцатью рядами протянулась с запада на восток на четыре с четвертью километра и включает 2935 «длинных камней». «Аллея» в Менеке состоит из одиннадцати рядов завершающихся на западе кругом камней и всего насчитывает 1169 менгиров. Буквально в 200 м от Менека более, чем на километр протянулась «аллея» Кермарио с десятью рядами менгиров (всего 1029). К западу от нее просматриваются также следы кольцеобразной группы камней. В 400 м к северо-востоку от Кермарио находится третья «аллея» – Керлескан, включающая 555 менгиров, построенных в 13 рядов по 900 м . 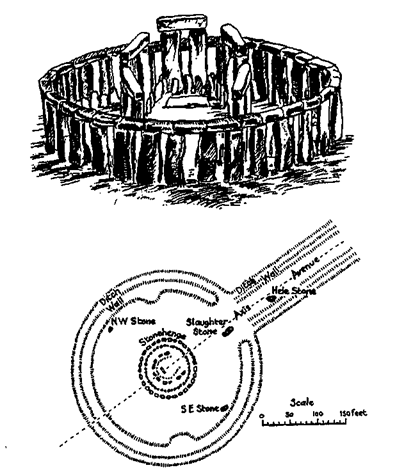 Стоунхевдж – реконструкция и алан На Западе 39 менгиров также образуют полукруг. Одна «аллея» имеется и в Англии. Это Эшдоун, где 800 менгиров стоят рядами в неправильном параллелограмме со сторонами 250 на 500 метров. Круги менгиров называются кромлех (кром – круг, лех – место). Они с запада, а иногда и с востока завершают аллеи менгиров. Иногда они стоят сами по себе. Особенно примечательны английские кромлехи – Вудхендж, Эйвбюри, Амингхолл, Аболо и, разумеется, всемирно известный Стоунхендж (Stonehenge) близ Эмсбюри на равнине Солсбери (Уилтшир). Археологи обнаружили вокруг Стоунхенджа сложные земляные сооружения, остатки которых заметны на пространстве в несколько сотен метров. Но главным памятником этого удивительного кромлеха являются стоящие кругом циклопические прямоугольные монолиты. 30 таких камней по четыре метра в высоту каждый, располагались кругом диаметром в тридцать метров. По их верху шел сплошной архитрав из таких же почти громадных плит. Четыре из них лежат до сего дня так, как были положены тысячи лет назад. Внутри этого круга идет еще один круг меньших менгиров, а они окружают подковообразную фигуру из пяти громадных П-образных конструкций высотой в 3,5 метра. Внутри опять подковой стоят небольшие менгиры, а завершает сооружение плоский алтарный камень пять метров длиной, метр шириной и полметра толщиной. Вся постройка выполнена из прекрасного серо-голубого гранита, который пришлось доставлять километров за 250, из Пембрукшира (Уэльс), с гор Преселли. Это причудливое сооружение среди полей уютной обустроенной Англии с редкой силой напоминает о том, что смыслы человеческой деятельности далеко не всегда совпадали с нынешними, но не менее современного европейца его древний предок действовал целеустремленно и созидал не жалея сил. Только для чего созидал? На острове, расположенном на другом конце Европы, на Мальте, лежащей между Италией и Тунисом, и издревле прозванной Isola Sacra – священный остров – имеются также уникальные и ни с чем не сходные мегалитические сооружения. Это – храмы. Они воздвигнуты из таких же, как и дольмены, громадных монолитов, но не гранита, а известняка, вертикально врытых в землю. Сверху, судя по найденным рядом глиняным моделькам, они были перекрыты исчезнувшими ныне крышами. Храмы, как правило, состояли из двух вытянутых овальных залов, соединенных друг с другом, и с выходом-коридором, дальний зал по оси коридора-выхода имел полукруглую обширную нишу – «алтарь». В залах и в алтаре стоят камни жертвенников, иногда кубической, иногда колоннобразной формы. Здесь же найдены и остатки больших статуй сидящих очень толстых женщин, формами, безусловно, напоминающих «венер» верхнего палеолита. Храмы эти порой велики. Так, условно поименованный по соседней деревне, Тарксиен (Tarxien) Центральный имеет длину 23,1 м, ширину – 18,6 м. Камень жертвенника в Тарксиене Южном высотой 1,15 мукрашен рельефом типично средиземноморского орнамента в виде спирали. Примечательно, что входы в эти обширные постройки часто крайне малы. Например, в подземный храм Халь Сафлине вело отверстие 1 м на 0,4 м, в которое нужно было протискиваться чуть ли не ползком [134]. К числу мегалитических монументов относятся и циклопические, построенные из плохо обработанных глыб «в сухую» башни Корсики и Сардинии – нураги и торри. Мегалитические постройки задают нам несколько загадок, не разрешенных до конца и по сей день. В чем смысл этих огромных и страшно трудоемких построек? Когда были возведены они и кем? Почему эти памятники встречаются практически по всему миру, не только в Европе, но и у нас на Кавказе, и в Индии, и на островах Индонезии, и в Океании, но всегда рядом с морем. Чем дальше от морского берега, тем меньше становятся их размеры, а на расстоянии нескольких десятков километров вглубь суши они и вовсе исчезают. Некоторые примитивные народы Юго-Восточной Азии до начала XX века возводили типичные мегалиты – дольмены и менгиры. На острове Ниас (близ западного берега Суматры) чиновник голландской колониальной администрации Е. Е. В. Г. Шредер заснял в 1907 году на киноленту возведение дольмена на могиле вождя. Говорит ли это о том, что мегалитическая культура имеет несколько центров возникновения и не связана с какой-то одной цивилизацией или с одной эпохой? Или же мы ничего не знаем о некоей древней культуре навигаторов и строителей, в незапамятные времена распространивших свои формы религиозных представлений почти по всем побережьям? Кое-где передаваемая от народа к народу древняя эта традиция возведения «больших камней» дошла до наших дней, хотя, надо думать, нынешние строители дольменов могут объяснить первоначальный смысл действий своих учителей не больше, чем хозяйка, пускающая в новый дом прежде людей кота. Кому только не приписывалось создание мегалитов! И атлантам, и «истинным арийцам» (нацистская идея) и египтянам. Все эти домыслы остаются совершенно произвольными, и покров таинственности так и не снят с мегалитической цивилизации и ее создателей. Кто и когда создал мегалитическую цивилизацию? Эти огромные камни люди видят на протяжении тысячелетий, но уже для греков и римлян, осваивавших западные побережья Средиземного моря и атлантические взморья Европы, они были памятниками седой старины, о которых местные варвары рассказывали разные небылицы. В конце XIX века в европейской науке установилось мнение, не колеблемое до середины 1960-х годов, что мегалиты были вдохновлены заупокойными комплексами великих цивилизаций Месопотамии, Египта, Малой Азии и Ханаана. Из Восточного Средиземноморья такие памятники постепенно распространились до Иберийского полуострова и Северной Африки, а затем, во II тысячелетии до Р. Х. достигли Британских островов и французской Бретани. В I тысячелетии до Р. Х. они были восприняты жителями Южной Скандинавии, Северной Германии и Ютландии. Первоначально возводились, думали ученые, небольшие скальные гробницы, там, где пещер не хватало, гробницы достраивались из грубых каменных плит и лишь много позже европейцы освоили сложные сооружения вроде Стоунхенджа или Ньюгрэйнджа, храмы мальтийского типа. Только в 1963 году блестящий знаток мегалитов Глин Даниэл [135] высказал мнение, что гробницы Италии и Сардинии моложе мегалитических комплексов атлантической Европы, а, следовательно, мегалитическая культура Западной Европы не пришла из Средиземноморья, но возникла самостоятельно. Применение усовершенствованных методов радиокарбонного анализа не только подтвердило эту гипотезу Даниэла, но и обнаружило, что основные ансамбли Бретани и севера Иберийского полуострова, а также курганы Ирландии возводились в VI-IV тысячелетиях до Р. Х., в то время как Средиземноморские ансамбли – в IV-III тысячелетиях. Оказалось также, что все основные типы мегалитических памятников создавались одновременно, причем некоторые сложные кромлехи и храмовые комплексы (Алаприайа близ Лисабона), были воздвигнуты ранее более простых сооружений [136].. Значение этого открытия огромно. Мегалитическая цивилизация оказалась не заимствованной из «Плодородного Полумесяца», но самостоятельно возникшей на крайнем западе Европы в IV-V тысячелетиях до Р. Х. Что-то побудило небогатых земледельцев и рыбаков атлантических прибрежий отказаться от старых, достаточно простых форм религиозной жизни и с напряжением всех сил начать возводить громадные комплексы из гигантских камней. Нам так трудно считать, что духовный переворот может случиться в народе, что всегда легче объяснить резкую перемену строя жизни заимствованием или вторжением иноплеменников. Но также точно, как промышленная революция XVII века произошла в Европе из-за развития внутренних свойств самих европейских народов, и «мегалитическая религиозная революция» не явилась, как видится теперь, следствием рецепции культовых форм, но оказалась проявлением заложенных в самих атлантических народах потенций. Кто же был строителем мегалитических комплексов? «На Атлантическом побережье, в Северной и Центральной Португалии циклопические каменные гробницы строились, в этом нет никаких сомнений, зажиточными крестьянами» – указывает Дж. Марингер [137]. Тщательный археологический и палеоэкономический анализ последних десятилетий, в частности исследования Колина Рэнфрю [138], показали, что природные условия главных мегалитических районов Западной Европы были суровы, а трудоемкость даже простого воспроизводства пищи – высокой. Хотя семь тысяч лет назад климат Европы был теплее нынешнего, все же сам характер почв свидетельствует о невысоком плодородии приморских долин. Нехватку хлеба отчасти компенсировала рыбная ловля и охота, но полагать неолитических земледельцев Ирландии или Бретани богатыми было бы очень большим преувеличением. Тем более что меновая торговля, в те века уже процветавшая на Ближнем Востоке, здесь вряд ли была развита. Ничего исключительного, ценного для иных краев северо-запад Европы не производил, а от основных центров богатства удален был весьма значительно. Работа ученых на богатом мегалитическими галерейными гробницами шотландском острове Арран и в Южной Швеции выявила, что строители мегалитов жили хуторами, организованными в территориальные общины, объединявшие от 50 до 500 человек. Расположенные в местах схождения нескольких участков пахотной земли гробницы по всей вероятности являлись коллективным могильником соседской общины. Жители Аррана и иных атлантических районов Европы не были объединены в то время никаким образованием государственного типа. Это были именно хуторские соседские общины, которые вели натуральное хозяйство. Колин Рэнфрю подсчитал, что при неолитических технологиях для возведения самой скромной галерейной гробницы затрачивалось 10 тысяч человеко-часов. Более крупные сооружения, обслуживавшие несколько общин, требовали десятикратного увеличения усилий, а такие ансамбли как Стоунхендж или Ньюгррэндж обошлись неолитическим земледельцам в 30 млн. человеко-часов каждый. Хотя кромлехи Англии, курганы Ирландии и бретонские «аллеи менгиров» создавались веками, если не тысячелетиями, они все равно требовали объединения усилий десятков тысяч людей. А так как государство, способное направить силы своих подданных в нужном направлении, отсутствовало, то действовал какой-то механизм социальной самоорганизации. Видимо, Стоунхендж и Ньюгрэндж имели такое значение для сотен английских или ирландских соседских общин, что они добровольно участвовали в их строительстве, безусловно, в ущерб своему бытовому благополучию. Ведь мы порой забываем, живя в громадном безличном государстве, что в то далекое время труд и продукт труда зримо соединялись. Потратил лишний день на вспашку поля – больше поднял земли и больше собрал урожай. Вышел еще раз в море – наполнил пару бочек соленой рыбой. Когда строители мегалитов, в ущерб своим продуктовым запасам, предпочитали вспашке полей и рыбалке таскание многотонных гранитных глыб и копание рвов святилища, часто отстоящего к тому же за сотни километров от их жилья, – они делали нелегкий, но очень характеризующий их выбор. Долгое время ученые, изучающие мегалитическую цивилизацию, не могли разрешить и такую загадку – где жили строители кромлехов и дольменов. Ничего даже отдаленно напоминающего грандиозностью эти культовые постройки и предназначенного для жилья не удавалось найти. Если люди так умело строили каменные гробницы, то где каменные основания их домов, загонов для скота, сенных сараев? Ничего подобного археологи не нашли и по сей день и, скорее всего, не найдут никогда. Но тщательные изыскания последних десятилетий с применением совершенной техники позволили все же отыскать жилье создателей культуры «больших камней». Жилье это оказалось на редкость убогим. В Южной Скандинавии Стрёмберг в 1971 году нашел в Хагестаде (Скэн) следы от обуглившихся в болотистой почве свай. Это были единственные остатки жалких свайных хижин, в которых ютились строители мегалитов [139]. Не более основательными оказались и жилища рыбаков Аррана. Хутора или деревни вокруг бретонских «аллей менгиров», кажется, так до сих пор и не найдены. А о создателях мальтийских мегалитических святилищ Дж. Марингер писал: «Самым удивительным у этих неолитических островитян была, кажется, сила их веры. Хотя сами они вне всяких сомнений ютились в жалких хижинах из плетеных циновок, которые вскоре разрушались и исчезали без следа, они возводили громадные храмы, циклопические стены которых сохранились и по сей день» [140]. Еще более Марингер бы удивился, когда узнал, что мальтийские храмы построены были тысячи на две лет раньше, чем думал он и все его коллеги в 1950-е годы, и притом на их строительство никак не повлияли ни Египет, ни Шумер, где тогда ничего подобного еще не строили. «Даже простые дольмены, – пишет он в другом месте своего исследования, – обнаруживают затраты сил и материалов, намного превышающие все необходимое в отношении мертвых. Такие затраты не могут быть убедительно объяснены из того факта, что эти дольмены, галерейные и купольные гробницы являлись общинными склепами. Невозможно объяснить их за редчайшими исключениями и непомерным честолюбием отдельных богатых родов. Поражает то, что, возводя величественные жилища своим мертвецам, они и не думали строить что-либо подобное для нужд живых» [141]. Но кто и когда убедительно объяснил какие затраты для умерших разумно делать живым? Священник Джордж Барри [142], написавший в начале ХIХ столетия книгу истории Оркнейских островов, расположенных к северу от Шотландии и также богатых мегалитическими памятниками, считал, что создатели этих сооружений «почти до безумия были воспламенены причудливым духом их религии». Но, наверное, с точки зрения строителей стоунхенджей, современные европейцы, далекие их потомки, показались бы им не менее безумными, когда все силы своих рук и воли они вкладывают в обустройство временного, земного существования, стараясь вовсе забыть о неизбежности смерти и отщипывая для умерших только жалкую толику тех средств, какие тратятся на прихоти живых. «В мегалитических культурах Средиземноморской и Западной Европы, – пишет Мирча Элиаде, -… поселения не превосходили размеров деревни. Мегалитические «города» (the cities) на Западе в действительности возводились для умерших – это были некрополи» [143]. Чтобы понять религию мегалита мы должны представить себе строй сознания очень несходный с нынешним. Люди с глубочайшей древности искали связи с Богом и путей победы над смертью, но здесь, на атлантических прибрежьях Европы, шесть-семь тысяч лет назад они по непонятным для нас причинам вдруг с особой ясностью осознали, сколь непроста эта задача. Они усомнились в привычных ритуалах и жертвоприношениях. Они почему-то сочли, что того, что делалось раньше, совершенно недостаточно для уверенности в хорошем посмертном бытии. Они поняли, что труды для вечности следует многократно умножить, пренебрегая удобствами этой жизни. Вряд ли мы когда-либо достоверно узнаем, что стало причиной этой духовной революции, но она быстро охватила обширные пространства атлантических побережий Европы, Северозападную Африку, сначала Западное, а потом Восточное Средиземноморье, берега Черного моря. Судя по тому, что круг бытовых археологических находок очень разнится в отдельных частях этого мегалитического мира, можно с большой долей уверенности предположить, что мы в данном случае имеем дело не с колонизацией одним народом – «строителем мегалитов» обширных пространств Старого Света, но с распространением суммы религиозных идей среди многих племен и культур. Возникнув где-то на западе Европы, убеждения, связанные с резким возрастанием трудоемкости религиозных, особенно заупокойных ритуалов, распространились на очень большой территории. Процесс этот сравним с движением идей всемирных религий. Если археолог далекого будущего раскопал бы древний Новгород, Кёльн и Йорк он повсюду столкнулся бы со сходной картиной – один громадный каменный комплекс, безусловно, религиозного предназначения, некоторое число подобных же, но меньших размеров, комплексов, и море недолговечных и неказистых жилых построек. Он бы ошибся, если бы счел все эти ансамбли делом рук одного народа, но он был бы совершенно прав, когда бы решил, что люди, их возводившие, вдохновлялись идеями, нашедшими из единого источника, и что они одинаково предпочитали усилия в религиозной сфере житейским трудам. Если бы такому археологу пришлось раскапывать современные Чикаго, Петербург или Милан, он конечно бы и здесь нашел постройки «культового назначения», но они бы совершенно теряялись среди многоэтажных домов, шикарных вилл, стадионов и театров. И ученый будущего будет совершенно прав, если сделает вывод, что через 600-800 лет после Новгорода и Йорка представления европейцев претерпели глубочайшие изменения и теперь, заботливо охраняя свои религиозные памятники, они направляли основные силы на обустройство этой, «посюсторонней» жизни. Когда мы исследуем цивилизации далекого прошлого, не оставившие письменных свидетельств, то сами камни порой убедительно говорят, во что верили и чем жили их строители. «Большие камни» мегалита, безусловно, утверждают, что мощнейший религиозный подъем имел место в Европе и прилегающих к ней землях в VI-IV тысячелетиях до Р. Х. Процесс этого религиозного подъема между тем не захватил все народы Европы. Почему-то он плохо распространялся вглубь материка. Жители Средней Германии, обитатели свайных построек швейцарских озер, земледельцы придунайских равнин остались к нему равнодушны. Подчас даже на маленьком пространстве можно зафиксировать границы зоны распространения мегалитической культуры. Так, в Южной Швеции, на островах и балтийских берегах Ютландии из ледниковых валунов возводили циклопические постройки, а рядом, в Западной и Центральной Ютландии продолжали хоронить «по старинке» в обычных копанных могилах, нисколько не считая нужным умножать труды для своего и своих соплеменников надежного посмертного существования. Но в чем же была суть этой «новой веры»? Зачем, пожертвовав частью урожая и удачными охотами, потеряв, кажется, всякий интерес к обустройству своей земной жизни, начали европейцы ворочать многотонные глыбы гранита и известняка? ЗАЧЕМ ВОЗВОДИЛИСЬ ПОСТРОЙКИ ИЗ «БОЛЬШИХ КАМНЕЙ» Ныне никто не сомневается в том, что мегалитические постройки как-то были связаны с заупокойным культом. Но современному исследователю кажется неправдоподобным, что один этот круг идей мог вдохновить людей на такие грандиозные работы. Слишком уж это несходно с нашей нынешней шкалой ценностей. Даже такой крупнейший специалист по мегалитической археологии как Калин Ренфрю, в юности дававший клятву, что он раскроет тайны создателей «больших камней», через много десятилетий после того юношеского порыва вполне прозаически писал: «Совершенно ясно, что многие из памятников мегалита имели отношение к нуждам мертвых, но мы не должны считать, что это предназначение было для них главным. Можно, если к тому имеется желание, удовлетворить нужды мертвых и не строя для них огромные гробницы. Нельзя считать, что все эти сооружения имели одинаковое назначение и использовались сходным образом» [144]. А между тем сами данные археологии говорят против выводов признанного ученого. Но при том неверно считать все мегалитические сооружения просто гробницами. Могильники, склепы доминируют среди них, но есть немало монументов, где не обнаружено останков людей. Например, «аллеи» менгиров сохраняют следы жертвоприношений, но захоронения под менгирами и около них, как правило, не встречаются. Другое дело, что «аллеи» эти ведут к находящимся недалеко мегалитическим гробницам и курганам. Надземные храмы Мальты также не являлись склепами. В них нет захоронений, но близ них имеются подземные святилища (гипогеи – от греч. ????????? – подземный), полные человеческих останков. Например, в знаменитом гипогее Халь Сафлиени (Hal Saflieni), близ деревни Тарксиен, в подземных залах, приделах и в естественных пещерах, в которые незаметно переходит рукотворное святилище, обнаружены кремированные останки приблизительно семи тысяч человек и множество черепков от преднамеренно разбитой во время исполнения заупокойных ритуалов посуды. «То, что храм был устроен под землей, дает основания предположению, что здесь совершались культы хтонических (от греч. ??????? – земной) сил» – отмечает Марингер [145]. Мы знаем, что многие ныне возвышающиеся над землей мегалитические сооружения, например дольмены, первоначально были скрыты под насыпными курганами. Есть гипотеза, впрочем достаточно неправдоподобная, что даже такие грандиозные кромлехи, как Стоунхендж, являлись когда-то подземными святилищами, скрывавшимися под искусственными холмами. Но даже без этого крайнего предположения безусловно ясно, что Стоунхендж и подобные ему памятники были связаны с культом мертвых. Они всегда расположены среди древних кладбищ, их окружают курганы родовых склепов. Кроме того, на урнах, использовавшихся для хранения кремированных останков, извлеченных из курганов II тысячелетия до Р. Х. в Ландиссильё (Пембрукшир, Уэльс) и Кулхилл (Ирландия) имеются изображения кромлехов, похожих на Стоунхендж.  Типы мегалитических гробниц: а) воспроизводящие в плане кость «длинные курганы» Оркнейских островов (Саус Ярроу, конец IV тыс. до Р. Х.); б) вырубленная в скале гробница (о. Мальорка); в) частично вырубленная в скале, частично достроенная из каменных глыб гробница (о. Менорка); г) многокамерная пирамидальная гробница (Северная Ирландия); д) «Гробница гигантов» (о. Сардиния); е) вырубленная в скало гробница (Кастелуччо); ж) ложносводчатая гробница (Лос Милларес) Но, с другой стороны, даже типичные курганы, «дома мертвых», как именуют их нынешние обитатели Англии и Ютландии, имели в прошлом обширные надземные сооружения. Археологи обнаруживают ямы от мощных опор по краям курганов, следы бревенчатых стен и каких-то сложных сооружении, видимо – надземных святилищ. Ансамбли строились так, чтобы они были видны издали [146]. Ирландский Ньюгрэндж сверху был даже обсыпан кварцем и верно сиял на солнце, подобно громадному «космическому яйцу». Над гипогеем Мальты возвышался ныне почти разрушенный надземный храм. Надземная и подземная ритуальная практика или объединялась одним комплексом или осуществлялась по соседству. И в этом нет ничего странного. Ведь заупокойный ритуал и погребение для религиозно настроенного ума есть не самоцель, но только средство преодоления смерти, победы над ней. Судя по громадности заупокойных комплексов, жители мегалита считали такую победу над смертью делом очень нелегким, но они уповали на вечную жизнь, на восстание из мертвых и потому соединяли свои гробницы и курганы с храмами, устремленными к небу. Смерть и воскресение были для них двумя актами единой драмы. Но если храмы и ограды строились не только из камня, но, там, где это было проще, – из дерева, то в заупокойных сооружениях безусловно предпочитался камень. Монументальные «вечные» захоронения должны были стоять до конца времен. Поэтому их строят навсегда. Жилища же живых временны и непрочны, как сама наша земная жизнь. До нас от эпохи мегалита дошло то, что предназначалось мертвым, то есть вечности. Хорст Кирхер [147] как-то заметил, что менгиры возможно считались заместителями тела, в них могли воплощаться души умерших. Камень становится символом вечности человеческой личности. Он неразрушим. Он не подвержен тлению и распаду. До конца времен, пока не произойдет телесное воскресение, ожидая его и даже символически реализуя его во времени, ставили, может быть, древние жители атлантических прибрежий огромные камни, составляли из них ряды «аллей». Однозначного объяснения смысла воздвижения менгиров не существует, но то, которое предложил X. Кирхер и на египетском материале подтвердил Джордж Огдон [148], кажется наиболее правдоподобным. Менгиры – это неразрушимые тела умерших; дольмены, гробницы, курганы – их обиталища до конца веков, до момента окончательной победы над смертью. Эти рукотворные каменные склепы наследовали естественным пещерам палеолита, которые имели, должно быть, такое же символическое значение.  а) «Круглые идолы». Мегалитическая культура Иберийского полуострова; б) портретный менгир (Южная Франция, департамент Буш-дю-Рон, Лори-Пунвер); в) змея и предок рода. Рисунок на менгире (SaintMicaud, Франция); г) «Плоские идолы» (Иберийский полуостров, IV тыс. до Р. Х.) Ведь переходной формой к мегалитической гробнице от пещеры стали каменные расселины скал, которые на Иберийском полуострове и островах Западного Средиземноморья (Балеары, Корсика, Сардиния) накрывали крышей из каменных плит, закрывали плитой вход и, таким образом, превращали в склепы, в которых покоились десятки умерших [149] (см. рис. на с. 155). В мегалитических захоронениях атлантической зоны и рядом с могилами в средиземноморской зоне находят маленькие цилиндрические или конические камни, часто с нарисованными круглыми глазами и с геометрическим орнаментом. Эти, так называемые, «круглые идолы» должно быть, являлись заменителями настоящих менгиров и служили тем же целям воплощения душ умерших в неразрушимое тело. Переходной формой от настоящих менгиров к могильным «круглым идолам» скорее всего являются небольшие, 20-25 см, «статуарные менгиры», на которых имеется схематическое изображение человеческого лица в геометрическом орнаменте (см. рис. на с. 157). Итак, «большие камни» дают нам основания предполагать, что с их помощью древний человек надеялся преодолеть разрушительные силы времени. Но было ли такое сохранение самоцелью? Сэр Джеймс-Джордж Фрезер, ссылаясь на А. Круита (А. С. Kruijt), рассказывает следующее индонезийское предание. Первой паре людей Бог дает на выбор два дара – камень и банан. Люди немедленно выбрали банан и совершенно равнодушно отнеслись к камню. И тогда они услышали голос с неба: «Вы избрали банан, и потому ваша жизнь будет подобна жизни этого плода – уязвима и кратковременна. Если бы вы избрали камень, ваша жизнь уподобилась бы жизни камня, неизменного и вечного» [150]. Кажется, строители мегалитов всеми силами пытались исправить ошибку первых любителей бананов. «ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ» Еще в эпоху верхнего палеолита внутренние части пещер, в которых устраивали святилища, красили охрой в красный цвет. Это цвет крови, жизни, возрождения. Ведь тем же красным порошком охры посыпали тела умерших и основания жертвенников. Красный цвет с тех пор навсегда закрепился в религиозной символике, как цвет потустороннего мира. Но сами пещеры, окрашенные охрой, тоже являлись символом – они отображали утробу земли. В неолитических культурах Юго-Восточной Европы и Переднего Востока захоронения, как мы помним, часто совершались в яйцеобразных могильных ямах или в сосудах (пифосах) для хранения зерна. И то и другое символизировало матку, место, где из капли семени вырастает человеческое существо, в свое время выходящее из чрева к автономному личному существованию. Нами нынче крепко забыто значение того холмика, который насыпаем мы над могилой близкого человека. «Так принято» – скажем мы – и только. Но холмик этот – продолжение многотысячелетнего символического ряда, который тянется должно быть еще с эпохи палеолита. В огромных мегалитических курганах, насыпавшихся над галерейными гробницами, символ этот проявляется с редкой выразительностью. Любой курган, любой, даже самый маленький могильный холмик, воспринимался как живот Матери-Земли, беременный новой жизнью. Жизнь, смерть и пища для неолитического земледельца являлись почти тождественными понятиями. Когда древний человек сам начал сеять зерно, перед ним во всей таинственной полноте открылась «жизнь через смерть». Зерно, посеянное в темноту земли, умерев для этого мира (его нельзя уже было использовать в пищу), через определенный срок выходило на свет колосом, который давал новую пищу, и соответственно жизнь тем, кто ел от него, перемалывая зерна, родившиеся от умершего зерна, выпекая из теста хлеб. В зернотерке и печи зерно вновь умирало, но через эту новую смерть, оно давало жизнь и силу человеку, вкушающему хлеб. А когда сам человек умирал, то он также ложился в землю, и те, кто сеяли это «семя», также уповали на всходы жизни. Мать-Сыра-Земля, кормящая человека, принимающая в себе его тело, должна была и его возродить, подобно зерну, к новой жизни, столь же лучшей старой, сколь зрелый полный колос лучше одного, брошенного сеятелем зерна. Образом готовящейся к рождению новой жизни для человека был, понятно, беременный материнский живот. Сначала таинственно в утробе матери вызревает новая жизнь, чтобы потом выйти на свет и обрести свободное существование. Этот замечательный символ, глубоко пережитый уже в палеолите, стал существеннейшим в мегалитической цивилизации. Европейские крестьяне чуть ли не до начала XX века называли снопы и скирды зерновых «Зерновой Матушкой». Майкл Дэймс, исследователь одного из крупнейших мегалитических комплексов – Силбюри-хилл (Silbury Нill) в Юго-Восточной Англии (Уилтшир), указывал, что в неолитической Британии холм являлся образом беременного живота богини земли. «Земля, в которой хоронят людей, это – мать умерших. Целью строителей могил было наиболее полное уподобление могилы телу матери. Та же идея, как кажется, осуществлялась и при организации внутреннего пространства галерейной гробницы, погребальная камера которой и коридор, должно быть, представляли собой матку и влагалище» [151].  «Толстая дама» Мальты. Статуя из Хагар Кима Исследовав рвы и иные чуть заметные ныне сооружения вокруг могильника Силбюрихилл, Дэймс обнаружил, что они воспроизводят формы полулежащей или сидящей на корточках очень полной женщины, животом которой является курган-гробница. Археологу эта колоссальная фигура живо напомнила статуи и статуэтки «толстых дам» мегалитических святилищ Мальты, неолитических фресок Чатал Хююка и Хаджилара, находки на болгарском холме Пазарджик. «Захоронение в утробе, – писала Мария Гимбутас, – аналогично семени, брошенному в землю, и потому вполне естественно ожидать появление новой жизни из прежней» [152]. Всеобщая легенда о Хозяйке Горы, донесенная до русского ребенка сказами Бажова, является воспоминанием этой древней веры в рождающую к жизни и одновременно хранящую мертвых, утробу богини земли [153]. Потому-то облик «Хозяйки Горы» двойствен – он и несет успех, счастье, и одновременно веет могильным холодом. Вход в подземные гробницы и святилища мегалита обычно делался преднамеренно затрудненным, войти можно только согнувшись в три погибели или даже ползком. Как правило, такой вход делался круглой или слегка элипсовидной формы в двух плитах, отделявших от внешнего мира коридор галерейной гробницы или гипогеума. По мнению большинства археологов так организованный вход с максимальной точностью воспроизводил наружные женские половые органы. Уподобление было не случайным и не несло никакого налета эротизма. Рождение из утробы Матери Земли дело столь же нелегкое, как и рождение ребенка из чрева матери на свет Божий. Это – «узкий путь» возрождения. 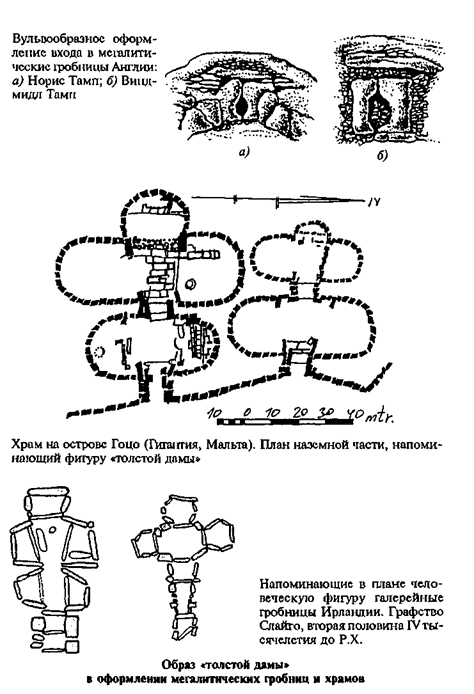 Равно и живым дoлжно было не без труда из своего мира для погребальных и ритуальных надобностей входить в глубины материнского чрева. В средневековой Европе долго сохранялось представление, что пройти через пещеру насквозь горы или через сквозное дупло старого дерева – означает заново родиться, а спать в пещере – спать в утробе. С другой стороны, сонник Артемидора объясняет, что если привидится, что спишь с богиней – то, значит, скоро умрешь. Наши «куриные божки» – камни с дырками, которые так любят отыскивать дети, а потом носить на шнурке на шее – тоже отдаленное воспоминание о рождающей к новой жизни материнской утробе земли. План многих скальных храмов-склепов Мальты, галерейных гробниц Британских островов и французского побережья Атлантики поразительно напоминает человеческую фигуру, нередко – фигуру «толстой дамы». При этом вход в такой храм-гробницу всегда соответствует месту органов размножения в человеческом теле. «Много трудов предназначено каждому человеку и тяжело иго на сынах Адама, со дня исхода из чрева матери их до дня возвращения к матери всех» [Сир. 40.1-2]. Эти слова еврейского мудреца эллинистической эпохи, Иисуса бен Сиры, доносят до нас древнейшее ощущение возрождающей материнской утробы земли. «СОВИНОГЛАЗАЯ БОГИНЯ» Мать умерших продолжает жить в преданиях многих европейских народов. В латышских песнях ее зовут «матерью могилы», «матерью песчаного холмика» (т. е. могильного холма). В ее руках ключи от могилы и она приветствует умерших, вносимых через кладбищенские ворота. Она пляшет на могилах или впереди похоронной процессии [154]. Балтийский фольклор, наверное, самый архаичный в Европе, сохранил интереснейшие черты древнего культа великой богини. Ворота кладбища – это вход в ее утробу, последний символ, оставшийся от узкой щели, ведшей в мегалитическую галерейную гробницу. Ключи от могилы – это возможность возрождения, победы над смертью, которая пребывает в руках самой богини смерти, вернее, в ее утробе, ибо она – мать, имеющая рано или поздно, но родить умерших. Танец на могиле, аналогичный знаменитой тандаве Шивы, разрушает смерть. Иезуиты, проповедовавшие в Литве в XVII-XVIII веках, сообщали, что жмудь продолжает поклоняться Жемине, Матери-Земле, которую считают владычицей мертвых, но одновременно именуют «цветущей» и «проращивающей почки деревьев». «О мать, я исшел из тебя, ты носила меня, нянчила меня и ты примешь меня вновь после смерти моей» – обращались литовцы к Жемине [155]. Это – то же самое существо, которое изображали в виде «венер» в позднем палеолите, в виде змееголовой женщины с ребенком на руках – в ранненеолитических культурах Переднего Востока. Эпоха мегалита – это время своеобразного иконоборчества, когда человек с большой силой сознает совершенную неподобность божественного всему земному. Он избегает изображений также старательно как ориньякский охотник осваивал рисунок. В лучшем случае нам приходится довольствоваться символическими знаками и доведенными до геометризма стилизованными изображениями каких-то духовных сущностей. Однако одно изображение, тоже стилизованное, но все же вполне узнаваемое, встречает нас часто у входа в мегалитические усыпальницы. Это – изображение так назывемой «совиноглазой» богини. Полное изображение включает два круглых глаза, сходящиеся брови и клюв хищной птицы. Ниже изображаются груди и еще ниже закрученой спиралью – лоно богини, принимающее мертвых и рождающее их к новой жизни (см. рис.). Часто это изображение упрощается до «Т-образного» символа. Изображения эти известны с V тысячелетия до Р. Х. в Западной Европе. В середине IV тысячелетия они обнаруживаются на Переднем Востоке (Телль Барак, Сирия). Откуда это странное изображение? О. Кроуфорд, посвятивший специальное исследование этой богине [156], предположил, что образом хищной птицы она наделена из-за обычая выставлять тела умерших на склевывание вплоть до очищения скелета от мягких тканей. Птицы, поедавшие труп, стали символами богини земли и смерти. Находки Дж. Меллартом фресок Чатал Хююка, где как раз изображено поедание громадными грифами обезглавленных человеческих тел, свидетельствуют в пользу существования такого похоронного обычая в неолитическое время. В мегалитических гробницах Оркнейских островов многочисленны находки принесенных в жертву крылатых хищников – белохвостых орлов, воронов, сов. Безусловно, несъедобные и во многих религиях нечистые, эти птицы приносились в жертву в местах захоронений, поскольку они принадлежали «совиноглазой» богине, являлись ее воплощениями.  в) кости пальцевых фаланг с изображением «совиноглазой богини» (Альмизарак, Альмбрия. Испания). Начало III тысячелетия до Р. Х. Изображения «совиноглазой богини» Возможно, круглый, часто напоминающий колесо с втулкой и спицами, глаз богини и связь с ней больших хищных птиц обусловлены и иными символическими уподоблениями, о которых речь пойдет ниже, но связь с плотоядением – саркофагией также совершенно очевидна. Кельты по сей день именуют это существо Old Hag (Олд Хег) от древнекельтского «енгу», созвучного с самоедским «Нга». Так поныне называют богиню смерти зауральские угры. От этого же корня происходит и наша Баба-Яга. Ее обязательный длинный отвисший нос, который «в притолоку врос» – ничто иное, как воспоминание о клюве хищной птицы; ее склонность поедать «добрых молодцев» и «красных девиц», случайно оказавшихся в избушке на курьих ножках, – это саркофагия Матери-Земли, принимающей в себя умерших в превратившейся в избушку могиле, и, наконец, сова или филин, сидящий на плече Яги или на коньке крыши ее избушки – это священная птица «совиноглазой» мегалитической богини. Ирландские крестьяне рассказывают своим детям, что курганы полны камнями, выпавшими из передника Олд Хег [157]. Так что древние предания и поверия Европы в причудливо сказочной форме живут и сейчас. Изображения «совиноглазой богини» встречаются не только при входе в гробницы. Очень часто ее изображения наносились прямо на косточки фаланг пальцев умерших или на каменные палочки, имитирующие форму этой кости. Кажется, люди мегалита старались всеми способами приблизить к своим умершим эту богиню, уповая, что пребывание в ее чреве не продлится вечно. Пальцевая фаланга становится одним из образов богини и соответственно одним из символов новой жизни. Курганы иногда воспроизводят эту форму, как, например, Ярроу на Оркнейских островах (конец IV тысячелетия до Р. Х.). Живот Матери-Земли превращается в ее символ, не утрачивая при том своей значимости (см. рис. на с. 155). Такое напряженное внимание к смерти кажется очень странным современному человеку, который, напротив, всячески старается избегать думать об этом неприятном «моменте» своего бытия. Подавляющее большинство из нас живет так, как будто бы жизнь наша никогда не пресечется. «Человек имеет достаточно мужества, дабы не думать о смерти» – сказал кто-то из наших современников. Но в действительности как раз все наоборот, нынешний человек не имеет довольно мужества, чтобы думать о смерти, хотя Олд Хег всегда рядом с ним. У древнего человека на такое думанье мужества хватало. Но это различие в отношении к жизни между древним и современным человеком приводит к тому, что почитание великой возрождающей утробы земли нашими мегалитическими предками их потомки объясняют так, как это понятней свременному, живущему интересами этого мира, человеку: хотя в курганах, безусловно, хоронили умерших, но сами захоронения являлись средством «стимулирования плодородия земель и стад»; человек строил циклопические сооружения, надеясь с их помощью добыть больше пищи и родить больше детей. Но, несмотря на то, что такое объяснение весьма импонирует современному человеку, оно глубоко неверно. Строитель мегалитических сооружений тратил силы и время этой жизни, чтобы получить иную, посмертную жизнь, а не для того, чтобы наслаждаться этой. Причудливая, на наш вкус, «совиноглазая» богиня давала им такую возможность. Древние прекрасно понимали, что без матери родиться нельзя. Но им также было известно не хуже нашего, что для появления новой жизни одной матери недостаточно. В лоно матери должно попасть семя жизни. И этим семенем являлись сами умершие, вернее то в них, что не подвластно смерти. И не случайно с умершими в могилу клали «круглых идолов»; им возводили менгиры; их в предельно обобщенной форме изображали на стенах гробниц (дольмен Сото, Испания). Смерть и в эпоху мегалита, видимо, соединялась в умах людей с расставанием, разлучением души и тела. Не случайно так часты в гробницах Северо-Западной Европы стилизованные изображения кораблей, в которых сидят люди. Иногда эти корабли имеют змеиную голову, а змея, змееголовая женщина – излюбленный образ «того», потустороннего, подземного мира, мира мертвых. Текучая, бесформенная стихия воды из всех земных вещей наиболее близко отражала идею неоформленности, хаотичности. Вода казалась противоположностью четко структурированному земному миру, где все имеет определенные, ясно видные очертания. Поэтому вода и соединялась с образом смерти, как переходом из мира тел в мир духов. Но океан небытия умерший должен был благополучно миновать, дабы прийти к новому бытию, а так как водную стихию обитатели прибрежий и островов Атлантики и Средиземного моря издревле научились преодолевать на борту корабля, то и мертвых своих помещали они в корабли, на которых они безопасно пересекут стихию посмертного небытия. Волнообразный орнамент стен гробниц, склонность располагать захоронения на маленьких прибрежных островах или, если это невозможно, на берегах озер – все это попытки отразить пучину смерти, которую, как ни трудно, но необходимо преодолеть. Однако человек сам по себе, являясь чадом Матери-Земли, ухочя в нее, не мог иметь сил пересечь эти страшные воды смерти, поскольку все земное, перстное, подвержено распаду, тлению, хаотизации. В нем самом должно было иметься неистребимое семя жизни, которое обеспечит возрождение по ту сторону смерти. МатьЗемля, хранящая мертвецов в своей утробе, сама не могла дать это семя, но, как и у каждого ребенка, рождающегося на земле, у умершего кроме матери был еще и Великий Отец, неуничтожимый, вечный податель жизни, создатель мира и устроитель вселенной. Именно это семя вселяло надежду на возрождение и человека и всего материального мира. Но как представляли себе этого «Великого Отца» люди мегалитической цивилизации? OTE Ц НЕБЕСНЫЙ Да и был ли он вообще известен в то время, этот великий податель жизни? Распространившиеся в последние десятилетия нашего XX века с новой силой феминистические настроения отразились и на истории древнейших религий. Признанный авторитет в области неолитической религии Мария Гимбутас вновь ввела в 1980-е годы в научный круг идей представление о матриархате, как об эпохе, предшествовавшей времени, когда главой и рода и племени считался отец. «Плодородие, – писала она, – это не главная функция доисторической Богини-Творительницы, и она не имеет ничего общего с областью сексуальности. Богини, которых мы можем воссоздать, по преимуществу были творительницами жизни, а не венерами, не красавицами, и уж совсем наверняка они не являлись женами мужских божеств. Богини эти были созданиями эры матриархата» [158]. Еще не так давно палеантропологи предполагали, что древние не ведали связи между совокуплением и беременностью, что они якобы пребывали в наивной уверенности, что женщины беременеют сами по себе. В настоящее время, когда известны уже среднепалеолитические фаллические символы жизнедательности (Зальцофен, Австрия) и во множестве верхнепалеолитические, эти домыслы никем не воспринимаются всерьез. А коли так, то на чем основаны предположения, что Мать-Земля, в отличие от земной женщины, должна была считаться не утробой, где «голое семя» превращается в новую жизнь, но «творительницей жизни»? Вопрос этот имеет значение, далеко выходящее за границы модных феминистских увлечений. Дело в том, что дети обязательно должны быть подобны своим родителям и их предкам. Человек не может родить птицу, а птица произвести на свет майского жука. Если земля способна рождать сама, получив только земное семя, подобно тому как из зерна проращивает она колос пшеницы, то тогда положенный в землю умерший может надеяться только на новое рождение на этой же земле. Иной жизни, кроме земной, он не обретет, как не обретает и зерно жизни вне круга сева, жатвы, молотьбы, хранения в амбаре и нового сева. М. Гимбутас и высказывает такое убеждение, когда пишет, что неолитические земледельцы не чаяли ничего иного кроме нового рождения на этой же земле, под этим же небом, то есть мечтали лишь о вечном круговороте природного земного бытия. Но в таких воззрениях для религии не остается места. Ведь религия – это связь. А с чем связан человек в вечном круговороте рождений и смертей? «Земля собирает мертвых в свой загон. Царство мертвых, как правило, располагается под землей. Судьба этих мертвецов не завидна. Их единственная надежда в том, что они родятся вновь из утробы Матери-Земли» – писал Мирча Элиаде, реконструируя представления древнего человека о жребии умерших [159]. Однако если за возрождением следует новая смерть и новое «незавидное состояние», то все вообще бытие человека становится тягостным кошмаром. Впрочем, скорее всего древний человек мыслил себе возрождение в мир, неподобный земному и ощущал, что у него есть не только Мать-Сыра-Земля, но и Небесный Отец, который примет дочь или сына, после возрождения в свои обители. Мы уже реконструировали эти представления по памятникам неолита Переднего Востока, не менее убедительно обнаруживаются они и в мегалитической цивилизации Европы. Мария Гимбутас обратила внимание, что курган, символический образ беременного живота земли, часто имеет пуп на своей вершине. Нередко встречаются и изображения, которые можно идентифицировать как курган-живот с омфалом (пуп ??????? – греч.). Но увлеченная идеей матери – самотворительницы, она не придала значения очень простому и ясному образу – направлению омфала. Пуповина, как известно, соединяет ребенка в чреве с телом матери. Воспроизводя эту реалию, древние создатели гробниц должны были как-то соединить погребальную камеру с толщей земли. Но сделали они нечто противоположное. Омфал всегда направлен вертикально вверх. Он высится над курганом, он устремляется к небу. И на изображениях мы видим такой же, вытянувшийся вверх омфал (залив Морбиан, Бретань) или даже курган с омфалом, из которого вверх, в небо, расходятся волнистые линии (Иль Лонг, Ле Мустуа и др.). Пуповина всегда символизирует органическую я жизнедательную связь (без нее не смог бы жить ребенок во чреве). Поскольку трудно представить, чтобы в человеческом сознании жила мысль о том, что земля, полная мертвецов, питает небо, остается согласиться на единственную иную возможность – Небо призвано было питать землю и лежащих в ней. В Европе холмы с камнями на вершинах оставались объектами поклонения вплоть до XX столетия. Камни эти большей частью естественного происхождения, но кое-где на холмах и курганах специально устанавливались менгиры. С другой стороны, среди балтов по сей день распространен обычай во время жатвы оставлять несжатыми колосья на вершине холма. Рожь, оставшуюся не сжатой, крестьянин завязывал в узел [160]. 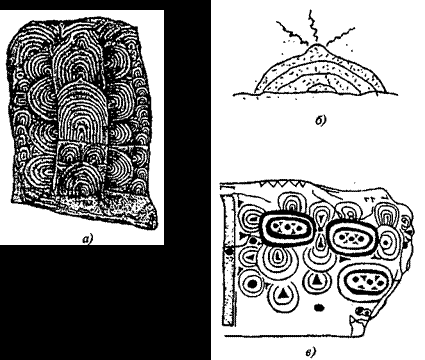 Пуповины – изображения на памятниках мегалита а) изображение на плитах гробницы Гаврини. Морбиан, Бретань; б) изображение в гробнице Иль Лонг; в) орнамент бордюрного камня кургана Ньюгрейндж. Мит. Ирландия Узел этот именуют «пуповина холма». В литовских селах земледелец, сжавший рожь на вершине, презрительно прозывается обрезывателем пуповины (то есть он как бы лишает землю живительных соков Неба и убивает ее). Напротив, завязывание колосьев-пуповины означает состоявшееся рождение. Простейший опыт земледельческой жизни говорил неолитическому человеку, что для прорастания семени потребна и земля и солнце. Не будь несущих живительные тепло и свет солнечных лучей, семя так бы и сгнило в земле. И если Мать-Земля хранила в своем чреве усопших, то «прорасти» к новой жизни могли они не иначе, как под воздействием живительной божественной силы, приходящей свыше, которую древние так часто, и так удачно символизировали солнцем. На замковом камне галерейкой гробницы Ла Табль де Маршанд (Бретань) нас встречает совершенно египетский знак – круг с че тырьмя орлиными крыльями.  Мраморные цилиндры из гробниц Морон де ла Фронтера (Испания) с изображениями «совиноглазой богини». Начало III тыс. до Р. Х. Глаза «совиноглазой богини» там, где это позволяют художественные средства, изображаются в виде колес с втулкой и спицами. Колеса – универсальный индоевропейский символ солнца. Не являются ли эти «портреты» Олд Хэг напоминанием ее неразрывной связи с небесным миром, когда глаза земли устремлены к солнцу, отражающемуся в них? А большие крылатые хищники, которых приносили в жертву «совиноглазой» богине, может быть и они своим парением в небесной выси напоминали человеку мегалита чаемую цель его загробных странствий? На менгирах и дольменах часты изображения солнца. Например, на дольмене Гранья де Тонинуело оно изображено пять раз. В Бачьинето есть мегалитический рисунок человека с огромными, поднятыми разлапистыми ладонями и с лучами вокруг головы. Подобные рисунки, сделанные на тысячу лет позднее (в начале II тысячелетия до Р. Х.) в Швеции однозначно изображают небесное божество, руки которого, напоминающие солнца с расходящимися лучами, свидетельствуют о создателе жизни, о Творце. Особенно примечательно существо, начертанное на стене пещеры Лос Летрерос (Алмерия, Испания) (см. рис. на с. 171). Человеческая фигура с огромными изогнутыми рогами, с серпами в обеих руках и с четко нарисованным фаллосом, чтобы не оставалось сомнений в его мужской природе. Рога заставляют вспомнить иконографию небесного Бога-Творца в верхнем палеолите и переднеазиатском неолите. Он, Бог, дающий семя жизни, которое принимает и до времени растит в своем лоне земля, но которое в урочный час она родит Отцу. Серпы же и вовсе напоминают известный евангельский образ – «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю… и земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе; когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» [Мк. 4. 26-29].  а) божество с серпами. Пещера Лос Летрерос (Алмерия); б) «Солнечный человек» из Бачьинето (Испания); в) ритуальные изображения человека или Бога с топором (культура Алмерия, Испания) Проясняет верхнепалеолитические образы Небесного Бога и осколок медного блюда начала III тысячелетия до Р. Х. из Лас Каролинас (Испания). На блюде выгравированы пышнорогие олени о шести ногах каждый, над которыми сияют солнца. Скорее всего, это остаток предмета, использовавшегося в ритуале, видимо для подношений жертв Небесному Богу. Олень и до сего дня у народов Евразии считается животным солнца. У коренных жителей Сибири особенно чтится белый олень, которого дважды в год приносят БогуТворцу Нуну. Шестиногие же олени и кони в современной шаманской практике – особые духовные существа, переносящие колдуна в небесный или подземный мир. Совсем не обязательно, что у мегалитических обитателей Испании шестиногое животное тоже было связано с колдовством. Скорее, они были образом неотмирности и стремительности божественных животных, и образ этот наследовал и переосмыслил шаманизм. Но еще чаще, чем солнце, встречается в мегалитическом ритуале изображение или модель каменного боевого топора. В искусстве испанской Алмерии муж с топором в правой руке – очень частое явление. В Атлантической Европе, в Северной Германии, Скандинавии под основания святилищ, под жертвенники, менгиры закапывались настоящие боевые каменные топоры или их миниатюрные копии, но всегда в одном и том же положении – лезвием вверх, к небу, к солнцу. «Символика топора, безусловно, по своей природе религиозна, – указывает Дж. Марингер, – она часто появляется на скальных рисунках и на стенах дольменов; еще чаще находки миниатюрных каменных топоров, которые определенно являлись амулетами или жертвенными дарами. В неолитической Западной Европе топор был символом Неба, или, более точно, перунов, бросаемых на землю Небесным Богом» [161]. Перун, молния не были тогда только знаками божественного гнева, хотя в боевом топоре видимо есть знак строгого божественного суда и неодолимой силы. Молния зримо соединяла небо и землю. Если огни жертвенных костров поднимались с земли к небу, то жертва небесная в пламени и раскатах грома из мира небесного устремлялась к земле. В небесном огне жители мегалита может быть видели путь восхождения от земли на небо, открытый для тех, кто достаточно потрудился над своим спасением во время земной жизни. В Кермарио (Kermario), близ Карнака (Бретань) на основании огромного менгира выгравированы пять стоящих на хвостах змей. Когда в 1922 г. под менгиром были проведены раскопки, то нашли в земле пять же повернутых лезвиями к небу топоров. Все это явные знаки того, что из земли, подобно ее обительницам змеям, люди мегалита мечтали подняться к небу по молнии божественного огня. Кстати, до сих пор в Германии существует поверье, что для сберегания дома от молнии в его основание хорошо заложить топор. «Пять топоров из Кемарио, безусловно, являющихся жертвенными дарами, – писал по поводу этой находки Дж. Марингер, – свидетельствуют о поклонении Небесному Богу как подателю жизни, а также о том, что Его почитание проникло в заупокойный ритуал, имевший такое большое значение во времена мегалита» [162]. Принимая во внимание верования и образы раннеписьменных народов середины III тысячелетия, то есть очень близкие по времени строителям неолитических гробниц, нельзя не обратить внимание на скальные рисунки из Пала Пинта де Карлао (Pala Pinta do Carlao, Португалия), изображающие солнце, луну и звезды. Красные скалы, на которых были выбиты эти рисунки, почти наверняка являлись «стенами» мегалитического святилища. Звезды и в египетских «Текстах Пирамид», и в ведах – это пребывающие на Небе, с Богом умершие праведники, представляющиеся с земли «звездами негибнущими». В рисунках из Пала Пинта мы видим победивших смерть, уже родившихся из утробы земли умерших, пребывающих с Небесным Богом жизнедателем в вечном мире нескончаемой жизни. 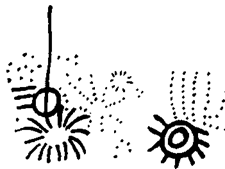 Изображения небесных светил (Пала Пиита де Кярлао) Это – цель и конечное упование мегалитического человека, ради чего и предпринимал он невероятные труды по строительству колоссальных святилищ и гробниц. Ориентация гробничных входов также свидетельствует о твердой надежде обитателей западноевропейских прибрежий на получение наследства своего солнечного небесного Отца. Большинство галерейных курганов, пирамидных и скальных гробниц ориентируются выходом на две точки: место восхода солнца или луны в день зимнего солнцеворота (21-22 декабря). Этот день, отпечатанный для христиан в празднике Рождества Христова, издревле имел огромное значение в религиозной символике. После полугода умирания света и усиления сил ночи и тьмы, после летнего плодоношения, осеннего увядания и первых, особенно жестоких, холодов ранней зимы солнце «поворачивает на лето». Пусть впереди еще два холодных зимних месяца, пусть ночь еще длиннее дня, но солнце с каждым разом поднимается все выше над горизонтом, все дольше, все теплее пригревают его лучи. И вот – уже тает снег, набухают и лопаются почки, распускаются примулы и подснежники. Жизнь победила смерть, свет одержал верх над тьмой, пассивная стихия земли разбужена живительными лучами солнца. В этом естественном природном цикле, радующем и нас, большей частью городских жителей, земледелец пятого тысячелетия до Р. Х. видел величайшее знамение того, что смерть временна, как зимние холода и безжизненные, голые ветви, что наступит светлый день победы, и умершие встанут из своих могил, выйдут из темной утробы Матери-Земли к свету вечного дня и к нескончаемой жизни с Тем, Кто дал им семя божественной жизни. Более редкая ориентация на восход луны в день зимнего солнцеворота связана, видимо, с представлениями о луне, как о «солнце мертвых». Возможно, луна уже в то время начинает ассоциироваться с землей, с Великой Матерью, поскольку она, луна – ночное светило, ежедневно побеждаемое солнцем и еженощно замещающая его после вечернего заката. В раннеписьменных культурах Месопотамии и Египта, Ханаана и, почти наверняка, минойского Крита – луна – знак и символ Великой Богини, Исиды, Астарты, Инаны, Семелы-Артемиды. Олд Хэг-«Белая Дама» также соединяется с луной в эпосе кельтов. Восход луны в день поворота на лето солнца – ясный образ брака Неба и Земли, который и обеспечивает земнородным небесное семя, залог победы над смертью, открывающее им горний путь в раскатах грома и блистаниях небесного огня. Кромлехи, кругом стоящие менгиры, – это, безусловно, символы солнца, а, следовательно, и святилища Небесного Бога. Знаменитый кромлех Стоунхенджа, достаточно хорошо сохранился, чтобы ясно видеть его ориентацию на точку солнечного восхода в день зимнего солнцеворота. Именно в этот день первый луч восходящего светила, проходя между двумя рядами серо-голубых гранитных монолитов, падал на камень главного жертвенника. Бесчисленные захоронения вокруг Стоунхенджа и подобных ему кромлехов ясно показывают, на что надеялись, чего искали безвестные их строители. Наивные попытки современного сциентизма объяснить мегалитические памятники астрономическими интересами их создателей [163], столь же неубедительны, как и отражающие ценности господствующего ныне общества потребления интерпретации этих циклопических сооружений, как магических средств повышения плодородия. Столько сил, сколько тратили обитатели мегалитической Европы на создание стоунхенджей, ныогрэнджей или бретонских аллей менгиров, можно было тратить только на главнейшее в жизни. И все, что мы знаем об этих наших давних предках, весьма убедительно свидетельствует, что не голый научный интерес астронома, и не корысть земледельца, но жажда вечности и бессмертия побуждали их возводить гробницы и храмы, по сей день поражающие человека своей громадностью и «неотмирностью». «Да, может быть мы всю жизнь живем, чтобы заполучить могилу. Но узнаём это только подходя к ней: раньше и на ум не приходило» – писал в «Уединенном» В. В. Розанов. Шесть-семь тысяч лет назад люди постоянно сознавали эту странную сегодня мысль и не ленились жить в соответствии ей. КОНЕЦ МЕГАЛИТИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ Одним из удивительных знаков, появляющихся в эпоху мегалита, оказывается знак креста. Очень часто галерейные гробницы делались из двух пересекающихся под прямым углом коридоров – одного длинного, открывающегося входом, и иного, маленького глухого. 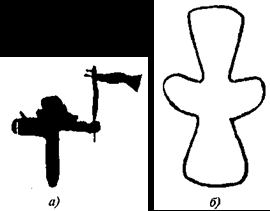 Знак креста в мегалите: а) человеко-крест (Алмерия); б) крест-идол из Иберии ( IV тысячелетие) Точка их пересечения, находившаяся под вершиной насыпного кургана делалась в форме залы под консольным сводом, а на вершине кургана в этом месте стоял менгир или лежал камень. Знак креста встречается нам и на рисунках Алмерии – это кресто-человек с топором. Может быть, крест – это предельно схематизированная человеческая фигура, а может быть знак соединения земли (горизонтальная линия) и Неба (вертикаль)? Как бы то ни было, но в Египте начала III тысячелетия до Р. Х. крест (анех) – знак вечной жизни, главный символ божественности. И у нас есть все основания предполагать, что в гробницах мегалита крест появляется вполне целенаправленно, как таинственный символ победы жизни над смертью. Но судьба самой мегалитической цивилизации, как, впрочем, и судьба всего человеческого, не была столь же триумфальной. Существовавшая в VI-III тысячелетиях до Р. Х., она полностью исчезает во II тысячелетии, в эпоху металла. Когда Юлий Цезарь пришел в Галлию, он встречал только кровожадных друидов, не чуравшихся человеческих жертвоприношений, да странные предания о древних великанах, возводивших грандиозные сооружения. Мегалитическая религия уже умерла, хотя ее образы и символы в сказочной или колдовской одежде дожили до наших дней. Но и в века своего расцвета мегалитическая культура отнюдь не охватывала всю Европу. Рядом со строителями дольменов и кромлехов жили люди иного склада, вовсе не интересовавшиеся приложением трудов к победе над смертью. Нельзя сказать, что их материальная культура была менее развита. Быт крестьян Центрального Массива Франции, швейцарских Альп и Южной Германии ничем принципиально не отличался от строя будничной жизни неолитических земледельцев Бретани, Англии, Ирландии, Португалии, Мальты. Быт не отличался, а вот верования отличались существенно. Среди жителей Центральной Франции и поселенцев на берегах альпийских озер широко распространено было людоедство. 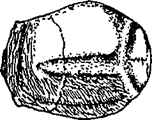 Женский гравированный череп из Conflans – Sainte – Honorine Судя по тому, что человеческие кости потом превращались в амулеты, каннибализм имел, видимо, ритуально-магический характер. Коллективные захоронения в Шамбланд (у Женевского озера) и Бавендорф (Центральная Германия), говорят о том, что в этих местах практиковались умерщвления жен и детей при похоронах главы рода. В сердце континентальной Европы топор отнюдь не был только религиозным символом Небесного Отца – жестокие раны от боевых топоров на скелетах мужчин указывают на иное его применение. Изредка встречающиеся здесь маленькие дольменчики намекают на попытки заимствовать элементы заупокойного ритуала у своих прибрежных сседей. Но делалось это от случая к случаю и без большого рвения, если судить по размерам сооружений. В Центральной Франции встречается и еще один знак, свидетельствующий о религиозных связях атлантической Европы с внутренней. Здесь, в Конфлан сен-Оноран, обнаружены женские черепа, над обладательницами которых при жизни осуществили очень болезненную операцию. На черепной крышке, то ли через кожу, то ли после скальпирования, был выгравирован знак «совиноглазой богини». Женщины жили после этой операции еще достаточно долго, чтобы выемки черепной кости успели затянуться костной тканью. Принадлежат ли эти черепа жрицам богини, или женщинам, давшим обет ради избавления от бесплодия, мы не ведаем. Но такие черепа встречаются там, где не встречаются настоящие мегалиты, и где верования прибрежных народов превращались в магические суеверия. В районах классической мегалитической цивилизации мы не находим ни следов каннибализма, ни признаков безусловных человеческих жертвоприношений. Только одно поздненеолитическое захоронение в Лос Мурсэлагос (Гранада) заставляет предполагать насильственную, хотя скорее всего и добровольную смерть двенадцати женщин вместе со своей увенчанной золотой диадемой госпожой. Но главное, что отличает мегалитическую цивилизацию от соседних, – это сами «большие камни». Именно они лучше всего иного свидетельствуют нам о духовном порыве, о сосредото усилий их строителей, жаждавших победы над смертью. Соединенный с магизмом, довольно элементарный погребальный обряд внутренней Европы указывает, что для ее жителей потусторонние ценности посмертного существования не имели существенной значимости. Мать и дитя.  Чуть ли не первое в мировой живописи изображение матери с младенцем. Надгробный рисунок над кремированными останками молодой женщины и ребенка. Дольмен Сото (Испания) Ведь на что направлены основные силы человека – в том и состоит цель его жизни. Но почему же пресеклась эта цивилизация? Почему перестали возводить кромлехи и дольмены? Куца исчезло безусловное внимание к человеку, как к наследнику вечности, замечаемое уже у неандертальца и вполне сохраняющееся у строителей мегалитов, хоронивших маленьких детей и женщин не менее заботливо, чем мужчин, и подаривших, кстати говоря, нам на одном из камней дольмена Сото (Испания), прекрасное надгробное изображение матери с младенцем? Можно предположить, что постоянное усилие к победе над смертью, затрата огромных сил на возведение храмов и святилищ оказалась невмоготу небольшим общинам атлантических прибрежий. Люди объединяли свои усилия добровольно, повинуясь зову веры. Но в какой-то момент человеческое желание строить себе вечность стало ослабевать… А, может быть, мегалитические строители стали все яснее сознаватъ, что следует для победы над смертью умножить усилия и возводить еще более грандиозные святилища, компенсируя этим собственную, человеческую некачественность? Но на это их маленьким вольным общинам просто недостало сил. В средиземноморско-атлантическом мире Старого Света наступал очередной великий духовный кризис. Строители мегалитов выйти из него не сумели и, забыв о возвышенных целях отцов, растворились среди жившего легкой магической жизнью населения внутренней Европы. Но выход, как всегда, имелся. И на этот раз он был в соединении сил многих общин в единый религиозно-политический организм и в выделении из числа народа такого лица, на котором мог бы быть сконцентрирован религиозный ритуал. Такая организация и четкая «фокусировка» сил народа давала надежду на избавление от все более гнетущего человека бремени сознания неподобия себя своему Небесному Отцу. Бремени, которое современные религии именуют «грехом», воздвигающим преграду на пути от земли в Небо. Но в другом уголке Старого Света, на землях «Плодородного Полумесяца» и в долине великого Нила этот ответ был найден. Здесь на грани IV и III тысячелетий возникают государства, сведенные воедино личностью царя. Факел веры не угас, но разгорелся еще ярче, перейдя в новые руки. 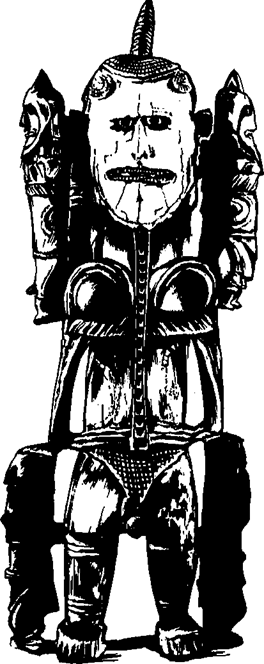 Предок Рода. Статуя, дерево. XX век. Новая Ирландия. |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
