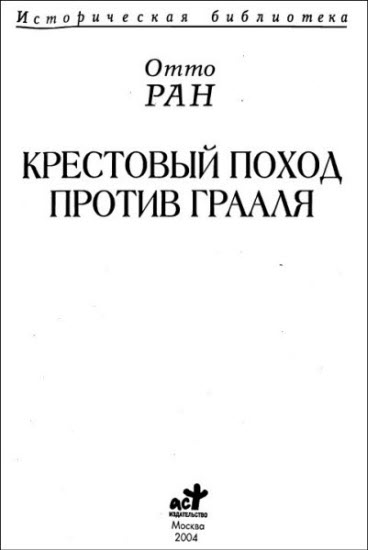|
||||
|
ПАРЦИФАЛЬ ГРААЛЬ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД АПОФЕОЗ БИТВЫ ЗА ГРААЛЬ ПРИМЕЧАНИЯ Отто Ран КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ ГРААЛЯ
Предисловие
Вольфрам фон Эшенбах говорит нам о том, что «господин Киот, известный также как Мейстер, поведал в немецкой земле истинную легенду о Граале из Прованса и что Кретьен де Труа[1] эту легенду исказил». Эпос о Граале, автором которого является Киот, нам почти неизвестен. Впрочем, мы знаем, что в конце двенадцатого столетия французский поэт Гийом де Прованс посетил самые знаменитые дворы Северной и Южной Франции; среди прочих его стихотворений мы находим так называемую «Библию», в которой он дает карикатурное изображение своих современников. Полагают, что этому Гийому принадлежит авторство не дошедшего до нас варианта «Парцифаля». В первой части «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха прослеживается влияние «Perceval le gallois», и весьма вероятно, что она была написана в подражание последнему. Но, начиная с девятой книги своего «Парцифаля», Вольфрам дает совершенно новую трактовку саги о Граале. Если Гийом действительно был вторым авторитетом для Вольфрама, нужно учитывать его влияние только при чтении последней части, которая — в том, что касается Грааля, — и является важнейшей{1}. Почему же первоначальный текст Гийома оказался утерян? На сей счет выдвигалось множество гипотез, но точка зрения, предлагаемая здесь, на мой взгляд, до сих пор никем не высказывалась. Никогда не учитывалось то обстоятельство, что следствием крестовых походов против Лангедока и Прованса (1209–1229{2}) и, в особенности, деятельности инквизиции в Южной Франции явилось уничтожение значительной части провансальской литературы. Цензура, применяемая крестоносцами, участвовавшими в Альбигойских войнах, и инквизиторами, была весьма эффективной. Все книги, содержание которых казалось подозрительным, еретическим, бросали в костер, где им предстояло выдержать пробу огнем. И только лишь те, что неповрежденными взлетали к небу, признавались свободными от ереси. Но такое случалось нечасто. Вальтер Мэп (священник при дворе Генриха II Английского, предполагаемый автор появившегося около 1189 года «Grand Saint-Graal») сообщает нам, что в Бретани еретиков не было, но зато большое количество противников истинной веры находилось в Анжу (среди них «Anschauwe» Вольфрама), и бесчисленное множество — в Бургундии и Аквитании (а также в Провансе и Лангедоке{3}). От Цезария Гейстербахского мы узнаем, что «альбигойская ересь» привлекла к себе столько сторонников, что число городов, в которых можно было найти приверженцев этого учения, приближалось к тысяче. И вскоре по всей Европе разлился бы яд этой ереси, если бы не была она истреблена огнем и мечом. Некий историограф из числа миноритов причисляет их вместе с иудеями, язычниками, мусульманами и германскими императорами к пяти главным преследователям Рима. «Альбигойцы», обязанные своим названием южно-французскому городу Альби, представляли собой два направления, различные в том, что касалось их учения, ереси. Самыми известными были «вальденсы»{4} (родоначальником этой ереси был лионский купец Пьер Вальдо), учение которых в невероятно короткие сроки распространилось по всей Германии. Вторую секту «катаров»[2] можно было бы назвать Махатмой Ганди средневековья. Склонившись над ткацкими станками, они размышляли, «действительно ли земной дух ткет на шумящем станке времени нетленную одежду божеству». Их называли также «tisserands» — ткачи. Так как в задачу этой книги не входит рассмотрение истории сект, я говорю о вальденсах лишь постольку, поскольку они относятся к предмету моего исследования. Ради таинственных катаров была написана эта книга… Из-за того что вся катарская литература была уничтожена, мы знаем о них крайне мало. Вряд ли есть смысл более пристально изучать показания некоторых еретиков, выбитые пыткой в подвалах инквизиции. А потому, кроме некоторых специальных исторических и богословских трудов, которые, как мне кажется, лишь в малой степени приближают нас к правде, о катарах не было написано практически ничего. Не без оснований также скрывают свою «чистоту» и неслыханное исповедническое мужество те персонажи, имена которых будут упоминаться по ходу моей работы. Морис Магр, на дружеский поклон которого на его южнофранцузской родине я, пользуясь случаем, хотел бы с благодарностью ответить, вставил в свою книгу «Magiciens et Illumines» несколько глав о тайне альбигойцев («Le maitre inconnu des Albigeous»). Его предположение о том, что катары были западноевропейскими буддистами, отнюдь не является «гласом вопиющего в пустыне». Аналогичное мнение высказывает, например, и такой известный историк, как Жиро, в своей книге «Cartullaire de Notre-Dame de Prouille». Нам следует подробнее остановиться на этом. Точка зрения Магра по поводу того, что индийское учение о переселении душ и нирване было перенесено неким мудрецом из Тибета на беззаботный юг Франции, несмотря на всю свою привлекательность, не выдерживает между тем даже самой легкой критики. Когда я решился задержаться на достаточно продолжительный срок в одном из самых прекрасных, хотя и довольно диком и негостеприимном уголке Пиренеев, то речь ни в коем случае не шла о том, чтобы проверить книгу моего друга Морис Магра, как хотелось бы думать некоторым французским газетам. Я сделал это с целью придать на месте форму материалу, «скопившемуся» в глубине моей души. Когда я собирался просмотреть и проверить результаты своей исследовательской работы, мне попалась на глаза брошюра Пеладана под названием «Тайна трубадуров», в которой он указывает на таинственные связи между трубадурами-катарами и den Templeisen (?), между Монсальватом и развалинами Мон-сегюра, последнего убежища катаров во время Альбигойских крестовых походов… Между тем мне посчастливилось обнаружить в Пиренеях следы неизвестной стоянки еретиков, которые в сочетании с местными легендами не оставили у меня сомнений в более сложной, нежели просто этимологической, связи между Монсальватом[3] и Монсегюром[4]. Катаризм был ересью. И только богословие предлагает возможную разгадку его таинственной мистики{5}. Нарисовать картину становления и упадка римской культуры достойным образом может лишь специально занимающийся этим предметом историк. Изучая эпос о короле Артуре, только историк литературы способен найти Персеваля (Парцифаля), Галахада и Титуреля. Исследование пещер — а они были для меня самыми важными, хотя молчаливыми и опасными «документами» — требует навыков спелеолога и историка древностей. И только художнику достаточно сказать «Сезам, откройся» для проникновения в таинственно-сказочный круг Грааля. Я прошу о снисхождении, если у меня отсутствуют те или иные предпосылки. Но мне хочется лишь ввести моих современников в новую землю, открытую мной с помощью каната и шахтерской лампочки, а также рассказать людям о мученичестве еретических Templeisen. Это предисловие я хотел бы закончить высказыванием, которое наряду с лампочкой несколько раз освещало во время моих поисков стены темных закоулков пещеры Грааля.
(О. Р.) Часть первая ПАРЦИФАЛЬ
Яркие краски, опасные для глаз, привыкших к северному полумраку, неотделимы от полей Прованса и Лангедока, царства солнца и лазурного неба. Синее небо и еще более синее море, прибрежные скалы, желтые мимозы, черные сосны, зеленый лавр и горы, с вершин которых еще не сошел снег… С наступлением ночи загораются звезды. Невероятно большие, они блестят в темном небе, но кажутся такими близкими, что создается впечатление, будто бы до них можно дотянуться рукой. Южная луна совершенно не похожа на луну Севера. Это — сестра-близнец, но прекраснее и молчаливее… Южная луна и южное солнце рождают любовь и песни. Когда светит солнце, душа начинает петь. Льются песни, прячется угрюмый туман, и в лазурном небе радостно порхают жаворонки. Но вот над морем появляется луна. Своим восходом она прекращает песни, которые, соревнуясь с соловьями, принимаются ухаживать за прекрасными дамами. Между альпийскими ледниками и залитыми солнцем Пиренеями, от виноградников Луары до райских садовых террас Лазурного берега и Кот-Вермей в начале нашего тысячелетия существовала блистательная, любезная и остроумная культура, где господствовали законы любви и поэзии. Эти законы, leys d’amors (законы любви), были получены первым трубадуром от сокола, сидевшего на ветке золотого дуба{6}. Законы любви включали в себя тридцать одно предписание. Высшим из них было то, согласно которому «миннэ» (поэтическая любовь) исключала плотскую любовь и брак. «Миннэ» воспринималась как союз душ и сердец, на брак же смотрели как на союз телесный. Любовь представляет собой страдание, которое быстро проходит при получении чувственного удовлетворения. Для того же, кто носит в сердце настоящую любовь, «миннэ», тело возлюбленной не является объектом вожделения. Он желает получить лишь ее сердце. Настоящая «миннэ» чиста и бесплотна. «Миннэ» не является любовью, а эрос — сексом. «Влюбленные должны хранить свои сердца в чистоте и помышлять только о «миннэ», ибо она является не грехом, но добродетелью, которая делает плохих хорошими, а хороших еще лучшими. Любовь делает целомудренным», — говорит тулузский трубадур Вильгельм Монтаньаголь{7}. Трубадуры были законодателями leys d’amors. При так называемых дворах любви дамы судили рыцарей и трубадуров, которые преступили законы любви. Служение любви, почитание грации и красоты трубадуры называли domnei (от domina — дама). Domnei возбуждала в domnejaire (служителях любви) joy d’amour, любовь, делающую поэтами. Сочинивший самые красивые песни о «миннэ» праздновал победу. Счастливый певец становился вассалом своей дамы. Впредь она могла распоряжаться им как крепостным. Словно своему сеньору на коленях трубадур присягал даме на вечную верность. Дама вручала своему поэтическому паладину золотое кольцо, символ «миннэ», приглашала его подняться с колен и целовала в лоб. Этот поцелуй всегда был первым и, в большинстве случаев, последним. «Миннэ» делает целомудренным… Кроме того, было необходимо, чтобы провансальские священники освятили этот мистический союз, обращаясь к имени Девы Марии. Северная Франция, еще в большей мере Италия и, конечно же, Германия были родиной парадных залов, рыцарских турниров и состязаний. Рыцарство без благородного происхождения было там немыслимо. Только дворянин, являвшийся на войну в полном вооружении и на коне, мог быть рыцарем. В романских же землях прибежищем рыцарей считались горы и леса. Вход в рыцарство был открыт для любого горожанина или крестьянина, если он был мужествен, честен и обладал поэтическим даром. Меч, слово и арфу, непременные атрибуты романского рыцаря, мог позволить себе каждый{8}. Красноречивому крестьянину жаловалось дворянство, сочиняющий стихи ремесленник посвящался в рыцари. «Благородный муж должен быть хорошим воином, великодушным и щедрым хозяином. Большое значение должен он также придавать красивому вооружению, изящности манер и вежливости. Чем более дворянин добродетелен, тем совершеннее он как рыцарь. Но и горожане могут обладать рыцарскими добродетелями. Не будучи благородными по рождению, они, несмотря на это обстоятельство, могут быть людьми благородного образа мыслей. Одна добродетель необходима всем, как дворянам, так и выходцам из низов, — честность. Кто беден, может возместить этот недостаток придворной речью и служением даме. Тот же, кто не знает, что ему делать или что сказать, не заслуживает внимания, и о нем даже не стоит говорить в моих стихах», — пишет трубадур Арнаут де Марвейль, сам сын бедных родителей, сначала писец, затем поэт при дворе виконтов Каркассона и Безьер. Мы видим, таким образом, что рыцарями являлись или, по крайней мере, могли стать таковыми как знатные, так и простые люди, в том случае, если они были мужественны и честны или подвизались на поприще любви и поэзии. Для трусов и лежебок рыцарство было неосуществимой мечтой. «Постоянно держитесь в стороне от глупых людей и избегайте злобных речей. Если Вы хотите вращаться в свете, будьте щедры, великодушны, открыты и постоянно говорите о придворных вещах. Если Вам не хватает денег на приобретение красивой одежды, следите за тем, чтобы Ваше платье всегда находилось в идеальной чистоте, в особенности же туфли, пояс и кинжал. Нет ничего более привлекательного и придающего придворный вид. Кто хочет достигнуть чего-либо на службе у дамы, должен во всем быть искусным и находчивым, чтобы Ваша дама не смогла найти у Вас ни малейшего недостатка. Старайтесь также понравиться знакомым вашей дамы, чтобы она слышала о Вас лишь хорошее. Это окажет особое влияние на ее сердце. Если дама благоволит к Вам, ни в коем случае не говорите ей о том, что Вы завоевали ее сердце. И если она действительно исполнила то, о чем Вы ее просили, старайтесь, чтобы никто не узнал об этом. Напротив, плачьте и жалуйтесь всем, что Вы ничего не можете добиться от вашей госпожи. Ведь женщины терпеть не могут болтунов и дураков. …Теперь Вы знаете, как должно выглядеть в свете и какими способами можно понравиться даме…», — поучает нас трубадур Аманье дез Эскас. Трубадуры были веселым и беззаботным народом. Не было ничего страшного в том, если, целомудренно служа даме, они заглядывались на хорошее личико, а вечером не спешили добраться до ближайшего замка, где могли надеяться на ужин и ночлег. Южное небо — словно покрыто бархатом, кругом столько фруктов, что стоит только протянуть руку, чтобы сорвать желанный плод, а вода в ключевых источниках напоминает истомленному жаждой человеку сладкие вина Руссильона. Законы любви предписывали, что «миннэ» должна быть так же чиста, как и молитва. В жилах южан течет горячая кровь; прежде чем состариться, трубадуры были когда-то молоды, а пожилые дамы искали и не находили себе паладинов. Гармоничным голосом рыцарской Романии была поэзия. Ее изящный «провансальский» язык был первенцем неолатинского диалекта, в который, как в пестрый ковер, вплетались иберийские, греческие, кельтские, готские и арабские образцы{9}. Из Франции, Италии, Каталонии, Арагона и Португалии трубадуры ехали в Монпелье, Тулузу, Каркассон и Фуа с целью узнать новые способы стихосложения и померяться силами с королями-поэтами и принцами-стихотворцами, с Ричардом Львиное Сердце, Альфонсом Арагонским и Раймондом Тулузским. Кто не знает смелого и воинственного Бертрана де Борна, которого Данте встретил в аду обезглавленным, и вечно влюбленного Арнольда Даниеля, который «поет сквозь слезы и печально взирает на былое сумасбродство» в чистилище и просит великого флорентийца подумать вместо него{10}? И все прочие, один глупее и вместе с тем одареннее другого: Бернар Вентадорн, Гаусельм Файдит, Пейре Видаль, Маркабрюн, Пейре Кардиналь, Рамон де Мираваль и меланхоличный Арнаут де Марвейль, любимый ученик Арнаута Даниеля и несчастный паладин графини Каркассонской. О том, как жили, любили, смеялись и плакали романские трубадуры, нам рассказывает их биограф Мишель де ла Тур, видевший и знавший этих людей. Он может рассказать о «стихоплетах» больше, чем кто-либо. Ниже мы предлагаем некоторые из его сообщений в свободном переводе. Жиро де Борнейль был родом из области Эксидевиль. Несмотря на свое неблагородное происхождение, он обладал здравым умом, был сведущ в науках и стал лучшим трубадуром из всех, бывших прежде и после него. Ценители изысканных и остроумных высказываний о «миннэ» прозвали его maestre dels trobadors (мастер стиха). Он пользовался почетом у всех умных и благородных мужчин и женщин, которые были в состоянии постигнуть содержание и смысл его песен. Всю зиму он находился в escola (школе), где усердно занимался науками. Летом же он путешествовал от замка к замку, возя с собой двух певцов, распевавших его песни под аккомпанемент арфы. Никогда не желал он сочетаться браком с женщиной и все заработанные деньги отсылал своим бедным родственникам или жертвовал на церковь в своей родной деревне. Друг! Услышь, как мой радостный голос звенит. Рамон де Мираваль был бедным рыцарем из Каркассона{11}, но благодаря своим прекрасным стихам и речам — а он был весьма искусен в «миннэ» и службе дамам — он снискал почет и расположение графа Тулузского, который подарил ему лошадь, одежду и оружие. Он стал вассалом графа. Его сеньорами в свое время были также король Петр Арагонский, виконт Безьер, господин Бертран де Сайссак и все значительные бароны тех областей. Не было ни одной благородной и уважаемой дамы, которая не жаждала бы его «миннэ» или, по крайней мере, благосклонности. Он лучше всех других умел прославлять даму и служить ей. Каждый почитал за честь иметь Рамона де Мираваля в числе своих друзей. Он любил нескольких дам, и это обстоятельство, по всей видимости, способствовало появлению большого числа его песен. Но весь свет знал, что он никогда не получил добра (мне хотелось бы перевести слово ben так же тактично, как оно звучит во французском языке) по праву любви ни от одной дамы. Все обманывали его. Меня увлекает двойное стремление, Пейре Овернский родился в епископстве Клермон, в семье горожанина. Это был умный, сведущий в науках, красивый и приятный человек. Замечательный поэт и певец, он стал воистину первым хорошим трубадуром этой земли; ему же принадлежит изобретение наилучшей рифмы в его стихотворении: Когда день краток, ночь длинна Его ценили и почитали все значительные и уважаемые господа, бароны и дамы, и он считался лучшим трубадуром вплоть до того дня, когда зазвучал голос Жиро де Борнейля. О себе Пейре Овернский говорил так: Когда Пейре из Овсрна говорит, Овернский дофин, в чьей земле родился Пейре, рассказал мне, Мишелю де ла Туру, что трубадур дожил в этом мире до глубокой старости и… (лакуна в этом месте) и перед смертью принес покаяние. Гийом де Кабестань был родом из Руссильона, что граничит с Каталонией и Нарбонной. Он пользовался всеобщим уважением и был весьма искусен в военных делах, рыцарском искусстве и служении дамам. У себя на родине он любил бескорыстной любовью трубадура донну Соремонду{13}, супругу господина Раймона из замка Руссильон, высокомерного, буйного, вспыльчивого, богатого и гордого человека. В честь этой дамы Гийом де Кабестань сочинил множество прекрасных песен. Для юной, веселой, благородной и красивой дамы он был, в свою очередь, самым дорогим человеком в мире. Об их отношениях стало известно господину Раймону из замка Руссильон. Обуреваемый ревностью и гневом, он приказал стеречь свою жену, а сам спустя несколько дней, подкараулив Гийома де Кабестаня, убил его, вырвал у него из груди сердце и отрубил голову. Он велел зажарить сердце, приправить его перцем и предложил попробовать это страшное кушанье своей жене. После еды он спросил ее: «Знаете ли, что Вы сейчас съели?» «Нет, но это было хорошее и вкусное блюдо», — ответила женщина. Он сказал ей, что она только что съела сердце Гийома де Кабестаня, и в качестве доказательства своих слов показал ей отрезанную голову бедняги. Услышав это и увидев голову своего возлюбленного, женщина потеряла сознание. Когда же она снова пришла в себя, то сказала: «Господин, Вы угостили меня столь прекрасной пищей, что я никогда не буду есть ничего другого». С этими словами она выбежала на балкон и бросилась вниз. Так она умерла. Очень скоро в Руссильоне и во всей Каталонской земле стало известно о несчастной гибели Гийома де Кабестаня и донны Соремонды, а также о том, что господин Раймонд из замка Руссильон накормил свою жену блюдом, приготовленным из сердца Гийома де Кабестаня. Глубокая скорбь и печаль охватили всех. Затем последовала жалоба королю Арагонскому, сеньору господина Раймона и его жертвы. Король поспешно приехал в Перпиньян и приказал Раймону явиться к нему. Виновный был схвачен, лишен всего и ввергнут в темницу. Убитый трубадур и его дама были перенесены в Перпиньян и похоронены в притворе церкви. На могильной плите высекли надпись, рассказывающую о гибели покоящихся под ней. Было отдано распоряжение, предписывающее всем рыцарям и дамам всего графства Руссильон ежегодно приезжать сюда для чествования умерших. Когда впервые вас я увидал, Бернар де Вентадорн родился в семье истопника хлебопекарни замка Вентадорн. Он был красивым и умным человеком, сочинял стихи, пел и отличался воспитанностью и образованностью. Глубокую симпатию питал к нему его господин, виконт Вентадорн, которому чрезвычайно нравились стихи и песни Бернара. Жена же Вентадорна, красивая, веселая и изящная дама, была просто околдована чарующими мелодиями трубадура. Она влюбилась в него, а он, также любя ее, лишь ей одной посвящал все свои стихи и песни. Это продолжалось довольно долго, пока виконт и другие люди не обнаружили их тайны. Вентадорн приказал бросить свою жену в темницу и охранять ее. Но она успела сообщить обо всем Бернару и упросила его покинуть замок. Так Бернар отправился к герцогине Нормандии. Последней пришлись по душе его стихи и песни, и трубадуру был оказан хороший прием при дворе. Долгое время провел Бернар у герцогини. Они полюбили друг друга, а творчество Бернара обогатилось новыми песнями, сочиненными в честь знатной возлюбленной трубадура. Но по прошествии некоторого времени герцогиня вышла замуж за английского короля, который увез жену с собой. Оставшись один, опечаленный Бернар поехал к благородному графу Тулузскому и оставался при нем до самой его смерти. После этого Бернар вступил в монашеский орден в Далоне. Там он и умер. Все, что я написал о нем, поведал мне господин Эблес де Вентадорн, сын виконтессы, любившей Бернара. Лишен я Господом Пейре Видаль был сыном скорняка из Тулузы. Пел он лучше, чем любой из трубадуров, но был весьма глуп, поскольку считал, что хорошо все, что ему нравится или чего он желает. Поэзия давалась ему легче, чем кому бы то ни было. Его поэтические творения отличались благозвучной рифмой, но он говорил величайшие глупости об оружии и о любви, и сочинял злобные песенки, полные непристойностей. Не солгу я, если скажу, что некий рыцарь из Сен-Жиля отрезал ему язык за то, что трубадур однажды сболтнул, будто бы в жену рыцаря вселился бес. Господин Гуго де Баур велел позаботиться о Пейре и вылечить его. Когда же рана была залечена, Пейре отправился за море. Оттуда он привез домой гречанку, на которой женился еще в Египте, приняв за чистую монету заверения о том, что она — племянница византийского императора, а он, став ее мужем, сможет в будущем наследовать императорский трон. По этой причине он занял достаточное количество денег и оснастил флот в надежде заполучить императорские регалии. Трубадур приказал называть себя императором, а свою жену императрицей. Он просил о любви всех встречавшихся ему знатных женщин, но все обманывали его. Всегда возил он с собой роскошных лошадей, богатое оружие, императорский трон и походную кровать. Себя он считал самым лучшим рыцарем, имеющим невероятный успех у женщин. Джауфре Рюдель, сеньор Блайи, был очень знатного происхождения. От одного путешественника, вернувшегося из Антиохии, он услышал о красоте и благонравии графини Трипольской и влюбился в нее, еще не видя своей возлюбленной. В ее честь Рюдель написал много прекрасных песен с очаровательными мелодиями, но довольно убогих в том, что касалось их стихотворной формы. Желая увидеть графиню, он принял участие в крестовом походе и поехал за море{14}. Я еду за море, На корабле он тяжело заболел, так что плывшие с ним люди сочли его мертвым. Но они все же доехали с ним до Триполи и поместили принца в гостиницу. Об этом услышала графиня Мелиссина. Она приехала к нему и обняла его. Тотчас узнал Рюдель графиню, и к нему вновь вернулись зрение и обоняние. Он воздал хвалу Богу за то, что удостоился увидеть любимую им женщину прежде своей смерти. После этого принц испустил дух на руках Мелиссины. Она распорядилась похоронить его с почестями в храме Триполи и в тот же день приняла монашеский постриг, скорбя о Рюделе и его смерти. Раймонд Жордан был виконтом Сан-Антонио, что в епископстве Кагор{15}. Он любил одну знатную даму, бывшую замужем за господином де Пена в Альбижуа. Она была прелестна, полна достоинств, очень почитаема и уважаема. Он был изящный, образованный, красивый, вежливый и щедрый человек, хороший поэт и очень ловко обращался с оружием. Они сильно любили друг друга и каждый старался сделать другому приятное. Случилось, что в одной из битв виконт был тяжело ранен. Враги же его убеждали всех в его смерти. Объятая горем дама вступила в секту еретиков. Но Господь соизволил поднять Жордана с одра болезни. Ни у кого не хватило духу сказать ему о том, что его возлюбленная стала еретичкой. Выздоровев, он приехал в Сан-Антонио. Там он узнал, что дама, скорбя о его смерти, отреклась от мира. Услышав об этом, он потерял способность шутить, радоваться и смеяться. Его уделом стали слезы, сетование и горе. Он перестал ездить верхом и сторонился людей. Так провел он больше года. Все хорошие люди той области были весьма опечалены этим обстоятельством. Наконец, госпожа Алике де Монфор, юная, красивая и изящная женщина, велела известить его о том, что он должен быть счастлив, поскольку она его любит, и что вместе с ней и ее любовью ему будет легче переносить горе. Она в очень изящной форме сообщила ему: «Я прошу Вас и взываю к Вам в надежде, что Вы милостиво согласитесь посетить меня». Услышав о такой чести, виконт почувствовал, как в его сердце забился сладостный ручеек любви. Тотчас обрадовался он, вновь начал смеяться, общаться с хорошими людьми и заказал себе и своим спутникам новую одежду. Он привел себя в порядок и отправился к госпоже Алике де Монфор. Она устроила ему великолепный прием, радуясь оказанной ей чести. Жордан также находился в веселом настроении и наслаждался почетом, который ему оказывала графиня. Она же восхищалась, найдя в нем множество добродетелей, и не сожалела об обещанной ему любви. Виконт быстро расположил ее к себе и стал умолять ее о любви, чтобы убедиться в искренности ее намерений. Он сказал, что ее имя навеки записано на скрижалях его сердца. И дама сделала его своим рыцарем, приняла от него клятву верности, обняла его и поцеловала. Она дала ему также кольцо со своей руки, символ верности и поруки. Удовлетворенный и радостный покинул Раймонд Жордан гостеприимный дом Алике де Монфор. В честь своей дамы он сочинил известную песню: «В мольбе склоняюсь я пред Вами, пред той, которую люблю». Гийом дела Тур был жонглером{16} из Перигора. Он приехал в Ломбардию, зная множество песен, хорошо пел и сочинял стихи. Однако прежде чем начать петь, он всякий раз произносил речь, в которой рассказывал содержание песни, выходившее у него более длинным, чем это было в действительности. Он похитил молодую и красивую жену одного миланского цирюльника и увез ее в Комо. Она была для него самым дорогим существом в мире. Но случилось так, что женщина умерла. От горя трубадур лишился рассудка. Он решил, что она лишь притворилась мертвой, чтобы убежать от него. По этой причине он оставил гроб открытым и в течение десяти дней каждый вечер навещал ее. Он вытаскивал умершую из гроба, наблюдал за ее лицом, целовал, обнимал и просил ее открыть рот и сказать ему, жива она или уже умерла. Гийом умолял ее вернуться к нему, если она жива. Он упрашивал покойную сказать ему, в том случае если она умерла, какие адские муки она испытывает, чтобы он мог заказать нужное количество месс о спасении ее души. Повсюду разыскивал несчастный прорицателей и гадалок, пытаясь узнать, может ли его возлюбленная возвратиться к нему живой. Один насмешник сообщил ему, что это возможно только в том случае, если трубадур на протяжении одного года каждый вечер будет вычитывать перед едой всю Псалтирь и сто пятьдесят раз произносить «Отче наш». Услышав это, он обрадовался и тотчас принялся исполнять то, что ему посоветовали. Он исправно выполнял сказанное в течение целого года, не пропуская ни одного вечера. Когда же обманутый Гийом увидел, что все это не помогло, он отчаялся и умер. Пейре Кардиналь был родом из города Лe-Пюи-Нотр-Дам; он был сыном рыцаря и некой дамы. Отец отправил его еще мальчиком в каноникат Лe-Пюи для изучения наук. Пьер хорошо пел и читал. Когда он вошел в мужской возраст, то был пленен суетностью этого мира, при этом видя себя жизнерадостным, красивым и юным. Его голова была набита прекрасными идеями, и он сочинял замечательные стихи. Он написал также несколько песен и прелестных сирвент{17}. Эти сирвенты хороши лишь для тех, кто их понимает. Они бичуют глупость здешнего мира и осыпают упреками лживое духовенство. Трубадур путешествовал вместе с наемным певцом, который пел его сирвенты при дворах королей и знатных баронов. И я, Мишель де ла Тур, могу вас заверить, что господину Пейре Кардиналю было приблизительно сто лет, когда он ушел из жизни. Некогда в дальнем краю Два могущественных княжеских дома превосходили бесчисленные романские династии севернее и южнее Пиренеев. В Испании правил Арагонский дом, сведения о происхождении которого теряются во мраке баскской истории. Родоначальником династии считается князь басков Вольф, победивший в Ронсевальской долине легендарного Роланда. В 1118 году Альфонс Первый (1104–1134) захватил Сарагоссу, находившуюся до этого в руках мавров, и сделал ее столицей Арагона. Его брат, Рожер Второй, в 1137 году выдал свою дочь Петронеллу замуж за каталонского графа Раймонда-Беренгария Барселонского, старший сын которого, Альфонс Второй, прозванный Альфонсом Непорочным (1162–1196), объединил Каталонию и Арагон под своим скипетром. Его власть распространялась на Арагон, Каталонию, Валенсию, Балеарские острова, часть Прованса, лежащую южнее Дюранса, графства Ургель и Чердань, которые граничат с Андоррой и Руссильоном на пространстве между Средиземным морем и Тулузским графством. Альфонс Непорочный был выдающимся сыном gai savoir (благородного искусства, поэзии) и трубадуром, сочиняющим стихи на провансальском языке. Северофранцузский поэт, Гийо де Провин, пишет об этом «короле Арагона» как о своем благодетеле. Он восторженно описывает его поэтические таланты и рыцарские добродетели. Альфонс Второй соперничал с трубадуром Арнаутом де Марвейлем в борьбе за благосклонность Аделаиды де Бурла, дочери графа Раймона V Тулузского и супруги виконта Рожера-Тайлефера Каркассонского. Севернее Пиренеев простирались земли владетельных графов Тулузских. Их предок по имени Гурсио был князем готов. Когда в 507 году вестготский король Аларих II лишился своей резиденции Тулузы, которую завоевал Хлодвиг, король франков, Гурсио остался в городе в качестве маркграфа. «Сыновья Гурсио» постепенно распространили свою власть на всю приальпийскую территорию, Дюране, Дордонь и приграничную область Пиренеев вплоть до Гаскони. Раймонд де Сен-Жиль, четырнадцатый из «сыновей Гурсио», участвовал в Первом крестовом походе, куда он отправился с большим войском паломников-аквитанцев. Когда же в Иерусалиме его попытка оспорить королевский трон у Готфрида Бульонского потерпела крах, он основал в Ливане княжество Триполи. Сирийские города Триполи, Арадос, Порфирион, Сидон и Тир стали Тулузой, Каркассоном, Альби, Лавором и Фуа в миниатюре. В лесу из пальмовых, апельсиновых и гранатовых деревьев, в листве которых ветер пел песни о соломоновых кедрах, саннимском снеге и храмах Ваала, находилась столица Триполи. Тулузским графам незачем было ехать домой, напротив, родина сама стремилась в свой ближневосточный рай. Первой внучкой Раймонда была Мелиссина Триполийская, сказочная красота которой настолько обворожила несчастного трубадура Рюделя, что он «с веслом, под парусом плыл навстречу смерти», как поет Петрарка в своем «Триумфе любви». Сыновья Раймонда де Сен-Жиля поделили между собой отцовское наследство. Бертран, появившийся на свет в Тулузе, правил в Триполи. Альфонс, впервые увидевший мир в Триполи, отправился на родину. Он носил титул графа Тулузского, маркграфа Прованса и герцога Нарбонны. Могущественными графами и виконтами городов Каркассона, Безьер, Монпелье, Нарбонна и Фуа он был признан верховным сеньором. Альфонсу было сорок пять лет, когда аббат Бернар Клервоский начал проповедовать Второй крестовый поход. В Везелэ он принял крест вместе с королем Франции Людовиком VII. Но вскоре после высадки в Кесарии Альфонс был отравлен. Подозрение пало на Балдуина III, короля Иерусалима, который, страшась за свою корону, велел отправить графа Тулузского на тот свет. В Святую Землю графа Альфонса сопровождала его дочь, инфанта Индия Тулузская. Она похоронила отца в Мон-Пелерин, между морем и Ливаном, рядом с Раймондом де Сен-Жилем и Эльвирой Кастильской, родителями покойного графа. Во время крестового похода Индия попала в плен к неверным и была увезена в Алеппо, в гарем султана Нуредцина. Из рабыни Индия стала султаншей и после смерти Нуреддина управляла Сельджукской империей. Когда Альфонс отправился в Палестину, его сыну Раймону было только десять лет. На доставшееся молодому графу наследство притязали его влиятельные соседи, короли Англии, Франции и Арагона. Король Франции Людовик VII полагал, что он, как потомок Хлодвига и Карла Великого, имеет право претендовать на Тулузу. Английский король Генрих II считал, что в качестве супруга Элеоноры из Пуату, одной из ближайших родственниц Тулузского графского дома, он также вправе предъявлять требования на наследство покойного Альфонса. Король же Арагона настаивал на своем происхождении от Вольфа, легендарного короля басков, и тоже возвышал свой голос. Раймон пошел по единственно возможному пути. Он заключил союз с одним из трех королей против двух других. К тому же юный граф поклялся королю Франции в том, что женится на его сестре Констанции, овдовевшей графине Булони. Брак с самого начала обещал быть несчастным. Констанция была холодной, сварливой женщиной и к тому же втрое старше своего супруга. Кажется, что она не собиралась связывать себя узами супружеской верности, однако Раймон не мог поставить ей это в упрек. Он придавал едва ли большее значение целомудренности супружеского ложа и, возможно даже, как сообщает нам монах-летописец Пьер де Во-Сернэ, имел связи с представителями своего пола. Стены Нарбоннского замка, дворца графов Тулузских, сотрясались от супружеских перебранок. Прежде чем Раймон начал войну с королем Арагона из-за спора о верховном господстве над Провансом, он заточил Констанцию в башню. Однако ей удалось бежать оттуда к своему брату в Париж. Последний, как кажется, не был полностью уверен в правах своей сестры и поэтому не стал предпринимать каких-либо выпадов против своего зятя. В Англии правил с 1154 года король Генрих II, сын Жоффруа Анжуйского и английской принцессы Матильды. Прозвище представителей Анжуйского дома Плантагенет происходило от ветки дрока (planta geneta), украшавшей их гербы и шлемы. Генрих II властвовал над Англией, Анжу, Туренью, а с 1106 года и над английской Нормандией. Женившись на Элеоноре из Пуату (1152), он присоединил к своим владениям Аквитанию, Пуату, Овернь, Перигор и Лимузен, то есть практически четвертую часть Франции. В 1159 году английский король Генрих II, прозванный Короткий Плащ (так как он ввел в английскую моду короткие плащи), предпринял поход против графов Тулузы. Но король Людовик Французский, вторгшись в его аквитанские земли — Пуату, Лимузин, Овернь и Перигор, — принудил его к поспешному отступлению. Когда же Генрих Короткий Плащ велел посадить в башню свою супругу Элеонору, Раймон счел, что теперь у него имеются достаточные основания, чтобы отразить нашествие англичан. Брачный раздор нарушил спокойствие в доме Анжу-Плантагенетов. У Элеоноры были все причины для ревности со стороны своего супруга. Некая прекрасная дама с еще более прекрасным именем, Розамунда, похитила у нее сердце короля. По этой причине Элеонора сочла нужным отравить соперницу и побудить молодого Генриха, наследника престола, восстать против отца. За это она и была брошена в вышеупомянутую башню. Инфант Генрих при поддержке короля Франции и Раймона Тулузского, который прибыл со всеми своими вассалами и трубадурами, начал в 1173 году войну против своего отца. «Призыв» к войне был провозглашен трубадуром Бертраном де Борном. Бертран де Борн был виконтом Отфора в Перигоре. Существует рукопись того времени с миниатюрой, изображающей этого воинственного поэта. На ней запечатлен Бертран в блистательном вооружении, в тот момент, когда он на вороном иноходце с ярко-красным чепраком и зеленым седлом атакует вражеского рыцаря. Мне весело, когда от поцелуя «Papiol» — так называл Бертран английского принца Ричарда Львиное Сердце{19}. Это насмешливое прозвище{20} непереводимо: оно означает как «папишку», так и глупца. Papiol выбрал «да». В другой сирвенте Бертран де Борн перечисляет романских принцев, отправившихся на войну против Англии: графов Тулузы, Беарна, Барселоны (также король Арагона), Перигора, Лиможа и всех виконтов, баронов и консулов от Роны до океана. Союзники, вероятно, одержали бы победу над английским королем, если бы не измена короля Арагонского, обратившего свои войска против Тулузы. В последний момент Раймону удалось отразить нападение Альфонса, который после этого вступил в союз с английским королем. Бертран де Борн написал полную негодования сирвенту против предателя, позорно изменившего делу романцев. Он назвал его потомком презренного крепостного, а не пиренейского волка. «Арагон, Каталония и Ургель стыдятся своего трусливого короля, который прославил себя в своих песнях и который серебряные монеты ставит превыше чести!» Тотчас вслед за тем Ричард Львиное Сердце сказал «нет» и помирился со своим отцом. Вскоре умер его брат Генрих, наследник английского престола, которого Бертран де Борн назвал в своей песне «Lo rei joven» (юный король). Он умер неожиданно в замке Мартель в Лимузене. Бертран был потрясен внезапной смертью своего любимого героя. В planh’e (плач, жалобная песня) оплакивал он молодого принца. Бертран охотно бы посмотрел продолжение войны, но, к его несчастью, аквитанские бароны Западной Романии во главе с Генрихом Английским, который был их сеньором, устремились на замок рыцаря Аутафорт. Генрих поклялся отомстить Бертрану. А когда еще и Альфонс Арагонский, непримиримый враг трубадура, присоединился к осаждающим, положение Бертрана стало опасным. Но он не потерял мужества. С целью поиздеваться над арагонским королем и показать, что в его замке имеются большие запасы, рыцарь послал королю вола с просьбой успокоить гнев повелителя Британии. Замок Аутафорт не мог противостоять войскам осаждавших. Бертран был схвачен, пленен и приведен к королю Генриху. «Бертран, ты хвастался, что тебе нужна лишь половина твоего гения. Боюсь, что и две половины не могут уже более тебя спасти». «Да, сэр, — спокойно ответил Бертран, — я говорил так и я сказал правду». «И где же твой гений, Бертран, есть он у тебя?» «Да, сэр. Но я потерял его, когда умер твой сын, Генрих». И Бертран запел свой «план» на смерть юного короля Генриха. Горько заплакал старый король и сказал: «Эн Бертран, ты был для моего сына самым дорогим человеком на земле{21}. Из любви к моему бедному сыну я даю тебе жизнь, твою землю и твой замок. Ущерб, который ты понес, будет возмещен тебе в размере ста пятидесяти серебряных марок, Бертран…»
Бертран повергся к ногам короля. Ликующий, поднялся он снова. Вскоре после этого события (1186) король Генрих умер, и Ричард Львиное Сердце был коронован{22}. Будучи все еще недовольным его «да» и «нет», Бертран подстрекал брата Ричарда Готфрида к мятежу. Но Готфрид был разбит, и ему пришлось бежать ко двору французского короля, где во время одного из турниров он погиб, затоптанный копытами лошадей. Тремя годами позже был провозглашен Третий крестовый поход. Незадолго до этого султан Саладин отвоевал Иерусалим и заменил крест, сиявший на храме Гроба Господня, на полумесяц. Жившим в Иерусалиме христианам был предоставлен выбор — спокойно остаться в стенах Святого града или переселиться в прибрежные города Тир, Триполи и Акру. Такое великодушное поведение султана, возможно, во многом объяснялось влиянием Ивдии, инфанты Тулузской, вдовы Нуредцина, на которой женился Саладин, став таким образом повелителем Сельджукской империи. Во всяком случае, Саладин не осквернил Святую Землю Иерусалима кровью, как восемьдесят шесть лет тому назад сделали участники Первого крестового похода, когда «город и храм были полны трупов» (Торквато Тассо). Победа Саладина ужаснула Запад и повергла его в ярость. Рим объявил новый крестовый поход. Проповеди священников сопровождались звуками арф трубадуров. Знаменитейшие поэты призывали к участию в священной войне. Среди них были Бертран де Борн, Пейре Видаль, Жиро де Борнейль и Пейре Кардиналь. Но более, чем стремление посетить библейские города Палестины, трубадуров возбуждало желание увидеть далекие земли, а затем, вернувшись из похода, в присутствии дам, которые в печали вынуждены были оставаться на родине, исполнить баллады и сирвенты о пережитых приключениях{23}. Сколько слез, должно быть, было пролито женщинами, когда поэты и рыцари с крестами на щитах и доспехах покидали родину.
Поэту Пейролу было особенно тяжело вырваться из объятий плачущей и осыпающей его упреками донны Сэй де Клаустра. «Когда Амур обнаружил, что мое сердце уже более не принадлежит ему, он упрекнул меня. Вы увидите сейчас как: «Друг Пейрол, очень некрасиво с Вашей стороны бросать меня на произвол судьбы! Зачем Вы вообще нужны, если Ваши мысли больше не принадлежат исключительно мне и если Вы больше не поете?» — Амур, я так долго служил Вам, а теперь у Вас не находится и капли жалости ко мне. Вы прекрасно знаете, как мало хорошего[5] выпало на мою долю. — Но, Пейрол, неужели Вы забыли прекрасную благородную даму, которая по моему приказанию столь милостиво и с такой любовью принимала Вас? Никто из слышавших Ваши песни не считал Вас способным на такой легкомысленный поступок. Вы казались таким радостным и влюбленным! — Амур, я с первого же взгляда полюбил свою даму и продолжаю до сегодняшнего дня любить ее. Но пришло время, когда любой мужчина, который, не угрожай нам Саладин, с радостью остался бы при своей даме, должен оставить ее пусть даже в слезах. — Пейрол, ваше участие в крестовом походе не поможет освободить город Давида от турок и арабов. Послушайтесь моего мудрого совета: любите, пишите стихи и предоставьте другим возможность отправиться воевать. Почитайте королей, которые вместо этого воюют друг с другом, и берите пример с баронов, которые не могут найти достаточных причин для поездки в Иерусалим с крестом на доспехах. — Амур, я всегда верно служил Вам. Вы и сами знаете это. Но сегодня я вынужден отказать Вам в послушании. Крестоносцы слишком медлительны и должны были бы уже давным-давно прийти на помощь благочестивому маркизу Монферратскому». Этим маркизом Монферратским был князь Конрад Тирский. Притесняемый Саладином, он попросил Запад о помощи. Бертран де Борн ответил ему следующим образом: «Господин Конрад, да хранит Вас Бог! Я уже давно был бы с Вами, если бы медлительность графов, князей и королей не побуждала меня действовать иначе. С тех пор как я вновь увидел мою даму, мою прекрасную белокурую даму, у меня пропало всякое желание ехать к Вам». * * *Бертран де Борн, поначалу один из вдохновеннейших поэтов-крестоносцев, остался дома. Он любил, сочинял стихи и продолжал метать громы и молнии: «О, если бы угодно было Богу, чтобы Филипп Французский и Ричард Английский попали в лапы к Саладину!» Более всего хотелось трубадуру, чтобы король Арагонский принял крест и все трое никогда бы не вернулись домой. Фридрих Барбаросса первым покинул родину со своими немцами. По дороге он вступил в конфликт с подозрительным греческим императором Исааком Ангелом, который после взятия Адрианополя был вынужден разрешить крестоносцам беспрепятственно переправиться в Малую Азию. Филипп Август и Ричард Львиное Сердце годом позже прибыли соответственно в Геную и Марсель. Местом встречи обоих флотов предполагалось сделать Мессину, где короли хотели дождаться весны. В это время в Сицилии жил знаменитый отшельник по имени Иоахим Флорский, которому приписывали пророческий дар{24}. По примеру афинских, ливанских и синайских монастырей он основал обители в Калабрийских горах и на Липарских островах. В описываемое время Иоахим считался лучшим толкователем Апокалипсиса Иоанна Богослова. Ричард Львиное Сердце разыскал знаменитого кеновита и попросил разъяснить ему двенадцатую главу Откровения: «Жена, облеченная в солнце, под ногами которой луна, а на голове венец из двенадцати звезд, символизирует собой Церковь. Дикий дракон с семью головами и семью диадемами есть дьявол. Семь голов означают семерых главных преследователей Евангелия: Ирода, Нерона, Констанса, ограбившего церковную сокровищницу Рима, Магомета, Мелземута, Саладина и Антихриста. Пятеро первых уже умерли. Саладин живет и правит. Антихрист скоро придет. Торжествует Саладин, но через некоторое время потеряет он Иерусалим и Святую Землю». «Когда это будет?» — спросил Ричард. «Через семь лет после взятия Иерусалима». «То есть мы пришли слишком рано?» «Ваше появление было необходимо, король Ричард. Бог поможет Вам одолеть Ваших врагов и прославит Ваше имя. Что же касается Антихриста, то он уже родился и скоро воссядет на престоле святого Петра». Ричарду Львиное Сердце так и не удалось освободить Иерусалим, Саладин еще долгое время торжествовал, а Антихрист… Кто хотел бы утверждать, что папа Иннокентий III был антихристом? Весной Филипп и Ричард покинули Сицилию. На Кипре Ричард отдал в жены своему любимому трубадуру, Пейре Видалю из Тулузы, знатную греческую пленницу. Как отразилась эта королевская милость на жизни Пейре, мы знаем благодаря биографии Мишеля де ла Тура. Крестовый поход оказался неудачным. Фридрих Барбаросса утонул в Кидне, который задолго до этого чуть было не стал могилой для Александра Великого. Правда, в июле 1191 года Ричарду Львиное Сердце и Филиппу Августу после двухгодичной осады удалось взять Акру. Но споры из-за добычи, ревность к популярности Ричарда и мнимая болезнь побудили французского короля вскоре после падения Акры уехать на Запад. Отъезд Филиппа был расценен оставшимися крестоносцами как дезертирство. Через море вслед за королем полетела насмешливая песня трубадуров. Спустя год Ричард узнал, что Филипп пытается отнять у него Нормандию и Анжу, а его брат Иоанн стремится узурпировать английский королевский трон. Тогда Ричард решил без лишних церемоний начать переговоры с Саладином, чтобы как можно скорее уехать домой. Он договорился с султаном, что сестра короля Жанна должна будет выйти замуж за брата Саладина, эмира Малек-Аделя, и вместе с последним править в Иерусалиме и Святой Земле. Однако римским прелатам удалось сорвать этот план, который положил бы предел кровопролитию на палестинской земле. Между сторонами могло быть заключено лишь военное перемирие сроком на три года три месяца и три дня. По этому поводу Саладин и Ричард устроили роскошный пир. Оба монарха и их войска под аккомпанемент арф сражались в бескровной битве на турнирной площади, вооруженные тупыми копьями{25}. Саладйн также привел своих придворных поэтов, ибо арабские поэты от Босфора до Персидского залива сложили «столько стихов и песен, сколько песчинок в пустыне». Трубадуры пели о любви и смерти Рюделя и Мелиссины, поэты отвечали им не менее трагичной историей о Хинде и Абдаллахе. Вот она:
По окончании празднества Ричард покинул Святую Землю. Нет нужды рассказывать здесь о том, как он был пленен австрийским герцогом Леопольдом VI, которого Ричард смертельно оскорбил в Акре; как содержался в заточении в крепости Дюрренштайн; как он был брошен в тюрьму императором Генрихом IV и как он освободился. Ричард Львиное Сердце надолго стал любимцем Средиземноморья, Аквитании и Англии. На Ближнем Востоке арабские поэты воспевали «Мелек-Рика», а в Романии и Аквитании трубадуры пели песни о его героических подвигах и романтическом освобождении, сочиненные шпильманом Блонделем, и прославляли его как господина доблестного круглого стола, как короля Артура{26}. Прибыв в Англию (1194), Ричард обнаружил, что между его братом Иоанном и Филиппом Французским заключен союз, имевший целью низложить его. Он прогнал Иоанна в Париж и отвоевал свои провинции Нормандию и Анжу, захваченные Францией. Затем он уехал в Тулузу, где провел четыре года. «Бертран де Борн был рад», — говорит хронист. Когда Бертран де Борн увидел, что Филипп-Август тайно и поспешно покинул Святую Землю и приехал во Францию, он догадался о намерениях короля относительно принадлежащей Ричарду Аквитании и не сомневался, что Капетинги попытаются расширить границы своих владений до Пиренеев. Бертран, бывший до того противником Ричарда, теперь открыто встал на его сторону. Он смог уговорить недавно коронованного короля Петра Арагонского и графа Раймона Тулузского забыть вековую вражду с Англией. Ему удалось даже побудить инфанта Тулузского в знак примирения Тулузы и Дома Плантагенетов предложить руку и сердце сестре Ричарда Жанне. Так был преодолен длившийся долгое время раздор между Аквитанией и Лангедоком. Был воссоздан образ той Аквитании, какой она была в десятом веке. В Каркассоне, самом элегантном городе Лангедока, Ричард посетил известнейшую даму, овдовевшую Аделаиду де Бурла, дочь Раймона V и Констанции Французской. Аделаида управляла вместо своего несовершеннолетнего сына владениями дома Тренкавель. Из Каркассона английский король поехал в Бокер-на-Роне, летнюю резиденцию графов Тулузских. Для его приветствия, а также в честь примирения трех королей и свадьбы Раймона Тулузского и Жанны Плантагенет сюда съехались все князья и рыцари из Прованса, Лангедока, Аквитании, из пиренейской области от Перпинь-она до Байонны и из Арагона, консулы всех свободных городов Юга и все трубадуры и поющие люди Романии. Один хронист, приор Вижуа, описал нам, как, должно быть, проходило празднество в Бокере:
Некий рыцарь в знак окончания братоубийственной войны между Аквитанией, Лангедоком и Арагоном сжег на огромном костре тридцать своих боевых коней. Через два десятилетия Романия увидела другие костры, загоревшиеся по приказанию папы Иннокентия III. После праздника в Бокере граф Тулузский объявил Франции войну, которая закончилась неожиданной смертью Ричарда Львиное Сердце. Мир между романскими государствами, свадьба Раймона и Жанны, объявление войны Парижу были, по всей видимости, делом рук Бертрана де Борна. Тем временем умер Саладин. За минуту до своего последнего вздоха он повелел, чтобы его саван, сотканный из пурпура и золота, пронесли по улицам Иерусалима, а назначенный глашатай возвещал при этом: «Этот саван берет с собой владыка мира Юсуф Мансур Салах ад-Дин». После смерти Саладина огромная мусульманская империя была поделена между семнадцатью сыновьями султана и братом покойного, Малек-Аделем. Папа Иннокентий III, 22 февраля 1198 года возложивший на себя папскую тиару, полагал, что настал благоприятный момент для нового крестового похода в Палестину. Он поручил Фульку из Нейи, что на Марне, начать проповедь священной войны. Фульк первым делом направился к Ричарду Львиное Сердце. Но Ричард научился говорить «нет». Он видел Грецию и Восток. Саладин стал его другом{27}. Он хотел выдать свою сестру за брата султана, чтобы заложить основу созданию христианско-мусульманского Иерусалимского королевства. Однако английский король был противником Рима и непримиримым врагом Франции. Он больше не хотел и слышать о крестовом походе. Фульк рассердился: «Сир, во имя Всемогущего Бога я приказываю Вам как можно скорее выдать замуж ваших трех распущенных дочерей, если Вы хотите избегнуть несчастья!» «Лжец, у меня нет даже и одной дочери!» — воскликнул король. «У Вас их три. Их зовут Придворные Манеры, Алчность и Распутство!» «Хорошо, я отдаю тамплиерам Придворные Манеры, мо-нахам-цистерцианцам — Алчность, а Распутство — прелатам Римской церкви». Римская курия отлучила английского короля{28}. На долгое время забыл и похоронил Бертран свой гнев на Ричарда, который вместо «да» или «нет» сказал и «да», и «нет». Внутренняя дружба связывала господина Англии и Аквитании с провансальским поэтом, автором «Guerra me plai» («Война — моя радость»). Бесспорно, Бертран был самым выдающимся трубадуром Романии. По своему воздействию его песни, сопровождавшиеся переливами арфы, напоминали легенды об античных поэтах. Однажды Ричард Львиное Сердце находился со своими войсками в песчаной пустыне Пуату, неподалеку от Сабль д’Олонн. Люди и животные шатались от голода. Не было ни хлеба для воинов, ни травы для лошадей. Тогда взял Бертран свою арфу и запел песню о принцессе Лаине Плантагенет, сестре Ричарда, а позже герцогине Саксонской{29}. И все бароны и рыцари тотчас забыли про холод, голод, бушующий в океане шторм и ледяной ветер с побережья, хлеставший по их воспаленным лицам. В 1199 году Ричард осадил замок Шалю, принадлежащий его вассалу, виконту лиможскому Аймерику. Хозяин Шалю скрывал за его стенами сокровище, на которое король претендовал по праву сеньора. Он хотел совместить приятное с полезным. Аймерик сражался на стороне Франции, и, помимо захвата сокровища, Ричард надеялся наказать неверного вассала{30}. Однако в тот момент, когда он указывал своим воинам место, откуда им следовало начать штурм замка, в его грудь вонзилась стрела, выпущенная со стены одним из лучников. Ричард встретил смерть на руках Бертрана де Борна{31}. Разъяренные воины взяли замок. Все его защитники были перебиты, и среди них стрелявший лучник и хозяин замка. Все сокровище замка Шалю пошло исключительно на похороны Ричарда Львиное Сердце. Тело короля поэтов и короля-поэта было перенесено в присутствии всех его вассалов и трубадуров в Фонтевро (Ebraldsbronn), где вечно беспокойный обрел свое последнее пристанище. Погребение Ричарда Львиное Сердце не сопровождалось молитвами, святой водой и церковными благословениями. Он, король Англии, Ирландии, Анжу, Арля и Кипра был Извергнут из церковной ограды{32}… Все арфы Юга и Севера оплакивали этого «Александра», «Карла Великого», «короля Артура». Каждый трубадур пел свой «план» на смерть Ричарда. Горше всех сокрушался поэт Гаусельм Файдит, который воевал вместе с королем в Святой Земле. Те, кто придет потом! Только из уст Бертрана де Борна не слышалось жалобных песен. Он умел ненавидеть, но и любить он умел также. Слишком велико было его горе о потерянном друге. На этот раз прекратилось даже его пение. В один из вечеров он постучался в ворота монастыря Граммон, которые затем навсегда затворились за ним{33}. Лишь однажды после этого события встречаем мы Бертрана де Борна. Данте Алигьери, великий флорентиец, увидел его в аду. Так как Бертран «связь родства расторг пред целым светом, за это мозг его был отсечен навек от корня своего». Обезглавленный трубадур из замка Аутафорт носил перед собой свою же голову, чтобы освещать дорогу, ведущую через ад. Великий итальянский поэт поместил знаменитого трубадура Романии в ад и, возможно бессознательно, олицетворил в его образе Романию, которая была проклята и превратилась в ад. Романская легенда, до сих пор живущая в народном сознании, гласит, что Бертран де Борн, скорбя о проклятии, наложенном на его родину, превратился в застывшую ледяную глыбу на леднике Сьерра-Маледетга. Говоря о Ричарде Львиное Сердце и Бертране де Борне, мы забыли об одном не менее знаменитом романском герое. Раймон V был не только могущественным монархом Романии и одним из влиятельнейших государей Запада; его столица Тулуза являлась также метрополией романской цивилизации и романской культуры. Владения этого великого «сына Гурсио» были протяженнее домена французской короны, могучим и почти независимым вассалом которой он был. Кроме Тулузского графства, ему принадлежало герцогство Нарбонна, облекающее своего владельца достоинством первого пэра Франции. Он был сеньором четырнадцати графов. Трубадуры пели, что Раймон может сравниться лишь с императором{34}. Они называли его «добрым графом Раймоном», так как он всегда шел навстречу их заботам и просьбам. Он был трубадуром, как и они. Одно удивительно. Никогда Раймон Тулузский не стремился в Святую Землю или, по крайней мере, в Триполи, принадлежащий Тулузе. Единственный среди великих христианских монархов двенадцатого столетия, он не принимал участия в крестовых походах. Не предвидел ли он, что вскоре после его смерти (1194) Романия сама станет ареной, на которой будут разыгрываться сцены пострашнее крестоносных баталий? Раймону не требовалось видеть Святой Гроб или Голгофу. Не предчувствовал ли он, что при его наследнике Раймоне VI Романия должна будет пережить собственную «Голгофу» и обрести свой «Святой Гроб»? Раймон V своей заботой des gai savoi (см. выше), безупречно проводимой политикой и поистине рыцарским правлением оказал романской культуре неоценимую услугу. Лишь одно упустил он. Граф Тулузский далеко отстоял от романского катаризма, который сам провозгласил себя «чистым учением», а всем остальным миром был назван ересью. А между тем «Евангелие утешающих избранников» нуждалось в его защите. Вместо него мистический круглый стол, который объединяло «желание рая», защищали зять Раймона и его внук из дома Тренкавель из Каркассона{35}. В одной сирвенте трубадур Рамон де Мираваль указал своему сочиняющему другу, где и у какого покровителя «благородного искусства» они могут наряду с хорошим приемом рассчитывать также на признание и подарки.
Дубы, священные деревья друидов, покрывали в первобытные времена горную возвышенность, на которой стоит Каркассон, и первоначально город назывался «Скала дуба» (ker — скала, casser — дуб). Вестготский король Аларих велел окружить общину неприступным поясом башен и стен, так что Хлодвиг и Карл Великий напрасно потратили время, осаждая их. Карл Великий только тогда смог вступить в город, когда жители сами добровольно распахнули ворота перед императором. На обрывистом склоне над рекой Одэ, к западу от городских холмов возвышался замок виконтов Каркассона и Безьер. Их родовым прозвищем было Тренкавель (фр. — qui tranche bellement, «тот, кто хорошо рубит»). Из Каркассона Тренкавели управляли богатыми городами Альби, Кастр и Безьер. Им принадлежала вся область от реки Тарн до Средиземного моря и Восточных Пиренеев. Они находились в родстве со знатнейшими княжескими домами Западной Европы: Капетингами во Франции, Плантагенетами в Анжу и Англии, Гогенштауфенами в Швабии, Арагонами в Каталонии и потомками Гурсио в Тулузе., Виконт Раймон Тренкавель, дядя короля Арагонского, подстрекал последнего, а вместе с ним и короля Англии к войне против молодого графа Раймона V Тулузского. Его подданные были возмущены навязанной им братоубийственной войной. Во время похода один горожанин из Безьер подрался с рыцарем. Бароны потребовали от Раймона Тренкавеля выдачи горожанина и получили его. Злополучный обыватель должен был понести позорное наказание, о котором нам, однако, ничего не сообщается. После окончания войны жители города Безьер потребовали у виконта удрвлетворения. Тренкавель ответил, что он хочет устроить третейский суд баронов и нотаблей. В назначенный день (15 октября 1167 года) Тренкавель вместе с епископом и баронами прибыли в церковь Святой Марии Магдалины в Безьер. Там их уже поджидали горожане, скрывая под своими одеждами кольчуги и кинжалы. С угрюмым взором к виконту приблизился горожанин, из-за которого возникла ссора.
При этих словах в руках заговорщиков засверкали кинжалы. Виконт, его юный сын, бароны и епископ были умерщвлены перед алтарем. Примерно через сорок лет церковь Святой Марии Магдалины и ее главный алтарь должны были стать свидетелями еще более ужасной кровавой бани. Словно вулкан треснул Дом Божий, похоронив под своими обломками горящие трупы всех горожан Безьер… Консулы остались правителями города и в течение двух лет не желали слышать о епископе и виконте. Они смеялись над яростью дворянства и отлучением Ватикана. Столь гордым и неистовым было чувство независимости романских городов-республик. * * *Эта гордая независимость позволяет равным образом думать о готском феодализме, римском консулате и иберийском патриархате, к которым она исторически восходит. К 1050 году Тулуза, Барселона, Сарагосса, Нарбонна, Безьер, Каркассон, Монпелье, Ним, Авиньон, Арль, Марсель и Ницца были практически независимыми республиками. В каждом городе имелся свой capitulum (городской совет), выбираемый городской общиной. Формально председателем совета считался некий граф или виконт. На деле же во главе его стояли консулы, советовавшиеся с городом в благополучии и в беде. Ставшая знаменитой выборная формула была изобретена арагонцами. Она произносилась при короновании их короля.
В Нарбонне совместно правили архиепископ, виконт и горожане. В Марселе эти три власти имели в своем управлении собственный городской квартал. В Ницце, Арле и Авиньоне власть находилась в руках городской общины. Эти богатые и гордые горожане имели свои собственные дворцы и защищали с копьем и мечом права города. Если они того желали, то могли сделаться рыцарями и состязаться на турнирах с баронами. Без ущерба для собственного достоинства эти благородные горожане, подобно своим собратьям в греческих городах, вели морскую торговлю. Эта тяга к независимости романских городов происходит из сознания своих наследственных прав и справедливой гордости за приобретенное богатство. Процветало сельское хозяйство — лучшая экономическая основа всех общин и городов. Земля в изобилии приносила пшеницу, просо и завезенную из Азии во время крестовых походов кукурузу. Потоками лились вино и оливковое масло. Торговые договоры способствовали укреплению связей прибрежных городов Романиих Генуей, Пизой, Флоренцией, Неаполем и Сицилией. В портах Марселя сновали итальянские, греческие, левантийские корабли, суда мавров и норманнов. Посредниками между Романией, с одной стороны, и торговыми городами Средиземноморья, с другой, были еврейские маклеры. Евреи могли свободно жить и работать в Ро-мании, обладая даже равными правами с горожанами. Им было позволено занимать общественные должности и учиться в университетах. Романское дворянство защищало их и им покровительствовало. У Тренкавелей из Каркассона евреи были министрами финансов: Натан, Самуил и Моисей Каравита. Некоторые еврейские профессора романских университетов пользовались широкой известностью как на Западе, так и на Востоке. Издалека приходили студенты в Вовэр в Ниме, чтобы послушать раби Авраама. В Нарбонне преподавал раби Салонимо, «сын великого князя и раввина Теодора из дома Давида». Эта династия князей-раввинов называлась «семьей израильских королей Нарбонны», и ее представители утверждали, что их дом является ветвью рода Давида. Их огромные владения находились под особой защитой правителей Нарбонны. Раймон Тренкавель был принесен в жертву стремлению к независимости свободных провансальских городов у главного алтаря церкви Святой Марии Магдалины. Еще не достигший двадцатилетнего возраста каркассонский инфант Рожер-Тайлефер страстно желал отомстить за своего убитого отца{36} и обратился за помощью к своему родственнику, королю Альфонсу Арагонскому. Со своими баронами и каталонскими идальго он выступил в поход против Безьер. После двухгодичной осады город покорился. Рожер-Тайлефер простил убийц своего отца. Один недовольный барон поддразнил его: «Вы продали кровь вашего отца, монсеньор». Удар попал в цель. Однажды ночью, когда простодушные горожане Безьер наслаждались спокойным сном, арагонские войска по приказу юного Тренкавеля захватили город и вырезали в нем все мужское население. Лишь женщины и евреи получили пощаду. На следующее утро виконт и его епископ по имени Бернард принудили жен и дочерей убитых выйти замуж за арагонских убийц и обязали их впредь выплачивать виконту и епископу ежегодную подать в размере трех фунтов перца. Не желая преуменьшить вину молодого Тренкавеля, который правил по-рыцарски, мягко и терпеливо, следует все же сказать, что ответственность за все происшедшее лежит прежде всего на его баронах, епископе и короле Арагонском. Бароны подбили Рожера на кровавую месть, преследуя лишь свою личную выгоду. Епископ не сумел успокоить разбушевавшегося юношу. А король Арагона с помощью Безьер стремился обеспечить себе удобный тыл между принадлежащим ему графством Руссильон и своими владениями в Провансе, тем более что этот город представлял собой выгодный форпост по отношению к Тулузе и Каркассону. Рожер-Тайлефер очень скоро понял это. Но ему удалось устранить вызванную им самим опасность. Он заключил союз с графом Тулузы и попросил руки его дочери Аделаиды. Каркассонский двор был средоточием поэзии и рыцарской учтивости и являлся к тому же самым «целомудренным и грациозным, так как скипетр находился в руках Аделаиды» (Арнаут де Марвейль). Раймон-Рожер, инфант Фуа, двоюродный брат Рожера-Тайлефера из Каркассона, был прозван трубадурами Раймон Друт, что в переводе означает «Раймон Влюбленный». Замок графов Фуа располагался в девственной долине реки Арьеж, которая, беря свое начало в снежных вершинах Андорр и минуя Гаронну, завершала свой путь в глубине исполинских горных массивов Монкальма и пика Святого Варфоломея. Предполагают, что когда-то на скале, где позже возник замок Фуа, находилось святилище иберийского бога солнца Абеллио. Другое предание называет основателями города Фуа фокеян. Во время Галльской войны Фуа был главной ставкой сотиатов, которые в 76 году до Рождества Христова выступили на стороне Сертория против партии Помпея, а через двадцать лет были разгромлены Публием Крассом, полководцем Цезаря{37}. С тех пор Фуа стал римской крепостью, которая в числе многих других обороняла пиренейские горные проходы. При вестготах (414–507) католические епископы, недовольные господством вестготских королей, придерживающихся арианства, призвали на помощь франкского короля Хлодвига. Одного из них, Волусиана, не без оснований подозреваемого в том, что он открыл франкам городские ворота, готы схватили и убили в Фуа. Хподвиг после битвы при Вугле приказал собрать бренные останки Волусиана, который от имени франкского клира был провозглашен его святым мучеником. На том месте, где покоились мощи Волусиана, возник монастырь, а вокруг монастыря на развалинах римского поселения постепенно образовалось село с рыночной площадью, которое Карл Великий превратил в военный опорный пункт в своих действиях против Аквитании на Севере и мавров на Юге. Некогда на утесах Фуа барды, гости вождя готов Аркантуаса, пели кельтские и иберийские героические песни, подыгрывая себе на лирах, изготовленных по греческому образцу. А в двенадцатом столетии романские трубадуры, страдающие от недостатка денег или угнетенные любовной тоской, неизменно встречали там радушный прием. У Рожера-Бернарда Первого, графа Фуа (ум. 1188) и его супруги Цецилии из Каркассона было четверо детей: сын Раймон-Рожер (Раймон Друт трубадуров) и три дочери. Одна из них носила имя своей матери, другую звали Эсклармондой, имя третьей нам неизвестно. Раймон-Рожер сопровождал французского короля Филиппа-Августа и Ричарда Львиное Сердце в Святую Землю. Вернувшись оттуда, он стал обладателем наследства, доставшегося ему от отца, умершего незадолго до начала крестового похода. Его домен представлял собой плодородную равнину, раскинувшуюся от границы Тулузского графства до Пиренеев, орошаемую бушующими горными водопадами Арьежа, Херса и Лассета. Одинокие стада, послушно повинующиеся крикам пастухов, паслись на доступных пиренейских пастбищах. Почти все вассалы графа были «сыновьями Луны», или «сыновьями Белиссены», как они еще назывались. Они возводили свое происхождение к богине луны Белиссене, кельтиберийской Астарте. На своих щитах они носили изображения луны, рыбы и башни, символизирующие соответственно богиню луны, солярного бога и рыцарскую власть. Пьер-Рожер был как раз таким сыном Белиссены. Его замок стоял в Мирпуа (Mirapiscem — «любуйся рыбой»). Из своей «башни» (так назывался его замок) он мог следить за «рыбками», плещущимися в кристально чистых водах Херса, извивавшегося по склонам величественного пика Святого Варфоломея, и наблюдать на востоке «лунный серп», восходящий над лесом Белены. В дохристианские времена его город носил название Beli Cartha («лунный город»). По всей видимости, он был основан финикийцами, добывавшими золото и серебро вблизи Пиренеев. Едва ли имелся в графстве Фуа замок, не принадлежащий сыновьям Белиссены. К ним относились прежде всего бароны де Вердюн, чьи домены, лежащие в горных ущельях, не уступали по размерам их владениям на земле, а по красоте даже превосходили последние. Чудесные известняковые пещеры Орнольяк и Вердун длиной более километра прорезали Арьежские горы, которые на протяжении семи столетий принадлежали господам де Вердюн, Часть долины Арьежа называлась Сабарте (по имени церкви Святого Сабарте, где, по преданию, Богоматерь предсказала Карлу Великому победу над сарацинами). Сабарте охранялась двумя городами, принадлежавшими графам Фуа: Тарасконом, который долгое время был опорным пунктом мавров, отражавших нападения войск Карла Великого, и Аксом, чьи горячие источники были известны своей целебной силой уже финикийским купцам, греческим колонистам и римским завоевателям. С баронами де Вердюн владение Сабарте делили между собой в качестве вассалов дома Фуа бароны де Лордат, Арнав и Рабат. На скалах, достигающих тысячеметровой высоты, подобно орлиным гнездам возвышались замки Лордат, Каламэ и Мирамон. На северной стороне массива Святого Варфоломея, в Ольме (Долине вязов) Пейротта и Перелья воздвигли свои замки Монсегюр, Перелья и Рокафиссада, один укрепленнее другого. Рамон Перелья вместе с графами Фуа был господином Монсегюра. Из этой крепости опальные трубадуры, дамы и рыцари должны были наблюдать предпринятый против них крестовый поход. В ходе него сотни тысяч их братьев, которые не смогли найти себе убежища в надежной крепости, были возведены на костер или замурованы в подземных темницах. Монсегюр в переводе означает «Надежная гора»… Надежней мест, чем Мунсальвеш, Сыновья Белиссены проживали не только в графстве Фуа. В качестве вассалов графов Тулузских и виконтов Каркассона они были рассеяны по всему Лангедоку: в Кастре, Терме, Фанжо, Монреале, Сайссаке и Отполе. Замки господ Сайссак, Каб-Аре и Отполь лежали в непроходимых лесах Черных гор, с вершин которых можно было видеть все пятьдесят башен Каркассонского Ситэ. Эрменгарда из Сайссака (прозванная трубадурами «прекрасной альбигойкой»), Брунисенда из Каб-Аре и Стефания Лоба (Волчица) принадлежали к самым почитаемым дамам Лангедока. Их воспевали и их расположения добивались три барона и два трубадура. Дворянами были Раймон Друт, инфант Фуа, Пейре-Рожер из Мирпуа и Аймерик из Монреаля, одинаково хорошо владевшие копьем и арфой. Пейре Видаль, позже «константинопольский император», и Рамон де Мираваль были трубадурами. Пейре Видаль, «моливший о любви всех знаменитых женщин», не смог устоять и перед Лобой. Но на этот раз он по уши влюбился в свою даму. Лоба же ни разу не прислушалась к вежливым речам и завлекательным песням трубадура. Его роскошные лошади, богатое вооружение, императорский трон и походная кровать также не производили на нее ни малейшего впечатления. Тогда Пейре Видаль попытался еще одним способом привлечь внимание Лобы. Он прикрепил к своим доспехам волчью голову и стал прогуливаться взад и вперед вдоль замка Волчицы. Но это не помогло. Любовь делает изобретательным. Так как маневр с волчьей головой потерпел неудачу, трубадур надел на себя настоящую волчью шкуру и стал беспокоить по ночам пастухов и стада донны Лобы. Однажды ночью его поймали пастухи, которые устроили собачью охоту на дикого волка. Собаки, щелкая зубами, набросились на мнимого Изегрима{39}. С трудом удалось пастухам, которые были немало удивлены, услышав от волка крики о помощи, привести в себя изнемогающего от ран и истекающего кровью трубадура. Они принесли его в замок Лобы. Но это и было нужно хитрому Пейре Видалю, здоровье которого в Каб-Аре пошло на поправку. Мишель де ла Тур не лгал, когда говорил, что все дамы обманывали Пейре Видаля. Лоба изменяла ему с Раймоном Другом, инфантом Фуа. Аймерик, который «прекращал заботы трубадуров хорошим конем, упряжью и одеждой», был господином Монреаля, небольшого города, находящегося на расстоянии половины пути между Каркассоном и Фуа. Он также был «сыном луны». Его сестрой была Геральда, прославленная правительница замка Лавор. Любой трубадур или нищий мог надеяться на гостеприимный прием в ее замке и покидал его, снабженный деньгами на дорогу. «Геральда была благороднейшей и добрейшей среди всех романских дам», — сообщает нам хронист. Во время крестового похода ей пришлось претерпеть ужасную смерть. Как архиеретичка она была брошена в колодец и забита камнями. Лаворский замок… Двор порос травой. Гийо из Провина, шампаньского города, лежащего на юго-востоке от Парижа, был северофранцузским трубадуром. Он много путешествовал по свету и посетил знаменитейшие княжеские дворы Франции, Германии, Аквитании и Романии. В 1184 году в день Святой Троицы мы встречаем его в Майнце на рыцарском празднике, устроенном Фридрихом Барбароссой. Уже будучи пожилым человеком, он написал свою «Библию», в которой сатирически изображались различные стороны его эпохи. В этой поэме Гийо называет своих покровителей: Император Фридрих Барбаросса (l’empereres Ferris), Людовик Седьмой, король Франции (li rois Loeis de France), Генрих Второй, король Англии (li riches rois Henris), Ричард Львиное Сердце (И rois Richarz), Генрих, «молодой король» Англии (li jones rois), Альфонс Второй Арагонский (li rois d’Arragon), Раймон Пятый, граф Тулузы (li cuens Remons de Tolouse). Гийо из Провина поехал по проторенному трубадурами пути в Тулузу. Из этого средоточия придворной поэзии он мог двумя путями добраться до резиденции своего покровителя Альфонса Арагонского. Однажды Гийо, выехав из Тулузы, миновал Фуа, замок инфанта Раймона Друта, и через Сабарте, преодолев горный проход Пюиморэн, достиг арагонской границы. Однако он также мог — и это был более удобный путь — проехать через Каркассон и Перпиньон в Руссильян, а оттуда вдоль побережья — в Барселону или Са-рагоссу. Возможно, что, предприняв свое путешествие, он избрал один путь, а по возвращении обратно — другой. В Каркассоне и Фуа трубадуры чувствовали себя как дома. В Фуа Гийо мог любоваться сестрой Раймона Друта Эсклармондой и воспевать ее красоту. В Каркассоне правила тетка Эсклармонды Аделаида, дочь Раймона Тулузского и Констанции Французской. После смерти супруга Аделаиды Рожера-Тайлефера (1193) владения Тренкавелей были подчинены ее мягкому скипетру. Сего певца зовут Киот, Итак, в качестве первоисточника своего «Парцифаля» Вольфрам фон Эшенбах называет нам произведение провансальца Киота и говорит, что Кристиан де Труа (автор «Perceval le gallois», написанного в 1180 году) «исказил легенду»{40}. «Согласно словам Вольфрама, Гийо, переработавший и дополнивший «Персеваля» Кристиана, считается единственным источником Эшенбаха». Доказано также, что Вольфрам, как он и предполагал, действительно использовал поэму провансальца Киота. Это заключение «подтверждается еще и тем, что только Вольфрам знал и модифицировал цельное содержание легенды». Нам неизвестны точные даты жизни и смерти Вольфрама. Поскольку «Парцифаль» появился в первом десятилетии тринадцатого столетия, предполагают, что рождение поэта приходится на третью четверть двенадцатого века. Что же касается времени его смерти, то уже Пютерих фон Райхертсхаузен (1400–1469), автор рыцарской поэмы, т. н. «Письмо чести», сообщает нам, что год смерти Вольфрама уже нельзя больше разобрать на его надгробном камне «в кафедральном соборе Богоматери нашей на рыночной площади Эшенбах» («время его смерти нам совсем неизвестно»). Вольфрам был беден и путешествовал, как странствующий рыцарь, «от двора ко двору». Он не умел ни читать, ни писать{41}. Читать я вовсе не умею Он должен был, таким образом, просить, чтобы ему прочитали вслух «Парцифаля» Гийо из Провина, в том случае, если эта поэма вообще была изложена письменно. В общении со светскими стихотворцами, воспевавшими любовь, Вольфрам выучил французский язык. Кажется, что он весьма этим гордился, поскольку в написанном им «Парцифале» поэт не упускает возможности время от времени похвастаться своим знанием французского. Но все же он не был застрахован от ошибок и недоразумений. Очень часто Вольфрам искажал или вовсе неправильно передавал имена и названия местностей, первоначальные варианты которых известны нам по французским эпосам о Граале и Парцифале. Мы перестанем удивляться подобным ошибкам, если допустим, что Вольфрам был вынужден на слух воспринимать богатый персонажами материал. Однако его изложение в отдельных случаях обнаруживает такую точность и так ясно воссоздает исторические события, что версия о наличии рассказывающего посредника становится весьма сомнительной. Это обстоятельство можно объяснить лишь с помощью предположения о том, что Вольфрам и Киот знали друг друга. Немецкий певец узнал содержание непосредственно от автора. Возможно, что Вольфрам и Гийо встретились друг с другом в Майнце на рыцарском празднике, устроенном Фридрихом Барбароссой, или познакомились в Вартбурге при дворе ландграфа Германа Тюрингенского. Вартбург был известен как наиболее часто посещаемый поэтами «двор любви» Германии. Здесь в 1203 году останавливался и Вольфрам фон Эшенбах. Между миннезингерами Германии, Франции и Романии существовали удивительно оживленные связи. В качестве примера можно привести Бертрана де Борна, который под именем Sembelis прославлял принцессу Лаину Плантагенет, сестру Ричарда Львиное Сердце. Он не прерывал связи со своей госпожой также и в то время, когда она стала герцогиней Саксонии, если, конечно, найденные в Германии поэмы Бертрана де Борна, написанные в честь Лаины на провансальском языке, являются тому достаточным доказательством. Предполагали даже, что Фридрих Барбаросса, бывший с 1178 года господином арелатской империи, сочинял стихи на провансальском, в которых восхвалялся двор барона из Кастеллане, города, стоящего на реке Вердон в Провансе. Эти факты, насколько это возможно, позволяют нам увидеть, как много нитей связывало поэтов-рыцарей Севера и Юга друг с другом и как плодотворно сказывалось на них обоюдное творческое воздействие. Если Вольфраму все же удалось написать «подлинную легенду» независимо от того, была ли она передана ему самим Гийо или рассказана читателем уже записанного произведения провансальца, то в таком случае можно понять и простить поэту путаницу между «Provins» и «Provence». Наряду с описанной уже любовной поэзией существовал и особый род «поэзии по случаю». Очень часто трубадуры получали от своих покровителей заказы на написание стихов, прославляющих дом благодетеля. Бывало также, что высокий друг изъявлял желание в стихотворной форме услышать от своих гостей благодарность за поддержку и гостеприимство. Вполне вероятно, что Гийо из Провина в не дошедшем до нас «Парцифале» прославил своего покровителя Раймона Тулузского, его дочь Аделаиду из Каркассона, его племянницу Эсклармонду из Фуа и короля Арагонского, двоюродного брата Рожера-Тайлефера. Это и на самом деле было так! Короля Альфонса Арагонского называли также Альфонсом Непорочным, что на французском языке звучит как Alfonse le Chaste. Его мы узнаем в вольфрамовском Кастисе, возлюбленном Герцелойды{42}. В образе вольфрамовской Герцелойды, матери Парцифаля, Гийо из Провина прославил виконтессу Аделаиду из Каркассона, даму Альфонса Непорочного. Сыном Аделаиды был Тренкавель, как уже говорилось, «тот, кто хорошо рубит». Вольфрам фон Эшенбах перевел имя Парцифаля как «Разрубленный пополам». Прототипом для вольфрамовского Парцифаля послужил Раймон-Рожер Тренкавель. Это без каких-либо натяжек можно вывести из следующего. «Двор любви» виконтессы КаркассонскОй пользовался широкой известностью во всей Романии. Сама же она была самой знаменитой дамой от Барселоны до Флоренции и Парижа. Ее двор являлся средоточием героизма, поэзии, рыцарской учтивости и в то же время «целомудренности и грациозности, поскольку скипетр находился в руках Аделаиды», — говорит трубадур Арнаут де Марвейль. Этот трубадур, бывший некогда клириком в Перигё, в один прекрасный день повесил свою монашескую рясу на гвоздь и с тех пор переезжал от замка к замку, распевая песни, сложенные им за монастырскими стенами. Так приехал он на Каркассонский двор и увидел Аделаиду. С этого момента сердце поэта принадлежало только ей. Но высокое положение инфанты Тулузской, внучки французского короля, пугало простого и скромного арфиста.
У Арнаута де Марвейля имелись все причины, чтобы тосковать от любви к Аделаиде, поскольку ее руки добивался Альфонс Непорочный, король Арагона и Каталонии. Но последний не желал любви. Его стремления были весьма прозаичны. Являясь вместе с графами Тулузскими сеньором виконтства Каркассон и Безьер, он надеялся, женившись на вдове своего двоюродного брата Рожера-Тайлефера, умершего в 1193 году, обеспечить себе верховное сеньориальное господство, если не единоличную власть. Альфонс Непорочный добивался не «миннэ», которая исключала брак, а брака, который не имел с «миннэ» ничего общего. Он умер, таким образом, для целомудренности и мира любви. Он принадлежал лишь рыцарско-профанскому миру, являлся лишь претендентом на корону и брачное ложе, но не рыцарем leys d’amors, принесенных соколом с неба. Арнаут де Марвейль был также недостоин империи любви. Когда однажды он получил поцелуй от Аделаиды, то предательски поведал об этой милости в двух своих стихотворениях. Только это одно являлось уже тяжелым преступлением против законов романского мира любви. Кроме того, этот поцелуй пробудил в нем чувство, которое по своему характеру противоречило чистой любви. О, как мне нравится в апреле или мае, Вследствие этого бедный трубадур Арнаут де Марвейль получил отставку у виконтессы Аделаиды и вынужден был удалиться. Он направил свои стопы ко двору Вильгельма VIII из Монпелье (Гийо из Провина называет его в числе своих покровителей под именем Гильома).
Арнаут де Марвейль прославлял только Аделаиду. Он умер от любовной страсти. Любовная скорбь была смертельной болезнью трубадуров. Единственным лекарством против нее была любовь. Поскольку замок Аделаиды Пуавер, где находился ее двор, лежал посреди роскошных пиренейских лесов, он ежегодно притягивал к себе толпы принцев и трубадуров. Хозяйке замка поверялись деликатнейшие любовные проблемы. Если Ричард Львиное Сердце, Альфонс Арагонский или Раймон Друт имели на своей совести преступления против законов «миннэ», Аделаида должна была вершить суд. Ее приговор был неоспорим, и каждый покорялся ему. Она воистину была самой благородной, целомудренной и грациозной дамой Ро-мании. Когда в Пуавере такие трубадуры, как, например, Пейре из Оверни, отведав руссильонского вина, «находили при свете факелов смешливую песенку» (см. выше) или когда на поляне и в лесу раздавались звуки рогов, шутки и песни, виконтесса оставалась одна в своей уютной комнатке и молилась. Аделаида была набожной женщиной. Но молилась она не нашему Богу. Ее «Христос» не умер на кресте. Грозным богом Израиля был для нее Люцифер. Виконтесса была еретичкой. Но не только это заставляло ее отвергать любовные притязания принцев и трубадуров. Ересь отнюдь не мешала ей понимать последних. Нет, большинство из них были сами заражены ересью, все катары (еретики) были трубадурами{43} и почти все дамы Романии при появлении первых морщин становились еретичками. Никогда не случалось только, чтобы виконтесса Каркассона удалялась от суеты своего двора в Пуавере. В течение своей жизни Аделаида испытала много горя. Ее супруг Тренкавель, жестоко отомстив горожанам Безьер, взял на себя тяжелую вину, за которую он должен теперь отвечать перед Богом. Тренкавели были рыцарственные, но буйные смельчаки. Она тревожилась за будущие безрассудства своего единственного сына Раймона-Рожера. За его воспитанием Аделаида следила вместе с еретиком Бертраном из Сайссака, которого ее муж Рожер-Тайлефер назначил в своем завещании опекуном еще несовершеннолетнего сына Тренкавелей. Раймон-Рожер должен был стать не светским рыцарем, не рыцарем любви, но рыцарем высочайшей любви. Он должен был быть достоин круглого стола, который в Монсегюре, пиренейской крепости, стоящей на обрывистой и негостеприимной скале, охранял чистое учение утешенных «избранников». Твое прозванье — Парцифаль! Парцифаль должен был стать достоин рыцарства Грааля! Возник на бархате зеленом Часть вторая ГРААЛЬ
В средневековом «царстве любви» незримо царил Амур-Эрот. Он больше не был крылатым мальчиком, как представляла его античность. Однажды трубадур Пейре Видаль по пути из Кастельнаудери в Мурет, ко двору Раймона V Тулузского, силой своего поэтического воображения увидел воочию «бога любви». «Это было весной, когда расцветают цветы, зеленеют леса и звонко поют птицы. И увидел я, что ко мне подъезжает рыцарь на коне, могучий и прекрасный. На загорелое лицо его спадали пряди светлых волос, ясные глаза сверкали, улыбка открывала жемчужные зубы. Один сапог его был украшен изумрудами и сапфирами, на другом не было ничего{44}. Одеяние рыцаря было расшито розами и фиалками, а на голове был венок из цветов календулы. Его иноходец был наполовину черен, словно ночь, наполовину бел, как слоновая кость. Нагрудник коня был сделан из яшмы, стремена — из халцедона. На уздечке блистали два камня, столь прекрасные и ценные, каких никогда не было у Дария, царя персов. Карбункул на поводьях сиял, как солнце. Рядом с рыцарем ехала дама, в тысячу раз превосходящая его красотой. Ее кожа была, как снег, бела. Румянец ее щек был подобен цвету розовых бутонов. Волосы сверкали на солнце, как золото. За дамой следовали оруженосец и фрейлина. Оруженосец вез лук из слоновой кости и три стрелы за поясом: одну из золота, одну из стали и одну — из свинца. Что до фрейлины, я увидел только, как ее волосы спадают на седло, чепрак и голову лошади. Рыцарь и дама начали песню, которую звонко подхватили птицы. — Дозволь нам отдохнуть у источника на этой поляне, — промолвила дама. — Мне не нравятся замки. — Сударыня, — отвечал я ей, — здесь уютно в тени деревьев, и чистый ручей струится по камням. — Пейре, — сказал мне рыцарь, — знай же, мне имя — Любовь, дама эта — Благосклонность, а наших спутников зовут Стыдливость и Верность». Вольфрам фон Эшенбах начинает «Парцифаля» длинным вступлением о неверности и верности. Сомнение в Боге мешает спасению души, но рыцарственный дух, «соединенный с отвагой», может заслужить спасение. Тот же, кто был неверен и не имел ничего святого, неминуемо попадает в ад. Где в сердце властвует сомненье, Вольфраму фон Эшенбаху не нужен был опыт миннезингеров того времени, чтобы показать, какие роли отводятся мужчине и женщине в любовных отношениях. Мы знаем, как открывалось средневековое «царство любви». Там не пользовалось особым уважением иудейское представление о сотворении человека, по которому Яхве создал вначале мужчину, Адама, ставшего для Евы отцом и матерью. В средневековых легендах Адам и Ева — два ангела, заключенные Люцифером в земное бытие. Как в раю, так и на земле Ева равна Адаму. Она не жена «плоть от плоти» его, но «прекрасная госпожа», domina, поэтому романские народы, как потомки иберов и кельтов, видели в женщине нечто пророческое и божественное. Иудейская женщина настолько была подчинена мужчине, что носила сначала имя отца, потом имя мужа, но не считалась достойной даже собственного имени. В Лангедоке, особенно в Пиренеях, где традиции иберов и кельтов сохранились лучше всего, древнейшие роды носили имена женщин. Там говорили: потомки Белиссены, Империи, Оливерии. Атрибутами женщины были не веретено и колыбель, но перо и скипетр. Трубадуры были поэтами. Поэты всегда томятся невыразимой тоской. И если их томление не находит исхода в любви, они обращаются на путь, где есть «утешитель», на путь, который явил нам Христос в Евангелии от Иоанна. Трубадуры были поэтами в стране, где солнце сияет ярче, чем у нас, где звезды так близки к земле и где так легко молиться. Молящиеся поэты переставали быть безрассудными сочинителями баллад. С этого момента они становились «чистыми» — катарами! Катары, как мы увидим на одном примере, переносили законы любви (leys d’amors) в область духа. Вместо женской благосклонности они искали освобождения духа. Вместо дамы сердца — «утешителя». Молитвы и поэзия сливались воедино. В то время это было естественно, потому что люди воспринимали дар поэта и пророческий дар (то, что сегодня мы называем интуицией и вдохновением) одинаково. Молитва катара, трубадура, обращенная к Богу, была только частью гимна к светлому божеству, который каждый, слышал в великолепии красок и звуков своей родины. Они оставались поэтами. Поэтому, как все поэты, чувствуя себя чужими в мире земном, они стремились в мир иной, где человек когда-то был ангелом, где и есть их истинная родина, «Дворец песен», как в древности вавилоняне называли светлое царство Ахурамазды. Катары были настолько уверены в лучшей жизни после смерти, что полностью презирали эту жизнь, смотря на нее, как на время, данное, чтобы подготовить себя к жизни истинной, ожидающей их в надзвездном мире. Поэты и священники любили горы. Их вершины устремляются к небесам, а пропасти теряются в первозданном мраке. Нигде человек не бывает так близок к Богу. Там, наверху, и стихи, и молитвы исходят из глубин сердца. Во всех мифах именно в горах открывается божественная сущность героя. На горе Эта Геракл был взят в сонм олимпийских богов. На горе Фавор произошло преображение Иисуса. В то время еще не были разрушены мосты, соединяющие Восток и Запад через Средиземное море. Их первый пролет тянулся от великих гор Азии к Парнасу, священному для Греции, а второй — оттуда к Пиренеям, где греки помещали сад Гесперид — землю чистых душ[6]. На Востоке зародилось человечество. С Востока пришли к нам великие легенды, последняя из которых — «благая весть». На Востоке встает солнце… * * *Когда солнце через пелену облаков пробивается к людям, в душах пробуждается желание идти за ним. Но куда? Наверное, человек — это падшее божество, которое стремится назад к небесам. И, может быть, томление поэтов — на самом деле тоска по утраченному раю, где человек был подобием Бога, а не карикатурой на него. Когда солнце встает над Провансом и Лангедоком, тучи, покрывающие Пиренеи, становятся золотыми. Спокойно и величественно выступают горы на лазурном небе. На долину Прованса опускается ночь, а они еще долго преображены лучами заходящего солнца. «Горой Преображения», Фавором называют жители Прованса пик Святого Варфоломея, красивейшую из пиренейских вершин. Пиренейский Фавор расположен между «Olmus», Долиной вязов, и «Sabarthus», долиной Сабарте, где Богоматерь обещала Карлу Великому победу над сарацинами. Уединенная каменистая дорога ведет от безмятежного Ульма наверх, к пропастям и пещерам Сабарте: это путь катаров, путь чистых. В самом сердце хребта возвышается дикая гора, настолько высокая, что сверкающие облака окутывают ее вершину. Отвесные скалы спускаются вниз, к стенам замка Монсегюр. Когда я однажды поднимался к Фавору Путем катаров{45}, я встретил старого пастуха, и он рассказал мне эту легенду:
Они, оставив здесь Грааль, Путь чистых ведет от Ольма вдоль замка Монсегюр, через вершину Фавора к пещерам Сабарте. Здесь катары были дома. Удалившись от мира, они обращались мыслями к небесной, любви. Да, так любите на земле, Катары покидали горы только для того, чтобы дать умирающему «последнее утешение» либо исполнять старинные легенды для рыцарей и благородных дам на празднике в каком-нибудь замке{46}. В длинных черных одеждах, с персидской тиарой на голове, они были похожи на брахманов или учеников Заратустры. Когда один из них умирал, они доставали свиток с Евангелием от Иоанна, который носили на груди, и читали:
И катары возвращались в свои пещеры: в «Кафедральный собор», в «Глейзу» (Церковь){47}, «Пещеру отшельника» и «Пещеру источника»… Вела к источнику Сальваш В бесчисленных пещерах Сабарте могло бы поселиться целое племя троглодитов. Помимо больших пещер, уходящих в глубь гор на многие мили, здесь огромное множество гротов и углублений между выступами скал. И сейчас еще в этих гротах и нишах можно увидеть места, где когда-то были балки. Тут стояли жилища, от которых огонь и время оставили только почерневшие известняковые стены, несколько полусгнивших или обугленных поленьев, да еще местами, где огонь и сила разрушения оказались бессильны, — рисунок или надпись: дерево, «мировое древо» или «древо жизни», растущее в центре рая, о котором знали уже греки. Геспериды охраняют золотые яблоки; лодка, парус у которой — солнце; рыба, символ благого божества; голубь, воплощение Святого Духа; имя Христа латинскими или греческими буквами; слово «Гефсиман»; красиво прочерченная надпись GTS, по всей вероятности, сокращенное «Гефсиманский сад», где Иисус был предан страже; фрагмент предложения, в котором возможно прочитать только слова «Santa Gleyiza». У двух гротов сохранились названия: «Грот Иисуса» и «Грот мертвеца». Перед первым еще остались следы маленького сада и небольшая терраса, на которой живший здесь отшельник мог размышлять: Увы, что делаешь ты, мир? Катары ощущали себя чужими на нашей планете. Они сравнивали ее с тюрьмой, которую неумелый зодчий построил из низкосортного камня. Истинной родиной казался им надзвездный мир. Его создавал Дух, говорили они. Он есть любовь — в нем нет ненависти и войны. Он есть жизнь — в нем нет болезней, нет смерти… Бог! В начале был Дух. У него было Слово. Оба были Бог. Как в нас самих борются две природы, могучий дух и немощная плоть, так и во Вселенной сталкиваются два начала: Бытие и Небытие, Добро и Зло. Добро — это Бог. Зло — Люцифер, дух отрицания. Слово — творец иного мира, за золотыми облаками, над звездами. Этот мир принадлежит Люциферу. Творец его — Слово, Люцифер — всего лишь неумелый подмастерье, придавший миру форму. Мы, люди, падшие ангелы, соединяем в себе два начала. Душа человека создана Божественным Словом, тело — Люцифером. Наша душа причастна Богу, вечна. Наше тело не от Бога и подвержено смерти. Душа, созданная Богом, за неповиновение ему брошена на землю и должна оставаться на ней, стремясь соединиться с Богом, пока не познает всю ничтожность земной жизни. Возвращение к Богу, воссоединение с Духом может начаться уже на земле. Но и потом души должны перелетать со звезды на звезду, пока перед ними не откроются врата их подлинной родины{48}. За звездами для светлых душ чертог Кант в «Естественной истории неба» писал: «Кто осмелился бы дать ответ на вопрос: распространяет ли грех свою власть на другие сферы мироздания или там царит одна только добродетель? Не принадлежит ли наша несчастная способность впадать в грех к некой области между мудростью и безрассудством? Кто знает, вдруг обитатели иного мира не настолько благородны и мудры, чтобы быть снисходительными к неразумию, вовлекающему в грех, слишком прочно привязаны к материи и обладают слишком малыми возможностями духа, чтобы суметь нести ответственность за свои поступки перед высшим судом справедливости?» Для «чистых» земля была адом. Необходимость жить среди греха и лжи казалась им более жестоким наказанием, чем если бы хвостатые черти били, терзали и мучили их в замерзшем озере или раскаленной печи. «Земля — преисподняя», — говорили катары. Со смертью они сбрасывали с себя грязную, надоевшую одежду, как бабочка сбрасывает кокон, чтобы вылететь навстречу весне. Psyche называли греки душу — «бабочка»[7]. Но что происходит с душами, которые никуда не стремятся, которые чувствуют себя дома в своем теле? Бог, как любящий отец, ни в чем не может отказать своим детям. Эти души могут оставаться на земле столько, сколько захотят, переходя из одного тела в другое, пока наконец не ощутят страстной тоски по звездам. Ломбриве — величайшая пещера Сабарте. С незапамятных времен, в сумрак которых едва ли проникнет наша наука, здесь был храм иберского бога солнца Илхомбера. Пастухи и крестьяне ближайшей деревушки Орнольяк до сих пор называют ее «Церковью». Орнольяк расположен в долине, через которую «путь чистых» поднимался на вершину Фавора. Над деревней возвышается чудесная церквушка романского стиля, и статуя Богоматери, вырезанная из дерева неумелой рукой, охраняет поля и виноградники. На ее руках младенец Иисус, держащий колос. Крутая тропа ведет в гигантское преддверие «церкви» Ломбриве. Здесь вход в заколдованное подземное царство, в котором история и легенды прячутся от мира, ставшего столь рассудительным. Путь в сердце горы проходит мимо сталактитов из белого известняка, мимо пластов шоколадного мрамора и сверкающих кристаллов. Огромный зал, 80 метров в высоту, был церковью еретиков. Земля, творение Люцифера, должна была отдать им прекраснейшее место, чтобы они могли почувствовать красоту, которую истинный Творец создал в надзвездном мире. Рука еретика начертила на мраморной стене Солнце, Луну и звезды, чтобы не забыть Бога, который есть свет и любовь. И с потолка пещеры, теряющегося в вечной мгле, непрерывно и ритмично капает вода. До сих пор здесь остались церковные сидения из сталагмитов для всех, кто пожелает проникнуть в этот волшебный мир. Когда снаружи, в долине Ариежа, бушует гроза, вся гора гудит от потоков воды, которые с грохотом пробивают себе дорогу через пористый известняк. Когда бог бури и смерти Люцифер бросает огненные молнии на трепещущий мир, гора колеблется до самого основания. Из церкви еретиков каменная лестница ведет в другую часть пещеры Ломбриве, и примерно через час ходьбы дорога обрывается в глубокую пропасть. У ее края лежит огромный камень, на котором вырос сталагмит в форме палицы. Жители Орнольяка называют его «Надгробием Геракла». ЗОЛОТОЕ РУНО
Силий Италик, римский поэт и историк I в. н. э., переложил великолепными гекзаметрами легенду, по которой камень в пещере Ломбриве с наплывом в виде палицы был назван «Надгробием Геракла». Когда Геракл похитил с острова Эрифеи стадо Гериона, он был радушно принят в доме Бебрика, царя бебриков. Он соблазнил его дочь Пирену и оставил ее. Боясь гнева отца и тоскуя по любимому, Пирена убежала из дому. Дикие звери набросились на беззащитную девушку. В отчаянии громко звала она Геракла на помощь. Он подоспел слишком поздно и нашел ее мертвой. От его плача содрогнулись горы, и по всем утесам и пещерам пронеслось имя Пирены, которое он громко выкрикивал, рыдая. Оплакав, он похоронил ее. Имя Пирены никогда не будет забыто, потому что на все века ее именем названы горы. Три величественных сталагмита, возвышающиеся над таинственным озером в центре пещеры Ломбриве, названы «Трон царя бебриков», «Гробница Бебрика» и «Гробница Пирены». На «Гробницу Пирены» непрестанно струится вода, как будто гора оплакивает несчастную царскую дочь. А рядом со стен и потолка пещеры свисают окаменевшие одежды, которые она больше всего любила носить при жизни. Такова легенда о Геракле, Бебрике и Пирене. Латинские авторы (в их числе Плиний) сообщают, что первыми жителями Испании были персы и иберы и что испанские иберы пришли с Кавказа. Греческий историк Дион Кассий пишет, что бебрики населяли Восточные Пиренеи, а грамматик Стефан Византийский описывает два племени бебриков, одно из которых жило на Черном море, а другое — в Пиренеях, недалеко от «бебрийского моря». Византийский же писатель Зонара назвал это место «Львиный залив». Дасквезий, комментатор Силия, утверждает, что слово «бебрик» употреблялось только как прилагательное, а царя бебриков звали Амик, и что один из царей вызывал на кулачный бой всех чужестранцев и убивал их, пока сам не был убит Поллуксом во время похода аргонавтов. Такие же сведения мы находим у римского историка Феста Авиена{49}. Сопоставим эти сведения и дополним их. В третьем тысячелетии иберы, двигаясь с Кавказа на запад вместе с финикийцами, персами, мидийцами, гетулами (ныне — североафриканские берберы), армянами и халдеями, поселились на «иберском» полуострове. С ними пришли и бебрики, которые жили у горы Монткальм и пика Святого Варфоломея, в той части Пиреней, которая во времена римского владычества входила в Цизальпинскую Галлию. Благодаря греческому географу Страбону мы знаем, что на земле испанских иберов находились месторождения золота. Добыча золота привлекала финикийцев (около 1200 г. до н. э.) и фокейцев (около 600 г. до н. э.). В начале третьего тысячелетия во время передвижения семитских народов финикийцы поселились в Сирии. Вели они из Тира, их крупнейшего города, морскую торговлю с жителями испанского и французского побережья или их соединила с Иберией сухопутная дорога, нам неизвестно. Но есть свидетельства, что они из Малой Азии осуществляли морскую торговлю со всеми регионами Средиземноморья и что из Пиреней они вывозили на кораблях много ценных металлов. Из «Истории» Геродота мы знаем, что в Тире был храм Мелькарта («Царя»), что Мелькарт, отождествляемый с Гераклом, был покровителем морских путешествий и колоний на Западе, на краю света{50}. Ветхий Завет называет бога, почитаемого в Тире, Ваал («Господин»). Первоначально Ваал был божеством, которого в каждой местности называли по-своему, отличая от Ваалов других областей: Ваал-Лебанон, Ваал-Шермон и т. д. Со временем Ваал-Мелькарт стал верховным божеством финикийцев и ханаанеян, всемогущим богом, олицетворением мужского, производящего начала, воплощенного в солнечном свете. Второй его сущностью (по мифам, его супругой) была Астарта, женское, воспринимающее, рождающее начало, воплощенное в Луне. Мелькарт в древнейшее время был местным божеством жителей Тира, финикийским Гераклом. В надписи, найденной на Мальте, Геракл назван «вождем предков». Поэтому мы можем предположить, что Мелькарт был одним из финикийских вождей. Привел ли этот Геракл-Мелькарт свой народ с Кавказа в Тир или дальше из Тира на запад, установить невозможно, да и не так уж существенно. Важнее другое: в любом случае иберы знали Геракла- Мелькарта, который либо привел сюда их предков, либо культ которого они переняли из Тира. Пещера Ломбриве, где находится легендарное надгробие, была посвящена Илхомберу, иберскому Гераклу{51}. Это иберское, точнее, бебрийское божество, которое также называли Бел (=Ваал, Баал), под влиянием греческих колонистов превратилось в А-бел-лиона (=Аполлон). Фокея — греческая колония на Ионийском побережье Малой Азии. Ее жители вместе с греками из Фокиды и Аргоса предпринимали путешествия в Иберию. Около 600 г. до н. э. им удалось поколебать господство финикийцев и забрать в свои руки добычу металлов в Пиренеях. Когда в 546 г. Фокея была захвачена персидским царем Гарпагом, ее жители оставили свой город и уплыли в западные колонии: Масслию (Марсель), Порт-Венерис (Порт-Вендрес в Руссильоне), Кербер (мыс СегЬёге на испанской границе) и современное Монако, где стоит храм Геракла — Монойкия. Миф о походе аргонавтов — архаический образец греческого мифа о путешествиях. Это не только древнейшее из дошедших до нас отражение в мифе греческой колонизации и культа предков. (Уже у Гомера этот миф упоминается как всем известный.) Он дает нам интереснейшие сведения о географических представлениях ахейской Греции. Из Аргоса пятнадцать вождей должны были переплыть море на 50-весельном корабле «Арго», чтобы найти золотое руно. Наиболее известны среди них Геракл, Орфей, Ясон, Кастор и Полидевк. После долгих странствий и приключений (в том числе бой с царем бебриков Амиком) они достигли Колхиды. Здесь с помощью Медеи, колдуньи и пророчицы, они похитили золотое руно со священного дуба, на ветвях которого оно висело. Античным авторам, помимо малоазиатских, были известны и пиренейские бебрики, и они включали их в миф о походе аргонавтов. Но что же значила цель этого похода, золотое руно? Перенесемся через столетия и представим себя в средневековье — времени, когда древние цивилизации Средиземноморья погибли, и под влиянием народов Севера пробуждалась духовная жизнь. Когда бесчисленные алхимики смешивали в ретортах таинственные составы и читали мистические заклинания, — что искали они? Философский камень, или, как его называли по-другому, золотое руно! Что такое Грааль, который искал Парцифаль у Вольфрама фон Эшенбаха? Небесный камень, lapsit exillis («Lapis ex coelis»), ключ к раю{52}! Для кого-то все радости рая заключаются в обладании тем, что в этом мире считается прекрасным и драгоценным. Для других рай возможен только по ту сторону бытия. Были алхимики, которые искали философский камень, чтобы превращать обыкновенные металлы в золото. Другие же, мудрые и благородные, переносили загадочные формулы в область духа. Низшими металлами были для них человеческие пороки, которые они хотели облагородить. Вместо богатства они искали Бога. У Нонна в «Аргонавтике» путешественники видят, как над горой, где стоит мировая ель, в воздухе парит чаша. Аргонавты нашли золотое руно. Обретя его, они, как полубоги, были взяты на небо. Обожествленный Геракл стал созвездием между Лирой и Короной. Кастор и Полидевк ожидают, что кормчий отвезет их в самую высь небес. А «Арго», корабль, который перевез бесценную святыню через море, был превращен в сверкающий Млечный Путь южного неба, где рядом с Крестом, Треугольником и Жертвенником напоминает нам о светлой сущности Бога. Треугольник олицетворяет Божественное триединство, Крест — жертву во имя любви. А Жертвенник — это стол, на котором в Святой четверг стояла Чаша возрождения.
Алхимики искали золото, «властелина мира», — алхимики искали Бога. Астрологи пытались прочесть судьбу по звездам — и три «астролога»{53} пошли за звездой Вифлеема к пещере, где Божественное Слово воплотилось в человеке{54}. Языческому мудрецу было суждено открыть по звездам тайну Святого Грааля. Язычник Флегетан узнал, С утра до вечера вращается небесный свод, проходят свой круг Луна и звезды, встает Солнце, лик Гелиоса-Аполлона. Аполлон был богом солнечного света, который весной освобождает землю от оков зимы, и также «спасителем», очищающим умершего грешника и ведущим его к освобождению, ко входу в «поля блаженных». Это бог, искупающий вину, приносящий удачу и помощь. На ладье, запряженной лебедями, отправляется он в край гипербореев. Его лебеди, облака, поют, как струи дождя{55}. Шелест дождя — это пение природы. Поэтому Аполлон — предводитель муз, его атрибут — лира, и ему же посвящен лавр, из ветвей которого поэты сплетали венки. Когда лучи весеннего солнца согревают землю, от земли к небу поднимается пар. Издревле в дыме и испарениях видели знамения и оракулы, потому что по ним можно было предсказывать погоду. Так Аполлон стал богом пророческого дара. Поэзия и прорицание мыслились как одно. Ему посвятил гимн Алкей из Митилены, современник Сапфо.
На Cista mistica, вазе, где хранились предметы культа Аполлона, которая была найдена через два столетия в Палестине в Сабинерских горах, изображена сцена боя аргонавтов с царем бебриков. Теперь нам понятны связи между аргонавтами, Аполлоном, золотым руном, царем Амиком и его священной чашей. ЧАША ГВИОНА
Жители города Кротона, основанного ахейцами на юговосточном побережье Италии, где жил и учил Пифагор, утверждали, что этот мудрец был сам Аполлон, пришедший из страны гипербореев, чтобы открыть людям новое учение. Он умер как мученик. Есть несколько свидетельств, что Пифагора считали сыном Аполлона и Пифии. Ее муж, ремесленник Мнесарх, был только «мнимым», земным отцом Пифагора. Пифагор учил, что душа бессмертна и заточена в теле и до божественного перевоплощения должна менять тела, вселяясь даже в животных. Цицерон утверждал, что точно знает, будто Пифагор перенял свое учение о бессмертии души и перевоплощениях от друидов, мудрецов Галлии. Учение друидов было не столько религией, сколько философией, соединявшей в себе геологию, астрономию, естественные науки, медицину и право. То, что Цезарь называл «учением», было синтезом этих областей знания, проявляющим удивительное сходство как с философией пифагорейцев, так и с индийскими и вавилонскими теогониями. Друиды{56} учили, что земля и все, на ней рожденное, созданы богом смерти Диспатером. Душа же божественна по своей природе, а значит, бессмертна и должна странствовать из тела в тело, чтобы, очистившись от материи, она могла перейти в иной мир, в царство духа. Их верховным богом был Белен, или Белис, как его называл греческий историк Геродиан. Белис — это Аполлон — Абеллион, бог света. Диспатер — латинизированное имя Плутона, бога подземного мира, царящего над бледными тенями, сторожащего сокровища в недрах земли[9]. Земные богатства друиды презирали. По их приказу золото Толозы, сокровищницы дельфийского храма, было брошено в одно из пиренейских озер. Мы знаем, что путь «чистых» шел от Монсегюра к вершине Фавора и оттуда к пещерам у селенья Орнольяк. На пути к Фавору лежит среди отвесных скал глубокое озеро. «Озером форелей», или «Озером скверны», называют его крестьяне деревушки Монсегюр, чьи дома, словно пчелы, облепили окрестные скалы. — Не бросайте в озеро камни, потому что в нем колыбель грома. Если бросите камень, поднимется гроза и молния поразит вас. В этом озере обитает дьявол. Поэтому там не могут жить рыбы… — Почему же вы зовете его «Озером форелей»? — спрашивал я крестьян. — Вернее было бы говорить «Озеро друидов». Потому что друиды бросили туда золото, серебро и драгоценные камни. Это было время, когда Спаситель еще не пришел в наш мир. Повсюду умирали люди от неизвестной болезни. Кто утром был здоров и полон сил, вечером был мертв. Никогда раньше подобная болезнь не свирепствовала в этих местах. Тогда всезнающие друиды посоветовали отчаявшимся людям бросить в это озеро все золото и серебро в жертву подземному богу, властелину над смертью и болезнями. На телегах с каменными колесами привозили люди свои богатства к озеру и бросали в его неизмеримую глубину. Потом друиды поставили магический круг над скверной. Тогда умерли все рыбы, жившие в озере, тогда его зеленые воды стали черными. В тот же миг люди избавились от страшной болезни. А все это золото и серебро будет принадлежать тому, кто сможет пройти через волшебный круг. Но как только он прикоснется к сокровищам, умрет от той же болезни, которая губила людей, пока они не бросили золото в озеро. Птолемей Александрийский сообщает, что бебрики в Пиренеях принадлежали к племенам тектосагов. Обратимся к истории. Во время правления Тарквиния Древнего на рубеже VI–VII вв. до н. э. Кельтику (как Геродот, Аристотель и Гиппарх называли область Галлии, ограниченную Гаронной, Средиземным морем, Альпами и океаном) населяли кельтиберы, народ, в котором смешались исконные иберы и пришедшие на эти земли кельты. Одним из кельтиберийских племен были тектосаги. Их главными городами были Толоза (Тулуза) и Нарбонн на побережье. В 163 г. от основания Рима (590 год до н. э.) часть тектосагов ушла к Герцинскому лесу. Чтобы проехать его в одном направлении, понадобилось бы 9 дней, а в другом — 60. Он простирается от подножия Альп к Судетам и Карпатам, к Шварцвальду и Оденвальду, к Шпессарту и Роне. Эти племена поселились на равнинах Дуная. Долго они оставались варварскими. Их «собратья», оставшиеся в плодородной, солнечной Кельтике, из-за долгого общения с греческими колониями на побережье переняли их образ жизни и превратились в полугреков. Жители Массилии обучили их земледелию, градостроительству, виноделию и выращиванию маслин и приобщили их к греческой культуре. Это влияние было настолько сильным, что греческий вплоть до III в. н. э. оставался в этих областях государственным языком. Тектосаги переняли эллинские обычаи, и в честь Абеллиона зазвучали пэаны. С кораблями на Запад приходили рассказы о бессчетных дельфийских сокровищах. Оставаясь полуварварами, эти племена решили похитить золото Аполлона и посвятить своему Абеллиону. * * *В 279 году до н. э. около двухсот тысяч пеших и конных воинов под предводительством вождя Бренна двинулись из Кельтики. Их нападение на Грецию вызвало панику. Варвары дошли до реки Спельхион, но греки удержали Фермопилы, вход на их родину. Галлы попытались навести мосты через Спельхион, но вынуждены были отказаться от своего намерения. Ночью десять тысяч воинов, специально выбранных Бренном, переплыли реку на щитах. Сторожевые отряды греков были вынуждены отступить в Фермопилы. Два великих нашествия видели Фермопилы, прославленные подвигами любви к родине. В 480 году до н. э. триста спартанцев во главе с царем Леонидом отдали свои жизни, сражаясь против персов. И сейчас, спустя столетие, подступали варвары. Вновь и вновь Бренн пытался прорвать защиту Фермопил, но ничто не могло поколебать греческую фалангу. Тогда варвары нашли тропу, ведущую от Гераклеи, через гору к разрушенному городу Трахине. Героическое сопротивление греков отбросило галлов назад. Но эта неудача не заставила Бренна пасть духом. Он приказал четырем тысячам пехотинцев и восьмистам всадникам завоевать Этолию, надеясь, что этолийцы, бывшие в лагере Фермопил, поспешат на защиту своей родины. Бренн не ошибся. Этолийцы, получив известие из своей земли, боящейся пожаров и грабежей, оставили лагерь. Так Бренну удалось пройти через Фермопилы. Греки отступили в Ламейскую гавань и уплыли на афинских кораблях. Бренн сразу же повел свое войско к Парнасу. Как пишут Павсаний и Юстин, когда галлы окружили Дельфы, поднялась страшная гроза, земля задрожала, с гор покатились огромные камни, погубившие многих из нападавших, На следующую ночь Парнас вновь задрожал, наступили холода, пошел снег и град. В войске Бренна многие умирали. В Дельфах были спокойны. Оракул изрек, что Аполлон не допустит их гибели, и в непогоде люди видели подтверждение тому. Они решились на дерзкую вылазку. Здесь сведения историков противоречат друг другу. Согласно одному сообщению, дельфийцам удалось разбить осаждающих и вынудить к отступлению. При этом галлам пришлось убивать своих воинов, которые из-за ран или усталости не могли выдержать обратный переход. Сам Бренн, страдающий от тяжелой раны, покончил с собой, не желая, чтобы для него делалось исключение. По другим источникам, кельты захватили город и храм, разграбили сокровищницу и увезли на кораблях в Толозу. Там все они погибли от заразы. Друиды прочитали по полету птиц, что они могут очиститься, бросив награбленное золото и серебро в священное озеро. Римский историк Юстин пишет, что это золото было украдено консулом Сципионом. Это произошло в 684 году от основания Рима, около 70 года до н. э. Толоза, по-прежнему главный город тектосагов, стала крупным центром средиземноморской торговли и все сильнее возбуждала завистливую алчность римлян. Консулу Сципиону удалось приступом взять город, который он отдал своим войскам на разграбление. Тогда он мог похитить часть дельфийской сокровищницы. Много говорили о том, что Сципион не проник в святилище кельтиберов, которое вплоть до средневековья располагалось в горах у пика Святого Варфоломея. У тектосагов был обычай посвящать все золото, добытое в горах, Абеллиону. В Толозе находится знаменитый храм Аполлона-Абеллиона. Вероятно, когда он был захвачен, только это золото попало в руки грабителей. И все же точно известно, что консул Сципион приказал вывезти в Массилйю, союзницу Рима, 150 тысяч талантов (около ста миллионрв марок[10]). Но по пути на флот было совершено нападение, и золото в Массилию не прибыло. Сципион и его «сообщники» в Риме предстали перед судом. Все соучастники оказались разорены, и самого Сципиона до конца жизни преследовали бедствия. Несчастье бывшего консула вошло в Риме в поговорку. Когда говорили: «Habet aurum Tolosanum» («У него золото из Толозы»), показывали на человека, у которого все валится из рук. Иберы не были диким, нецивилизованным племенем. Они были родственны высокоразвитым персам и мидийцам и за тысячу лет оседлой жизни «окультурили» свою новую родину. Но и они, придя одними из первых на эти земли, нашли здесь следы древней культуры. Настенные росписи незапамятных времен в пещерах Сабарте, прежде всего в пещере Нио, по оценкам историков, насчитывают около двадцати тысяч лет. Изображения идущего мамонта и охотников, преследующих бегущих зверей, созданы с достоверностью, присущей развитому уму и тонкому наблюдению за природой. Поэтому, когда речь идет о религиозном учении друидов и философии кельтов, не следует забывать, что они тесно переплетались с уже существовавшими религиозными представлениями исконных обитателей этих мест. Особенно это видно в теогонии кельтиберов, так как кельтский бог Белис, латинизированный Белен-Аполлон, есть Илхомбер-Абеллион иберов. Можно предполагать, что кельтская теогония была дуалистичной, как и у кельтиберов. Под влиянием римлян их религия носила политеистический характер. В Пиренеях, в долинах, покрытых непроходимым лесом, на высоте, она могла веками сохраняться в первоначальном виде. Как было сказано, кельтиберские друиды считали Плутона-Диспатера, греко-латинского Зевса Хтония (Подземного) богом смерти, богом грозы и огня, творцом этого мира. С грозовым молотом в руке, он сидит на троне в глубинах земли или на колеснице, запряженной баранами, проносится по воздуху, сея смерть и разрушения. Он подобен Вотану и Тору, но, несмотря на греко-латинское имя и близость к упомянутым северным божествам, он представляет собой кельтиберский вариант Аримана (Разрушителя) иранцев, мидийцев и парфян. По иранскому учению маздеизма, в вечности борются два начала — созидающее и разрушающее{57}. Символ первого — Солнце, посвященное Ахурамазде (Ормазду), верховному богу, которое распространяет священное сияние истины и добра. Второе — это ночь, заключающая в себе зло, ложь и заблуждения, которая воплощается в Аримане — Разрушителе. Ахурамазда создал небо и землю. Но из-за вмешательства Аримана его творение получилось несовершенным. Внутри человека происходит борьба добра и зла, правды и лжи. Он должен уничтожать все вредные растения и животных, в первую очередь змею, «божьего врага», и помогать полезным созданиям расти и развиваться. Души умерших подходят к мосту Шинват. Праведные переходят его и входят в Гародеману, «Дворец песен», где царит Ахурамазда. Грешники падают с моста и остаются на этой земле, в Друдйодемане, «Дворце лжи», пока однажды не придет спаситель Саофиат, чтобы показать всем людям путь к Ахурамазде. Борьба бога и его противника будет длиться 12 тысяч лет, но, когда в бой вступит Саофиат, Ариман будет побежден. Тогда настанет конец света. Ариман падет перед Ормаздом на колени, чтобы воспеть вечный гимн высшему и справедливейшему богу. Спаситель Саофиат будет рожден девственницей, пробудит мертвых, отделит грешных от праведных и будет их судить по делам их. Пифагорейцы называли его судьей в царстве мертвых, Радамантом. «Страшный суд» не осудит грешников навечно, но и они будут приняты милостью и справедливостью Ахурамазды, как только признают в нем бога и вознесут к нему молитву. После конца света будут только свет, любовь и вечное песнопение сфер. Бесспорно прекрасная теогония маздеизма была искажена странными педантичными предписаниями. Вольтер сказал об «Авесте», «Священном Писании» маздеизма, что нельзя прочитать и двух страниц этой галиматьи, приписываемой жуткому Заратустре, не чувствуя глубокой жалости к человеку. Но Вольтер вообще любил преувеличения. Недавно на Юге Франции в иберском захоронении первого тысячелетия до н. э. была найдена голова Будды{58}. Вероятно, она принадлежала иберскому или кельтиберскому Абеллиону, который всегда изображался со скрещенными ногами, как типично для Будды. Кроме того, на всех дошедших до нас пиренейских статуях и алтарях Абеллиона мы находим свастику, религиозный символ буддизма. До сегодняшних дней на дверных косяках старых баскских домов начертаны такие кресты, чтобы защитить дом и его жильцов от зла. И тот факт, что кельтиберо-иранский Диспатер-Ариман в санскрите существует как Dyaus pitar, греческом — Zeus pater и в латыни — как Jupiter, может прояснить, какие тесные связи были между арийским Средиземноморьем и восточной культурой Индии. Дуализм кельтиберов и жителей иранских высокогорий был изначально известен всем жреческим кастам древних арийцев как эзотерическое таинство. Мы должны будем учитывать это обстоятельство, когда в заключение нашего исследования будем говорить о дуализме манихейства и его западного варианта, катаризма. Ведь катары — это друиды, обращенные манихейцами в христианство. Собственно друиды занимались теологическими, философскими, правовыми и педагогическими проблемами. Глава жреческой касты в каждой области назывался «Благой отец». Как и в Ирландии, в Пиренеях друиды могли долго сохранять свои позиций против наступающего христианства. В отдаленных областях, куда трудно было проникнуть, жители под влиянием жрецов твердо держались старых обычаев. Ваты были астрологами, ясновидящими и врачами. Они обладали глубокими для того времени познаниями в астрономии, об их искусстве врачевания слагались легенды. Барды были поэтами и певцами. Их называли также по-другому privairds (на провансальском наречии — trobere, «трувер», по-немецки — Erfinder, «придумывающий»). При священнодействиях и на пирах вождей они воспевали богов и героев, играя на арфе (chrotta). В учении друидов они находили богатый материал для своих легенд. Итак, друиды были не только хранителями тайного знания, о котором мы можем только догадываться, поскольку оно передавалось устно от учителя к ученику. Рядом с олигархией вождей и знати они образовывали свою замкнутую иерархию, включавшую в себя ватов и бардов{59}. У слова «друид» есть три толкования. Согласно первому, оно означает «ясновидящий», tro-hid. По второму — «мудрец» или «маг». Третье, самое известное и, очевидно, верное, производит его от греческого слова drys или галльского drou, означающих «дуб»{60}. От северных стран до Индии дуб считался священным деревом, связанным со многими мифами и культами природы. Особенно был почитаем дуб в Додоне на севере Греции: в шелесте его листвы и журчании священного ключа, бьющего у его корней, открывалась воля Зевса. Когда аргонавты отплыли за золотым руном (которое также висело на дубе), они укрепили на носу корабля кусок священного дерева из Додоны. О дубах и растущей под ними мушмуле, которую друиды собирали по особому ритуалу{61}, можно сказать еще многое, что сейчас мы вынуждены оставить в стороне. О РОЖДЕНИИ БАРДА ТАЛИЕЗИНА… Когда гном Гвион охранял священную чашу, в которой хранилась бесценная «вода возрождения», три капли, горячие, как огонь, упали ему на руку. Как только он поднес руку ко рту, ему открылись все тайны и будущее мира. Богиня, стерегущая воду, попыталась убить его. Но гном волшебной силой воды превратился в зайца, в рыбу и в птицу. Тогда, чтобы преследовать его, богине пришлось принять облик собаки, выдры и ястреба. Наконец Гвион стал зерном пшеницы и спрятался в большом доме. Богиня, превратившись в черную курицу, всепроникающим взглядом нашла зернышко и проглотила его. Тут же она понесла и через девять месяцев родила барда Талиезина{62}… ЛЕГЕНДА О БАРДЕ ЦЕРВОРИКСЕ В одном из лесов, посвященных Белену, бард Церворикс сидел на одинокой скале на берегу Саоны в окружении учеников. На лире из слоновой кости с золотыми струнами, которую ему подарили девять друидов острова Сена{63}, он пел им о чудесах вселенной и вечной, гармоничной музыке сфер. Внезапно потемнел горизонт, потянулись черные тучи, ветер стал гнуть деревья, и ночные птицы слетели на голову певца. Разразилась гроза, и волки завыли в лесах. И крикнул Церворикс: — Человек — материя! Оболочка тела порабощает полет души, мешает истинному желанию уйти с земли в блаженный мир. Что есть жизнь? Ничто! Сыновья кельтов, живите в мире, думайте о вечном и всем скажите, что видели и знали барда Церворикса! И так сказав, разбил он свою лиру и бросился со своего места в волны. С тех пор скала носит его имя. На следующий день друиды и их женщины сложили костер, положили на него тело барда и покрыли его цветами и дорогими тканями. В-полночь, когда семь звезд Большой Медведицы отразились в семи углублениях, заполненных водой, на алтарях друидов, к костру поднесли огонь. Два друида, жрица, девственница и бард обходили его кругом. Один из жрецов бросил в бушующее пламя янтарную чашу, другой — лиру из слоновой кости, жрица — покрывало, девушка — прядь светлых волос, а бард — свое белофиолетовое одеяние. Пепел был собран и помещен в стеклянную урну. Друиды сделали на ней надпись: «Смертный! Не забывай, откуда ты пришел и куда идешь. Смотри на этот прах. Он был тобой. Ты будешь им». Раз в году приезжает Аполлон в край гипербореев. Раз в году он приходит «к людям, которые любят его», как сказал Гельдерлинг. В чаше, влекомой лебедями, которую Гефест отлил из драгоценного золота, он едет над морем, задремав под мировым древом, которое покрывает своими ветвями весь мир, в кроне которого, как золотые плоды, сверкают Солнце, Луна и звезды. Недалеко от гипербореев находится сад Гесперид, Земля Блаженных. Оттуда бог. в священной чаше, символе вечного возрождения, опять едет на восток, к поднимающейся утренней заре. Говорят, что Пифагор был воплотившийся Аполлон, пришедший из земли гипербореев, чтобы принести людям новое учение истины. Мы увидели, что античные авторы считали пифагорейцев греческими друидами. Не должны ли кельтиберские друиды быть гипербореями? На этот вопрос мы можем ответить утвердительно. В земле гипербореев надо искать сад Гесперид, древние звали иберский полуостров Гесперией. Верховным богом и друидов, и гипербореев был Аполлон. Оба племени жили в долинах своей приветливой солнечной земли. Гипербореи ели только плоды и не убивали зверей. Друиды считали, что в зверей вселяются людские души, и поэтому не ели мяса. Мы знаем также, что они были свободны от воинской службы и никогда не участвовали в войнах. Гипербореи добровольно искали освобождения от земной жизни в волнах. Мы слышали, как умер бард Церворикс{64}… КАТАРЫ И ИХ УЧЕНИЕ
Иисус из Назарета не хотел создавать новую религию, но только исполнить надежду израильтян на приход Мессии. Сам Иисус ожидал и желал одного: вмешательства Бога в судьбы мира и возведения Нового Иерусалима на руинах старого.
Иисус ни в коем случае не был основателем христианства, вряд ли имевшим точки соприкосновения с ожиданиями Мессии у иудеев, мучеником которых он был. После смерти Иисуса и положения во гроб христианская церковь пробудилась к жизни. До смерти на кресте Иисус и апостолы опирались на иудейское ожидание Мессии, а осуждение и казнь его были только ошибкой иудеев. Христианская церковь заступилась за Христа и утверждала себя как мировую Религию на понимании Христа как Спасителя всего рода человеческого. Такое понимание было чуждо Галилее, когда Иисус проходил с проповедями Палестину. Христианство нашло средство приобщить к вечному благу всех своих последователей. Как первоначально требует Евангелие, необходимо отказаться от себя и принять позорную казнь на кресте, чтобы уподобиться Учителю. И так как Иисус говорил о коротком отрезке времени между его смертью и вторым пришествием, его ученики, пораженные сошествием Бога с небес на землю и воскресением Иисуса, стали проповедовать о Божьем правосудии и вскоре приобрели новых приверженцев. Каждый истово верующий легко находил отклик у впечатлительного народа. И все же учение Иисуса было ересью, последователи которой каждый день с воодушевлением ходили в церковь, но дома ели хлеб. По Павлу, Иисус был одним из Галилейских пророков, который возвещал приход Царствия Божия, хотел стать царем праведного Израиля и стал Царем Небесным, который справедливо будет карать и награждать язычников и иудеев по их заслугам. «Все вы дети Бога через веру в Иисуса Христа. Здесь нет иудеев или греков. Или Бог — только Бог иудеев? Разве он не Бог и язычников тоже?» Такая точка зрения означает отрицание иудаизма и не созвучна с Евангелием. Иудейское ожидание земного Мессии отошло на задний план. Иудейский Христос мертв. Те, кто хранил веру в Христа, царство которого не от мира сего, сами принадлежали к миру иному. Павел резко разводит два мира, материю и дух, и разделяет также первого человека Адама и того человека, который был Господином небес. Сначала оба существовали воедино. Через Адама в мир пришел грех, а с грехом — смерть. Иудейский закон ничего не мог изменить. Только смертью другого человека, Спасителя, людям было даровано благо и освобождение. Если Лука в «Деяниях апостолов» пишет «в первый день недели, когда мы собрались для трапезы…», то день недели, посвященный Богу, уже не суббота, а следующий день, первый день недели. По аналогии с восточными культами Солнца «день Солнца» стал «днем Господа». Иудейский Мессия стал солнечным божеством. В языческий «день Солнца» (воскресение) гробницу Господню нашли пустой. Как бог Солнца, Иисус Христос должен был воскреснуть с восходом: «И пришли они к гробнице в первый день недели рано утром, когда всходило солнце»{66}. Кому подобно в своем проявлении божество, чье имя не известно никому, кроме него самого, которое проезжает на белом коне, чьи глаза — как пламя, в чьих устах дрожит острый меч, кто носит венец на голове и кровавое одеяние? Существует изображение Митры, похожее на видение Иоанна даже в деталях. На одежде бога стоит его имя, а на бедре написано: «Царь царей и Владыка владык». Христос, бог Солнца, который сошел в мир, чтобы быть распятым людьми во имя людей, пришел — по Павлу — к иудеям, и к язычникам, и к индоевропейцам, и к семитам.
Но выпала ли этой религии, созданной семитской расой и превращенной Римом в догмат, честь «претерпеть гонения во имя справедливости»? Мы хотели бы скрыть первые четыре века христианского господства, в которые было больше мучеников из христианских, чем из языческих стран. Уже раннехристианские преследования еретиков по своей жестокости и бесчеловечности немногим уступали христианским гонениям языческих времен. А они ведь проводились во имя Того, Кто сказал, что в доме Отца Его есть место всем, что нельзя убивать и нужно возлюбить ближнего как самого себя. К 400 году население провансальских равнин было обращено в христианство. Повсюду на развалинах языческих храмов возводились монастыри и соборы, из их же камней и колонн. В них хоронили мучеников за новую веру и предлагали язычникам, привыкшим к богам и полубогам, новых святых. Только в Пиренеях приносили жертвы светлому богу Абеллиону друиды, с которыми жестокие преследования ничего не могли сделать. Но жестокостью создан мир и люди в нем. Христианство, как писали иудейско-римские христологи, не могло быть принято этими спиритуалистами. Церковь, которая предпочитала уничтожать язычество, а не обращать в свою веру, с возрастающим могуществом становилась все роскошнее и надменнее, отвергала этих аскетов. Христос из рода царя Давида, убийцы и прелюбодея, был им чужд. Христос, распятый на кресте, не мог быть для них богом света. Божество не может умирать, говорили они, и не желали, чтобы во имя его убивали иноверцев. От преследований и проклятий друиды ночью скрывались на недоступных горных вершинах и в глубоком мраке пещер, чтобы, по святому обычаю предков, воздавать там хвалу Всесоздателю. Голос из народа: А потом в Пиренеи пришли христиане. Христиане, преследуемые своими братьями, объявленные еретиками на соборе в Сарагосе (381 г.) и Бордо (384 г.). Их учитель Присциллиан с шестью ближайшими сподвижниками в 385 году по приговору папы Римского и епископа Ифация был подвергнут пыткам и казнен. Присциллиане (так назвали эту гностическую — манихейскую — секту) были дружелюбно приняты друидами и поселились в лесу Серралунга и пика Святого Варфоломея, между Ольме и Сабарте. Им удалось обратить друидов в христианство{67}. Из друидов и ватов вышли катары. Из бардов — трубадуры… Чтобы уверенно говорить о философской и религиозной системе романских катаров, мы должны были бы обратиться к их очень богатой литературе. Но вся она была уничтожена инквизицией как «грязный источник дьявольской ереси». Ни одной книги катаров не дошло до нас. Остались только записи инквизиции, которые можно дополнить с помощью близких учений: гностицизма, манихейства, присциллианства. Романские катары учили: Бог есть Дух. Изначально Он — абсолютная любовь, заключенная в себе, неизменная, вечная и праведная. Ничего дурного и ничего преходящего не может быть в Нем или исходить от Него. А потому Его творения могут быть только совершенными, неизменными, вечными, праведными и благими, как источник, откуда они возникли. Но посмотрите на этот мир, как очевидны его несовершенство, изменчивость, тленность. Материя, из которой он создан, является первопричиной бесчисленного зла и страданий. Материя несет в себе смерть, которая не может ничего создавать. Из противоречия между несовершенной материей и совершенным Богом, между миром, полным скорбей, и Богом, который есть сама любовь, между жизнью, которая рождается, чтобы умереть, и Богом, который есть жизнь вечная, они делали вывод, что совершенное и то, что таким не является, несовместимы друг с другом. Несовершенное не может исходить от Совершенного. Однако философы выдвигали тезис об аналогии причины и следствия. Если причина неизменна, результат должен быть таким же. Поэтому земной мир и земные создания не могли быть сотворены непротиворечивой сущностью. Если Бог творит, почему он не может сделать творения такими же совершенными, как он сам? Если он хотел создать их совершенными, но не смог, то, значит, он не всемогущ и сам не совершенен. Если мог, но не пожелал, это не совместимо с абсолютной любовью. Итак, Бог не создавал этот мир. Что, если Бог — больной и сквозь угар В этом мире происходит многое, что вряд ли имеет отношение к божественному провидению и божественной воле, потому что, как поверить, что Бог допустил такое безобразие и путаницу? И как поверить, что все созданное, чтобы убивать и мучить людей, происходит от Творца, полного любви к людям? Как считать делом рук Божьих наводнения, губящие и крестьян, и посевы, пламя, уничтожающее жилища бедняков и служащее врагам нашим, чтобы губить нас, которые ищут и желают одной только истины? — спрашивали альбигойцы. И как мог совершенный Бог дать человеку тело, которое существует лишь затем, чтобы умереть, претерпев всевозможные страдания? Катары видели в осязаемом мире слишком много осмысленного, чтобы отказать ему в разумной первопричине. Исходя из аналогии между причиной и результатом, они заключили, что дурной результат происходит от дурной причины и что мир, который не мог быть создан Богом, должен быть сотворен злом. Эта дуалистическая система, которую мы видели в маздаизме, учении друидов и пифагорейцев, основывается на фундаментальном противоречии между добром и злом. Согласно церковному учению, зло, хотя и существует как антитеза добра, не считается самостоятельным началом, так как является по сути своей всего лишь отрицанием или искажением добра. Катары говорили, что могут опровергнуть этот взгляд, исходя из самого Нового Завета. Когда искуситель говорил Христу: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне», как мог бы он предлагать мир, если б он ему не принадлежал? И как мир мог бы ему принадлежать, если б он не был его Творцом? Если Иисус говорит о растениях, которые не сажал его Отец Небесный, то это значит, что они посажены кем-то другим. Если евангелист Иоанн говорит о «сынах Божиих, не от плоти рожденных», то кому же принадлежат люди, созданные из плоти и крови? Чьи они сыновья, если не иного творца, не дьявола, который, по словам самого «Христа», «Отец ваш».
В Евангелии достаточно мест, где речь идет о дьяволе, о борьбе плоти и духа, первоначального человека, которого надо освободить, о мире, погрязшем в грехе и мраке. С их помощью легко доказать противопоставление Бога, чье царство не от мира сего, и князя этого мира. Царство Божие — невидимый благой и совершенный мир света и вечности, Вечный Град. Бог — Творец всего сущего. «Творение» означает создание того, чего ранее не было. Он создал и материю, которой до этого не было. Он создал ее из ничего, но только как принцип, как начало. Это начало — Люцифер, придавший материи форму, сам будучи творением Божьим. Вопрос: какие в мире два начала? Альбигойцы считали, что все видимое, материальное и преходящее создано Люцифером, которого они также звали Люцибелом. Он не только все создает, но и всем управляет и пытается подчинить себе{68}. Но, согласно Ветхому Завету, небо, землю и все сущее создал Иегова. Это так, говорили катары, он «создал» и людей, мужчину и женщину. В Новом Завете написано: «Здесь нет ни мужа, ни жены, но все едины в Иисусе Христе», «Бог все в себе примиряет, на небе ли или на земле». Иегова же сказал: «И я поселю вражду между тобой и женой твоей». Как это согласовать? Иегова проклинает, Бог благословляет. Все «сыны Божии» в Ветхом Завете впадают в грех, а в Евангелии сказано: «Кто рожден вне Бога, не совершает греха». Это ли не противоречие? Катары особенно отмечали в Ветхом Завете те места, где говорится о гневе и мстительности Иеговы. Они были убеждены, что Иегова, который наслал всемирный потоп, разрушил Содом и Гоморру, так часто говорил, что уничтожил врагов своих и за грехи отцов покарает детей до третьего и четвертого колена, — этот Иегова не Бог, не вечная абсолютная любовь. Иегова запретил Адаму есть от Древа познания. Он либо знал, что человек отведает его грюд, либо не знал. Если знал, то, значит, он вводил его в искушение, чтобы заставить совершить грех и вернее погубить. Альбигойские еретики особенно любили ссылаться на седьмую главу Послания к римлянам, где Павел называет иудейские законы «законами смерти и греха». Лот совершил кровосмешение со своими дочерьми, Авраам лгал и развратничал с рабыней, Давид был убийца и прелюбодей, да не лучше и остальные, о которых идет речь в Ветхом Завете, говорили катары. Закон, открытый иудеям через Моисея, был сатанинским внушением, куда проникло чуть-чуть добра (к примеру, седьмая заповедь), чтобы склонить ко злу добродетельных людей. Бог, который явился смертному Моисею в неопалимой купине, не может быть Богом. Бог есть Дух и не проявляется в теле для телесного человека. Иегова — не Бог. Он Люцифер, Антихрист. Пал Люцифер, и в тот же миг В такую мифологическую форму облекали катары свои представления о падении Люцифера, создании земли и возникновении человека{69}. Семь небес, каждое чище и светлее другого, образуют царство Бога и Святого Духа. На каждом небе — свой высший ангел, чей хвалебный гимн непрестанно возносится к Божьему престолу на седьмом небе. Под небесами — четыре стихии, неподвижные и бесформенные, хотя и отделенные друг от друга. Под самым небом — воздух с облаками, внизу — океан, катящий свои бесконечные волны, еще глубже — земля и в глубинах ее — огонь. Воздух, вода, земля и огонь — четыре стихии, у каждой из которых — свой ангел. Во главе небесного воинства стоял Люцифер, потому что Господь вручил ему стражу небес. Гордо пролетал он все пределы бесконечного неба, от глубочайших пропастей до трона незримой вечности. Но власть, врученная ему, рождала в нем бунтарские мысли: он хотел сравниться со своим Творцом и Повелителем. Сначала он привлек к себе ангелов четырех стихий и треть небесного воинства. Тогда он был изгнан с неба. Тогда исчезло его сияние, прежде нежное и чистое, и заменилось красноватым блеском, подобным блеску раскаленного железа. Ангелы, прельщенные Люцифером, были лишены венцов и одеяний и изгнаны с неба. Люцифер бежал с ними на край небосвода. Терзаемый уколами совести, он обратился к Богу: «Даруй мне прощение. Я все верну тебе». И Бог, жалеющий своего любимого сына, позволил ему в течение семи дней — а это семь столетий — создать все, чем он будет владеть на благо. Люцифер покинул свое убежище на небосводе и приказал ангелам, последовавшим за ним, слепить землю. Потом он взял свою корону, расколовшуюся при бегстве с небес, и из одной половины сделал Солнце, а из Другой — Луну. Драгоценные камни он превратил в звезды{70}. Из грязи он создал земные творения — растения и животных. Ангелы третьего и второго неба желали разделить могущество Люцифера и просили Бога отпустить их на землю, обещая вскоре вернуться. Бог прочел их мысли и не возражал против их решения. Желая наказать их за ложь, он дал им совет не засыпать в дороге, иначе они позабудут путь на небо. Если они заснут, то только через тысячу лет призовет он их назад. Ангелы улетели. Люцифер погрузил их в глубокий сон и заключил в тела, вылепленные из грязи. Когда ангелы проснулись, они были людьми — Адамом и Евой. Чтобы заставить их забыть небо, Люцифер создал земной рай и решил обмануть их новой хитростью. Он хотел ввести их в грех, чтобы навсегда сделать своими рабами. Проводя их по обманному раю, он запретил им — чтобы разжечь их любопытство — есть плоды с Древа познания. Потом превратился в змея и стал искушать Еву. Ева вовлекла в грех Адама. Люцифер хорошо знал, что и Бог запретил бы людям есть роковые плоды, не желая увеличивать силу Люцифера. Но представил дело так, что по своей воле запрещает касаться плода. Сделал же это Люцифер только для того, чтобы восторжествовать наверняка. Яблоко с Древа познания было для катаров символом первородного греха — полового различия мужчины и женщины. Адам и Ева совершили, помимо плотского греха, грех непослушания. Но грех плоти все же был тягчайшим, так как был совершен свободной волей и означал сознательный отказ души от Бога. Для увеличения рода людского Люциферу нужны были новые души. В тела людей, рожденных от Адама и Евы, он заключил таким же образом ангелов, сброшенных вместе с ним с небес. А потом с братоубийством Каина в мир пришла смерть. Прошло время, и Бог ощутил сострадание к падшим ангелам, изгнанным с неба и превращенным в людей. Он решил дать им откровение и велел самому совершенному из своих творений, высшему ангелу Христу, сойти на землю и принять облик человека. Христос пришел в мир, чтобы показать падшим ангелам путь, которым они могут вернуться на небо, в вечное царство света{71}.
Иисус не был человеком, не был творением Люцифера, но был только подобным человеку. Казалось, что он ест, пьет, учит, страдает и умирает. Он являл людям как будто тень истинного тела. Поэтому он мог ходить по воде и преобразиться на Фаворе, где он открыл ученикам подлинную природу своего «тела». После падения Люцифера Иисус Христос был высшим ангелом и поэтому назывался «сыном Божиим». Когда Иисус говорил, что он не от мира сего, но от высшего, катары понимали это место Нового Завета в смысле не духовной природы Спасителя, но телесной{72}. Своим тонким телом вечная сущность Христа вошла в тело Марии через ее слух, как Слово Божье. Так чисто, как он вошел в нее, не смешавшись ни с чем телесным, так же он ее и оставил. Поэтому он никогда не звал ее Матерью, поэтому сказал ей: «Жена, что мне до тебя?» Катары не признавали реальность чудес Иисуса. Как он мог исцелять от телесных страданий, если считал тело препятствием к освобождению души? Если он исцелял слепых, исцелял слепых от греха, помогая им увидеть истину. Хлеб, который он раздал пяти тысячам, — это проповедь подлинной жизни, духовная пища. Буря, которую он смирил, — буря страданий, поднятая Люцифером. Здесь исполняется Слово Христа, что буква мертва, дух жив. Если тело Христа нематериально, не было распятия, только видимость его, и только поэтому было возможно вознесение. Вознесение в теле из плоти и крови казалось катарам абсурдным. Человеческое тело не может взойти на небо, вечное не может умереть.
Для еретиков была написана история страданий Христа, великолепный миф о божественной жертве любви{73}. Нет, ангела родить Земля бы не сумела, Романский катаризм стремился совместить философию, религию, метафизику и культ. Его философия вытекала из рассмотрения связей Бога и мира, добра и зла. Но философскую систему трубадуры-катары превращали в настоящую мифологию. В дуалистической системе альбигойцев противоречие между добром и злом не вечно. Будет конец света, когда Бог окончательно победит Люцифера, дух — материю. Тогда Люцибел, раскаявшись, как блудный сын, вернется к своему Творцу и Господину. Все души людей опять станут ангелами. И все будет так, как было до падения ангелов. Поскольку Царство Божие вечно, блаженство будет вечным. Так как все души вернутся к Богу, не будет вечного осуждения, несовместимого с абсолютной любовью. Мы видим, что дуализм катаров имеет общие черты с метафизикой и религиозными мистериями пифагорейцев, орфиками и маздеизмом. И все же романские еретики подчеркивали, что они христиане. И это было так, ведь они следовали важнейшей заповеди Христа:
Пропасть между катаризмом и христианским учением Рима, Виттенберга и Женевы была велика, так как, не будучи явно языческим, он не был монотеистичен. Из Священного Писания он исключал, как мы видели, Ветхий Завет, а Иисус Христос был не иудейским Иисусом из Назарета и Вифлеема, а героем мифов, овеянным блеском божественной славы… Моральное учение катаров, как бы чисто и строго оно ни было, не совпадало с христианским. Последнее никогда не стремилось к умерщвлению плоти, презрению к земным творениям и освобождению от мирских оков. Катары — силой фантазии и силой воли — хотели достичь на Земле абсолютного совершенства и, боясь впасть в материализм римской церкви, переносили в сферу духа все: религию, культ, жизнь. Удивительно, с какой силой распространялось это учение, одновременно самое терпимое и нетерпимое из христианских доктрин. Главная причина — в чистой и святой жизни самих катаров, которая слишком явно отличалась от образа жизни католических священнослужителей. То, что катаризм особенно широко распространился на юге Франции, объясняется тем, что здесь он развивался на родной почве и романцам мифы и аллегории катаров были ближе, чем проповеди невежественных и часто не слишком добродетельных священников{74}. Не будем забывать, что дуализм катаров резко контрастировал со страхом перед дьяволом средневековой церкви. Хорошо известно, как удручающе представления о чертях влияли на душевный покой человека средневековья. В Римской церкви Антихрист — враг Господа, ему принадлежит ад, огромное воинство и дьявольская власть над душами. По сравнению с католическим страхом дьявола, который отметил целое тысячелетие печатью уныния, в представлениях катаров о Люцибеле было что-то умиротворяющее. Люцифер — всего лишь непокорный, зловредный, изолгавшийся ангел, олицетворение мира, как он был и есть. Если человечество отыщет путь возвращения из своего мира к Духу, власть Князя мира сего, по еретическим верованиям, будет сломлена. Тогда ему не останется ничего другого, как смиренно и покаянно вернуться к духу. Учение катаров обросло мифологическими украшениями. Что же остается? Остается знаменитая Кантова тетрада. Первое: сосуществование в человеке доброго и злого. Второе: борьба доброго и злого за власть над человеком. Третье: победа доброго над злым, начало Царства Божия. Четвертое: разделение истины и лжи под влиянием доброго начала. Таким образом, мы видим, что в романской поэзии и философии все это было налицо. Романская Церковь Любви состояла из «совершенных» (perfecti) и «верующих» (credentes, или imperfecti{75}). К «верующим» не относились строгие правила, по которым жили «совершенные». Они могли распоряжаться собой как желали — жениться, торговать, воевать, писать любовные песни, словом, жить, как жили тогда все люди. Имя Catharus («чистый») давалось лишь тем, кто после долгого испытательного срока особым священнодействием, «утешением» (consolamentum), о котором мы поговорим позже, был посвящен в эзотерические тайны Церкви Любви. Подобно друидам, катары жили в лесах и пещерах, проводя почти все время в богослужениях{76}. Стол, покрытый белой тканью, служил алтарем. На нем лежал Новый Завет на провансальском наречии, открытый на первой главе Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Служба отличалась такой же простотой. Она начиналась чтением мест из Нового Завета. Потом следовало «благословение». Присутствующие на службе «верующие» складывали руки, опускались на колени, трижды кланялись и говорили «совершенным»: — Благословите нас. В третий раз они прибавляли: — Молите Бога за нас, грешных, чтобы сделал нас добрыми христианами и привел к благой кончине. «Совершенные» каждый раз протягивали руки для благословения и отвечали: — Diaus Vos benesiga («Да благословит вас Бог! Да сделает вас добрыми христианами и приведет вас к благой кончине»). В Германии, где было много катаров, «верующие» просили благословения рифмованной прозой: — Да не умру я никогда, да заслужу от вас, чтобы моя кончина была благой. «Совершенные» отвечали: — Да будешь ты добрым человеком. После благословения все читали вслух «Отче наш» — единственную молитву, признаваемую в Церкви Любви. Вместо «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» они говорили «Хлеб наш духовный…», потому что просьбу о хлебе земном в молитве они считали недопустимой. Хотя их просьба о хлебе духовном была созвучна латинской Библии (Vulgata), где в Евангелии от Матфея (гл. VI, стих 2) говорится: «Рапет nostrum supersubstantialem (сверхсущный) da nobis hodie», Рим обвинял их в искажении этого места. Перед каждой трапезой, где присутствовал «совершенный», происходило торжественное преломление хлеба{77}. Перед тем как сесть за стол, читали «Отче наш» и получали благословение катара. Потом старший из них, если их было несколько, брал хлеб, благословлял и разламывал со словами: — Милость Господа нашего да пребудет с вами. Цель таких трапез Любви, установленных в раннехристианской церкви, — не наслаждение творимой милостью, а установление духовных связей между «совершенными» и «верующими». Во время преследований, когда катары были вынуждены скрываться и не могли приходить к «верующим», они через гонцов рассылали священный хлеб по городам и деревням. Катаризм осуждал католическое причастие. Они не верили, что реальный хлеб при освящении сверхъестественным образом претворяется в тело Христа, которое было эфирным и только кажущимся. Церковь осуждала и проклинала эти еретические взгляды, хотя сама учение о претворении не возводила в догмат. В то время церковники сами не имели четких понятий. Катары признавали слова Господа, что «кто будет есть плоть его и пить кровь его, наследует жизнь вечную», но прибавляли: «Дух животворит, плоть бесполезна, и в его словах подразумеваются дух и жизнь». Хлеб небесный, вечной жизни — не хлеб катаров, но хлеб Бога. Тело Христово — не на алтаре и не в руках священников. Его тело — Община всех, кто стремится к высшей любви, Церковь Любви. Завет Христа разбит. Скрывает В 14-й и 15-й главах Евангелия от Иоанна Иисус обещает ученикам, что будет просить Отца своего послать им другого заступника (по-гречески: parakletos, по-провансальски: conort — «утешитель», переведенный так же и Лютером), Духа Святого, которого мир не может воспринять, так как не будет его видеть и осязать{78}. Помимо Рождества (Nadal), Пасхи (Pascos) и Троицы (Pentecosta), главным праздником катаров была Манизола, праздник Утешителя («mani» индийцев, «идеи» Платона, «mens» римлян). Одним из символов Духа, то есть Бога, который катары заимствовали из буддизма, был Mani — сияющий драгоценный камень, освящающий мир и заставляющий забыть все земные желания. Mani — эмблема буддийского откровения, рассеивающего мрак заблуждений. В Непале и Тибете Mani считался символом любви к ближнему (Dhyanibodhisattva Avalokitecvara или Padmapani). В начале был Бог: Вечное, Неизменное, которое имеет тысячу имен, но есть тот, кто есть: Бог! В начале у Бога было Слово. Логос. Отец его — Бог, Мать — Дух, который в Боге. Слово есть Бог. В начале был также Дух. Он есть Любовь, что вместе с Богом изрекла Слово, которое жизнь и свет. Дух — это Любовь. Дух — Бог. Любовь — Бог. Любовь ярче Солнца и чище драгоценных камней. О таинстве Манизолы мы не знаем ничего. Палачам инквизиции не удалось вырвать у катаров знание о высшей любви, о любви утешающей. Вместе с последним еретиком тайна погребена в пещерах Орнольяка. Записи инквизиторов рассказывают нам только об «утешении Святого Духа» (Consolamentum Spiritus Sancti), торжественном эзотерическом священнодействии катаров{79}. Верующие могли при нем присутствовать. Верующие рассказали о нем палачам. Катары осуждали крещение водой и заменили его «крещением духом» (consolamentum). По их взглядам, вода не могла иметь очищающего и преображающего действия, поскольку она вещественна. Они не верили, что Бог использует противное ему, чтобы освобождать людей от власти Сатаны. Они говорили: человек, который собирается креститься, либо покаялся либо нет. В первом случае — зачем нужно крещение, если человек уже спасается своей верой и покаянием? В противном случае крещение также бесполезно, так как человек его не желает и не готов к нему… Кроме того, Иоанн Креститель сказал, что он крестил водой, а Христос будет крестить Духом Святым. Consolamentum было целью, к которой стремились все «верующие» Церкви Любви. Оно даровало им «благую кончину» и спасало души. Если «верующий» умирал без «утешения», они считали, что его душа будет странствовать в новом теле — а великие грешники в теле животного, — пока в одной из последующих жизней он не искупит свои грехи и не станет достойным «утешения», чтобы потом от звезды к звезде приближаться к Божьему престолу. Поэтому consolamentum проводилось с торжественностью, которая ярко контрастировала с простотой культа катаров. Когда неофит выдерживал долгий срок тяжелых приготовлений, его приводили туда, где должно было проходить consolamentum. Чаще всего это была пещера в Пиренеях или Черных горах. На протяжении всего пути на стенах были укреплены факелы. В середине зала стоял алтарь, на котором лежал Новый Завет. Перед началом празднества и «совершенные» и «верующие» мыли руки, чтобы ничто не осквернило чистоту этого места. Все собравшиеся в глубоком молчании вставали в круг. Неофит стоял в середине круга, рядом с алтарем. «Совершенный», исполняющий обязанность священника, начинал обряд тем, что еще раз объяснял «верующему», принимающему «утешение», учение катаров и, предостерегая его, называл обеты (во времена преследований — будущие опасности), которые он должен будет принять. Если «утешаемый» был женат, его жену спрашивали, готова ли она расторгнуть союз и отдать супруга Богу и Евангелию. Если «утешение» принимала женщина, этот же вопрос ставился мужу. Потом священник спрашивал верующего: — Брат, ты желаешь принять нашу веру? — Да, господин. Неофит преклонял колена, касался руками земли и говорил: — Благослови меня. — Господь благословит тебя. Так повторялось три раза, и каждый раз «верующий» чуть-чуть приближался к священнику. В третий раз он прибавлял: — Господин, моли Бога, чтобы он привел меня, грешного, к благой кончине. — Господь благословит тебя, сделает тебя добрым христианином и приведет к благой кончине. Потом новый «брат» торжественно давал обет. — Обещаю, — говорил он, оставаясь на коленях, — посвятить себя Богу и его Евангелию, не лгать, не клясться, не касаться женщины, не убивать зверя, не есть мяса и питаться только плодами. Обещаю также без брата своего не путешествовать, не жить и не есть, а если попаду в руки врагов наших или расстанусь с братом моим, три дня воздерживаться от пищи. И еще обещаю никогда не изменить своей вере, какая бы смерть ни угрожала мне. Потом он еще три раза получал благословение, а все присутствующие опускались на колени. Священник подходил к нему, давал целовать Библию и клал ее на голову новому брату. Все «совершенные» подходили к нему, клали правую руку на голову или на плечо, и все собравшиеся произносили: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Прислуживающий священник обращался к Богу с молитвой, чтобы на нового брата снизошел Святой Дух-Утешитель. Брата, принявшего «утешение», опоясывали крученой веревкой, которую он теперь должен был носить не снимая и которую называли его символическим «одеянием»{80}. В конце обряда «совершенные» давали новому катару «поцелуй мира». Он возвращал его стоящему рядом с ним, тот передавал дальше. Если «утешение» принимала женщина, священник касался ее плеча и протягивал ей руку. «Чистая» передавала символический «поцелуй мира» соседу. После неофит удалялся в пустынное место и 40 дней питался только хлебом и водой, хотя перед обрядом выдержал не менее долгий и строгий пост. Пост до и после принятия consolamentum назывался Endura{81}. Если «утешение» давалось умирающему, два катара в сопровождении нескольких верующих входили в его комнату. Старший спрашивал больного, желает ли он посвятить себя Богу и Евангелию. Потом происходил обычный обряд и прощание, когда на грудь неофита клали белый платок и один из катаров вставал в изголовье, а другой — в ноги. Часто случалось, что катары после принятия «утешения» во время поста совершали самоубийство. Их учение, как и у друидов, разрешало добровольную смерть, но требовало, чтобы человек расставался с жизнью не из-за пресыщения, страха или боли, но ради полного освобождения от материи. Такой способ дозволялся, если в мгновение ока они достигали мистического сияния божественной красоты и блага. Самоубийца, оборвавший свою жизнь из страха, боли или пресыщения, по учению катаров, ввергает свою душу в такой же страх, такую же боль, такую же пресыщенность. Так как еретики признавали подлинной жизнью только наступающую после смерти, они говорили, что не следует себя убивать, чтобы желать «жить». От поста к самоубийству — один шаг. Для поста необходимо мужество, а для последнего, окончательного уничтожения тела — героизм. Последовательность не такая жестокая, как кажется. Посмотрим на посмертную маску «Inconnue de la Seine». Где страх смерти, боязнь чистилища и ада, Божьего суда и наказания? Хорошей христианкой она не была, так как христианство запрещает самоубийство. И жизнь ее не измучила — измученная женщина так не выглядит. Она была очень молодой, но жизнь высшая больше привлекала ее, чем жизнь земная, и ей хватило героизма убить тело, чтобы быть одной душой. Ее тело растворилось в мутной воде бытия, осталась только ее просветленная улыбка. Смерть во время поста была глубоко осознанным самоубийством. Если человек в тот момент, когда говорил мгновению: «Остановись, ты так прекрасно!», не разрывал союза с Мефистофелем, дальнейшее земное существование теряло смысл. За этим стояло глубокое учение: освобождение от тела сразу же дарует высшую радость — ведь радость тем выше, чем менее она связана с материей, — если человек в душе свободен от скорби и лжи, властелинов этого мира, и если может сказать о себе: «Я жил не напрасно». Что значит «жить не напрасно» по учению катаров? Во-первых, любить ближнего как самого себя, не заставлять страдать брата своего и, насколько возможно, приносить утешение и помощь. Во-вторых, не причинять боли, прежде всего не убивать. В-третьих, в этой жизни настолько приблизиться к Духу и Богу, чтобы в смертный час расставание с миром не печалило тело. Иначе душа не найдет успокоения. Если человек жил не напрасно, творил только добро и сам стал добр, то «совершенный» может сделать решительный шаг, говорили катары. Они постились всегда вдвоем. С братом, с которым катар провел долгие годы возвышенной дружбы и напряженного духовного совершенствования, он хотел соединиться в подлинной жизни и разделить созерцание красоты потустороннего мира и познание божественных законов, движущих Вселенной. Была еще одна причина для одновременного самоубийства двоих. Необходимость расстаться с братом причиняла боль. В минуту смерти душа не должна чувствовать никакой боли, иначе в мире ином она будет так же страдать от нее. Если человек любит ближнего как самого себя, он не может причинить ему боли разлуки. Боль, причиненную другому, душа будет искупать, странствуя от звезды к звезде («по уступам чистилища», как сказал Данте), откладывая воссоединение с Богом{82}. Уже предчувствуя Бога, она еще болезненнее будет ощущать отлучение от него. Катары предпочитали пять способов самоубийства. Они могли принять яд, отказаться от пищи, вскрыть вены, броситься в пропасть или лечь зимой на холодные камни после горячего купания, чтобы получить воспаление легких. Эта болезнь была для них смертельна, ведь больного, желающего умереть, не могут спасти самые лучшие врачи. Катар всегда видел перед собой смерть на костре инквизиции и считал этот мир адом. Когда он после принятия «утешения» и так умирал для этой жизни, он вполне мог «освободить себя», как тогда говорили, чтобы уйти из этого ада и от костра, разведенного здесь для него. Если Бог обладает большей добротой и пониманием, чем люди, не должны ли еретики в том мире приобрести все, чего так страстно желали, к чему стремились с жестоким преодолением себя, с упорной силой воли и, как мы еще увидим, с неслыханным героизмом? Они искали слияния с Богом в Духе. Предел желаний человека — Царство Небесное, то есть жизнь после смерти. Принявшие «утешение» становились «совершенными». Как мы знаем, только они назывались «чистыми», катарами. Их звали также «благими», «ткачами» либо «утешителями». Их уединенная жизнь была сурова и однообразна и прерывалась лишь тогда, когда они путешествовали, чтобы проповедовать, наставлять верующих и приносить consolamentum тем, кто желал его и был достоин. Они отрекались от всего, чем владели, и принадлежали уже не себе, но Церкви Любви, душой и имуществом. Все сбережения, приносимые в Церковь, катары тратили на дела милосердия. Их жизнь была чередой лишений и ограничений. Они отрекались от всех кровных и дружеских связей, три раза в год постились по сорок дней и три дня в неделю должны были жить хлебом и водой. «Мы ведем, — говорили они, — жизнь, полную тягот и скитаний. Мы проходим по городам, как овцы среди волков, мы терпим гонения — как апостолы и мученики, а хотим мы только одного: вести строгую, благочестивую, воздержанную жизнь, только молиться и работать. Но нас ничто не печалит, ведь мы уже не от мира сего».
Им нельзя было убивать даже червя. Этого требовало учение о переселении душ{83}. Поэтому они не могли участвовать в войнах. Когда начались преследования, катары по ночам ходили на поля сражений, подбирали раненых и давали умирающим «утешение». Они были искусными врачами и пользовались славой непревзойденных астрологов. Инквизиторы зашли так далеко, что утверждали, будто в их власти было повелевать ветрами, успокаивать волны и останавливать грозу. Катары облачались в длинные черные одеяния, чтобы показать скорбь своей души о пребывании в земном аду. На голове они носили персидскую тиару, похожую на широкий баррет современных басков. На груди хранили кожаный свиток с Евангелием от Иоанна. Подчеркивая свое отличие от длиннобородых монахов с тонзурой, катары брили бороду и отпускали волосы до плеч. ПЕЩЕРЫ ТРЕВРИЦЕНТА У ФОНТАН ЛЯ САЛЬВЕШ Раньше мы уже упоминали о том, как катары устраивали свои отшельнические кельи и молельные дома, и касались сюжетов о Геракле, Пирене и Бебриксе, связанных со сталактитом-алтарем еретического «Кафедрального собора» в Ломбриве. Мы еще увидим, что, согласно испанским романсам, «в волшебной пещере Геракла» находится ключ к тайнам Грааля. Но прежде давайте посетим другие, не менее таинственные пещеры катаров, а затем поднимемся к Монсегюру. Этим путем нас проведет Вольфрам фон Эшенбах. Перед своим походом в крепость Грааля Мунсальвеш Парцифаль отправился в пещеру у Фонтан ля Сальвеш, чтобы навестить благочестивого отшельника Треврицента. Треврицент был еретиком, ибо он никогда не употреблял в пищу «кровавую пищу, мясо и рыбу»{84}. В XII–XIII веках каждого христианина, который отказывал себе в мясной пище, могли заподозрить в причастности к катарской ереси. Часто случалось так, что папские легаты, которым было поручено искоренение ереси, пользовались этой «верной приметой». Они ставили тех, кого подозревали в причастности к катарам, перед выбором: съесть мясо или умереть в страданиях на костре. Власть Дьявола он ограничил. Так не был ли катаром Треврицент, стремящийся с помощью поста преодолеть заключенное в мясе могущество Дьявола и относящийся к земной жизни лишь как к периоду подготовки к возвращению на небеса, где его душа уже обитала раньше? Если кто-либо «переносит страдания от строгого поста», то он может выглядеть бледным и худым — так же, как настоящий аскет. С IV века и до конца XII столетия римская Церковь считала такую бледность верным признаком еретичества. Дело доходило до того, что к ответу за мнимую ересь призывали даже ортодоксов, бледных и изможденных от постов и самобичевания. Очень много добрых католиков было убито теми, кто ошибочно полагал, будто христиане с бледными впалыми щеками — непременные еретики… Отшельник Треврицент ютился в келье рядом с Фонтан ля Сальвеш, и он ввел юного Парцифаля во вторую пещеру, где, освобожденный от покрова таинственности, находился алтарь. Одна из пещер, расположенных напротив «Кафедрального собора» Ломбриве, называлась пещерой Отшельников, а вторая, неподалеку от нее, — пещерой Фонтана. В самом дальнем ее зале и располагался снежно-белый сталактит, названный «Алтарем». Немногим менее тридцати лет назад в эту пещеру проникли четверо молодых людей, и с тех пор их никто больше не видел. Их останки могли обрести покой в одном из финикийских или фокейских захоронений. Но, быть может, эти четверо нашли дорогу наверх, ведущую к вершинам Табора и Монсегюра? Может, именно один из них написал большими буквами на стене у входа в пещеру: «Почему бы не я…»? Эти пещеры вызывают ряд вопросов, ответов на которые нет до сих пор. Когда моя лампа выхватила из темноты пещеры алтарь, я спросил себя, каким должен был быть «ларец» на алтаре у кельи Треврицента{85}, рядом с которым Парцифаль получил тайное знание о Граале. Там и по сей день есть обычай Возможно, он относился к «сокровищам Соломона», привезенным в Каркассон из Рима королем вестготов Аларихом в 410 году н. э. Согласно Прокопию Кесарийскому, это были различные приспособления и утварь иудейского царя Соломона, которые римляне захватили еще раньше в Иерусалиме. Большая часть этих богатств позднее была перевезена Теодорихом в Равенну, откуда они были доставлены Велизарием, знаменитым полководцем Юстиниана, императора Восточной Римской империи, в Византию. Однако часть их осталась в Каркассоне, и, согласно многочисленным арабским свидетельствам, среди прочего здесь должен был находиться «стол Соломона». Действительно ли великий царь иудеев Соломон, чья легендарная могила находится где-то между Алтаем и Гиндукушем, знал о Граале? Язычник (а имя ему — Флегестан) В семидневной битве при Херес де ла Фронтера (711 г.) арабы полностью разгромили вестготов. Сокровища Соломона попали в руки неверных в Толедо. Но «стола Соломона» среди них не было. Киот, продолжая со мной беседу, «Ларец» и «Сказание о Граале», неотделимые, по всей видимости, друг от друга, Треврицент хранил в своей пещере. Находились ли среди тех же сокровищ ларь и «Сказание о первоисточнике», спрятанные ранее в надежном месте неверными? Согласно испанским романсам, в которых «стол Соломона» назывался также «ларем», его хранили в «волшебном гроте Геркулеса». Тогда королю готов Родерику нужно было попасть в пещеру и там, в укромном углу, найти этот ларец и в нем — три кубка… Прежде чем отвести юного Парцифаля к алтарю в пещеру, чтобы посвятить его в тайну Грааля, Треврицент надевает на него «плащ». Лишь ветра дуновенье пронеслось, Плащ или накидка, рыба, мост и лодка связаны с самыми почитаемыми реликвиями не только у Вольфрама фон Эшенбаха. Во всех мифах и эпосах, родственных сказаниям о Граале, мы находим такие же представления. Давайте сначала посмотрим, как великий немецкий поэт-миннезингер описывает приход Парцифаля к замку Мунсальвеш, в котором хранится Грааль. Уж вечер… Скоро месяц выйдет. Согласно всем подобного рода мифам и сказаниям, где-то за большой водою стоит волшебная гора. В «Лике Григория Великого» говорится о прекрасном луге; к нему ведет мост, по которому могут пройти только праведники и который напоминает Garodemana и мост Tchivat в вавилонской мифологии. Стремящийся к волшебной горе должен преодолеть эту водную преграду на челноке (часто, и прежде всего в античной мифологии, здесь упоминается чаша) или на рыбе или перейти по мосту. И тогда он попадет в прекрасную долину. Она же: — луг Асфоделос эллинов; — долина Авалон кельтов{86}, в которой, согласно воспевшему Грааль Роберу де Борону, должен быть похоронен Иосиф Аримафейский — первый хранитель Грааля; — священная дубовая роща, где на ветвях дерева висит золотое руно; — сад Гесперид, в котором находится чаша возрождения к новой жизни; — волшебный лес Оберона, окружающий и защищающий замок Монмур; — бразельянский лес, отделяющий от всего мира храм Грааля Мунсальвеш{87}. На корабле «Арго» аргонавты прибыли в страну золотого руна. В чаше Аполлон переносится через море, чтобы попасть в страну гиперборейцев и в сад Гесперид. У эллинов корабль доставляет души прощенных в Страну света. По этой же причине на греческих захоронениях очень часто встречаются изображения кораблей. То же самое мы встречаем и в катакомбах христиан. Часто вместо корабля изображали рыб или дельфинов. Уже у Гомера упоминается рыбак Орфей, Добывающий священную рыбу{88}. С образом рыбы ассоциируется у первых христиан их Спаситель Иисус Христос, ведущий людей в Царствие Небесное. У катаров было сходное представление о лодке как о средстве доставки к небожителям: корабль мертвых, парусом которого является солнце — символ светлого Спасителя. Для них, так же как для первых христиан, рыба была знаком «Иисуса Христа — Сына Бога — Спасителя» (?????? ??????? ???? ???? ?????; начальные буквы образуют греческое слово «?????» = Рыба). В эпосах о Граале король Грааля Анфортас называется «королем-рыбаком». Кретьен де Труа называет его «rois Pesciere». Это название берет свое начало от знаменитых слов Христа, обращенных к рыбакам: «Я сделаю вас ловцами человеческих душ». В старофранцузской песне из эпоса об Обероне «Гуон из Бордо», к содержанию которой мы должны будем еще вернуться, Гуон и Эсклармонда носят в волшебном мире Оберона «накидку» «удивительного монаха» и — по другой версии — рыбака Маллаброна в обличье дельфина. Давайте вспомним и о другом обстоятельстве: в романской Церкви Любви плащ и накидка символизировали новое «обличье», которое после принятия «крещения духом» занимает место человеческого тела — плода трудов Люцифера и ловушки для души. Обитель Треврицента была salvasche (дикой) и вместе с тем salvat (спасенной, скрытой). Братья этого аскета, катары, также были хорошо укрыты в своих диких пещерах Сабарте{89}. Когда инквизиторы уже стали хозяевами пещеры «Кафедрального собора» в Ломбриве и пещеры Отшельников, еретики еще были в силах оказывать сопротивление захватчикам в своих пещерных крепостях (Spulga) вплоть до XIV века. Словом «spulga» было принято называть укрепленную пещеру (от латинского spelunca, уменьшительная форма от spelum — пещера). Пещеры Сабарте — а таковых известно две — представляли собой мощные подземные укрепления. К сожалению, нам известна лишь малая часть их разветвленных ходов и залов. Возведенные повсюду стены, по которым в течение столетий сочилась из скал вода с известью, хранят дремлющую в их тени тайну. Современная наука обходит вниманием пещерные крепости Сабарте. И тем не менее каждый, кто при поездке по шоссе Тулуза — Барселона, проехав маленькое курортное местечко Орнолак-Усса-ле-Бэн, достигает перевала Пюиморен, может увидеть справа от себя (приблизительно на середине крутой скальной стены) мощные, увенчанные зубцами стены, защищающие входы в пещеру. Здесь находится сохранившаяся до нашего времени пещерная крепость Буан. В ней есть все, что присуще средневековой крепости: донжон, лестницы, казематы, место для дозорного. От обычного замка она отличается лишь тем, что состоит почти исключительно из подземных ходов. Вторая пещерная крепость, Орнольяк, находится на противоположном берегу Ариега, между пещерой Отшельников и пещерой Фонтана, недалеко от полуразрушенных бань Усса, в термах которых резвится множество водяных ужей. После утомительного восхождения по осыпи вы попадаете в почти непроходимые заросли, состоящие из смоковниц и колючего кустарника. Наконец, преодолев эту колючую изгородь, вы выходите к развалинам крепости. Вдоль потемневших от копоти скальных стен вы приближаетесь к входу в разрушенную пещерную крепость, выступающую над скалой подобно запорошенному снегом пограничному дозору. Там, где когда-то был вход, ведущий в недра горы, не уцелело ничего. Этот вход засыпали, когда крепость еретиков была предана огню. Насколько велика была эта крепость, можно судить по вырубленным в обеих противоположных стенах отверстиям для несущих балок: здесь должно было быть четыре — или даже Дольше — этажа. Пещерные крепости Буан и Орнольяк повидали много на своем веку. Сначала они служили пристанищем кельтиберам, которые после падения их главного опорного пункта были уничтожены здесь римскими легионами. Затем крепости были перестроены римлянами в неприступные твердыни. Когда семьюстами годами позднее здесь прошли победоносным маршем на север мавры, они использовали эти крепости под жилье. Но в 719 г. мавры были разбиты войском Карла Мартелла[11] на поле брани в Ломбардии, между Тарас-коном и Орнольяком, и отброшены на юг. Еще через 300 лет здесь нашли свой последний приют катары. В пещерной крепости Орнольяк, согласно сообщению каркассонской инквизиции, стал еретиком Вольф из Фуа (Lupus haereticavit in spulga Ornolaco). Вольф был сыном Раймона Друта, графа Фуа. Как и все сыновья хозяев Лангедока, он был обращен в еретическую веру патриархом Церкви Любви Гильабертом из Кастра. Гильаберт, один из сыновей Белиссены, происходил из дома Кастр в ленном поместье Альбижуа. Также предполагается, что в пещерной крепости Орнольяк Гильаберт из Кастра принял в лоно Церкви Любви Раймона-Рожера, юного Тренкавеля, хотя никаких документов, подтверждающих это, не сохранилось. Дело в том, что, когда инквизиторы начали составлять свой пресловутый реестр, Тренкавель уже был отравлен. Другой человек, обращенный патриархом Гильабертом в еретическую веру, позднее привлек к себе внимание всего христианского мира. В 1204 г. у этого патриарха прошла обряд «крещения духом» Эсклармонда де Фуа. Эсклармонда приходилась сестрой графу Раймону Друту и теткой молодому Раймону-Рожеру из Каркассона. Из своей горной обители отцовского замка Фуа она могла лицезреть заснеженные вершины Табора, ущелья Сабарте и горные луга Ольма. Еще в ранней юности ее родители-еретики посвятили ее жизнь Церкви Утешителя. Вероятно, поэтому она носила имя, которое пришло вместе с катаризмом и с ним же вместе исчезло. Это имя можно перевести как «Светоч мира» или «Чистый свет». Имя Эсклармонды стало символом ее жизненного пути. Она была источником света романского мира, чистым светом, которым лучилась Церковь Любви в мрачном средневековье. После длительного пребывания при дворе виконтессы Аделаиды, где она представляла дворянство Пуавера, бывшее сторонником Церкви Любви, она повенчалась с виконтом Жорданом де Лилль-и-Гимоэш. Жордан был потомком старинного иберийского дворянского рода. По материнской линии он был родственником дома Комменж, который господствовал в Пиренеях вместе с родами Фуа и Каркассонов. О жизни Эсклармонды после ее обращения в еретическую веру мы знаем очень мало{90}. Быть может, одна из Пиренейских пещер когда-нибудь приоткроет завесу тайны этой женщины, которая с отвесных Пиренейских скал противостояла высочайшей власти и мощи средневекового западного мира — Ватикану и Лувру. Ортодоксальная церковь XIII столетия называла ее «папессой еретиков». Романские катары величали ее Эсклармундой… Образ Эсклармонды — прерогатива не только истории, но и поэзии и сказаний. Поэзия сделала Эсклармонду королевой фей замка Монмур. Согласно одной из легенд, которую мне рассказал старый пастух, когда я поднимался по горной дороге катаров от Монсегюра к Табору, Эсклармонду считали хранительницей Грааля. Вместе с тем утверждалось, что она же — Титания и Репанс де Шой. Историческая личность Эсклармонда де Фуа была владелицей Табора и Монсегюра. Монсегюр назывался еще и Мунсальвеш, и Монмур! Монмур, замок эльфов Оберона{91}В посвященной Оберону старофранцузской поэме «Гуон из Бордо», которая во многом созвучна как произведению Вольфрама, так и немецкому героическому эпосу об Ортнит и Вольфдитрихе, Эсклармонда предстает супругой короля Гуона из Бордо, которого король эльфов Оберон поддерживает в борьбе против его мятежного брата, собиравшегося захватить замок Оберона Монмур не позднее, чем через три года. Когда назначенное время истекло, Гуон и Эсклармонда сели в галеру и обратились к Спасителю с просьбой довести их до замка Монмур. Когда они после долгих блужданий нашли правильный путь, им удалось достичь волшебной рощи Оберона. Там они нашли «Замок удивительных монахов», в роскошной комнате которого их ждал богато накрытый стол. Однако поблизости не было никого, кто бы мог прислуживать во время трапезы. На следующий день Гуон и Эсклармонда отправились к утренней мессе в церковь, в которой, однако, не оказалось ни алтаря, ни распятия. Неожиданно перед ними появились сто монахов, возникшие словно из-под земли. Эсклармонде стало жутко. Тогда Гуон вспомнил, что Оберон советовал ему взять с собой особую накидку (палантин). С его помощью Гуону удалось поймать огромного и ужасного монаха, который и поведал историю этого необычного замка. Он же посоветовал Гуону без промедления отправляться в путь, поскольку все здешние монахи — не люди, а духи. Их предыстория такова. Когда Бог разгневался на Люцифера, эти духи были изгнаны сюда и жили надеждой, что все же их еще освободят. «Надежда — то, чем живет это братство»… С помощью волшебного палантина этот монах перенес Гуона и Эсклармонду в Монмур. Согласно другой редакции песен о Гуоне, к замку Оберона через большую воду их доставил рыбак Маллаброн, превратившийся в дельфина. В Монмуре Оберон ждал прихода своей смерти, но не мог умереть, пока Гуона не выбрали королем эльфов. Поэтому он с радостью приветствовал Гуона и Эсклармонду. Затем состоялась праздничная трапеза, во время которой для всех соратников была пожертвована волшебная чаша с вином. После пиршества Оберон распорядился внести «корону и копье» — регалии высшей власти в царстве эльфов. Затем Гуон и Эсклармонда были коронованы. На следующее утро Гуон испробовал свое новое могущество и призвал к себе всех фей и баронов царства эльфов. Оберон объяснил собравшейся публике: Я больше не хочу жить в этом мире, Затем Оберон попрощался и умер. Его набальзамированное тело было помещено в специальный ларец и с помощью магнитов удерживалось парящим в воздухе. Внизу под ним эльфы водили свои хороводы. Затем бренная оболочка Оберона обрела, наконец, покой в большой пещере. Из многочисленных взаимосвязей между «Песней Эсклармонды» из цикла о Гуоне и поэзией, посвященной Граалю, рассмотрим только самые важные и наиболее заметные. Корона и копье соответствуют Граалю и «Lanze» (копью). Волшебная чаша играет ту же роль, что и дающий пищу Грааль. Волшебная роща Оберона напоминает лес Бризильяна. Еще глубже сходство между ожидающими избавления удивительными монахами и ангелами в «Парцифале»: И ангелы, поспорив меж собой, Особенно удивительно сходство между рыбаком Анфортасом на озере Брумбан и рыбаком Маллаброном на большой воде, за которой находится волшебное царство Оберона. Анфортас страдает так же, как Оберон. Оба они надеются, что появление преемника будет избавлением. Согласно «Песне Эсклармонды», замок фей Монмур расположен поблизости от pays de commans и от terre de foi. В действительности, после того, как Эсклармонда вышла замуж за Жордана, были объединены владения Комменж и земля Фуа, из которой берет свое Начало катарское учение («вера» на старофранцузском — foy). Мунсальвеш и Монсегюр{92}Но чтоб в замок этот попасть, На горе Мунсальвеш служители «храма» хранили драгоценную реликвию — Грааль. Символом этих «тамплиеров» было копье, знак готовности к битвам. Место это хорошо укрыто, В XV столетии голландский хронист Вельденер писал о том, что «лебедь-рыцарь» ведет свое происхождение от Грааля (dat greal), как в те времена называли рай на земле. Но это не настоящий святой рай, а только лишь место на грешной земле. Приблизительно к тому же времени относится саксонская городская хроника (Гальберштадтская), где говорится о Лоэнгрине: «Хронисты считали, что этот юноша, «лебедь-рыцарь», пришел с горы, где в Граале была заключена и сущность Венеры». Итак, гора Грааля была и горой Венеры? Не противоречит ли это принципу обета безбрачия среди хранителей Грааля? Земной любовью пренебречь Чтобы разрешить это противоречие, мы должны обратиться к стихотворению Пейре Кардиналя, в основе которого — встреча этого трубадура с живым воплощением бога любви Амура. Рядом с Амуром едет верхом дама. Венера? Нет — Милосердие! Ибо «законы любви» запрещают плотскую любовь. Трубадуры искали утешения в милосердии своих дам, а катары стремились к утешающему Мани — обещанному Христом Параклету (Утешителю). Бог — человек и слово Отца. Своим ученикам Христос представлял божественный дух в виде Утешителя, помощника. Катары видели его в образе Мани, помощи. То есть, и в этом случае — женское начало… Хронисты, мнение которых мы только что приводили, в сущности, были правы, рассматривая гору Грааля как греховную и еретическую гору Венеры. В доисторические времена Монсегюр был святилищем богини Белиссены, кельтиберского аналога Астарты-Артемиды-Дианы. Астарта в финикийской мифологии носила имя Паредра Ваала, в греческой мифологии была известна как Артемида, сестра Аполлона, а в кельтиберской теогонии — Белиссена, богиня Абеллиона. В Дельфах и в Дидиме, святилище близнецов Кастора и Полидевка, так же, как во всех важных местах поклонения Аполлону, находились и святилища Артемиды. Их жрецы и жрицы должны были давать торжественную клятву соблюдения непорочности. Надменную и неприступную богиню во время ее охот в лесах сопровождало скопище нимф. Ее символом был лунный серп. Святилища друидов, посвященные Белиссене, также были расположены в местах, посвященных Абеллиону. Неподалеку от современного Мирпуа — на гербе его владельцев (сыновей Белиссены) были изображены башня, рыба и полумесяц — находился священный лес Белена. Современная Белеста, лежащая в нескольких часах пути от Монсегюра, была одним из таких священных мест Белиссены. В Лавелане, у подножия горы Монсегюр, где прежде властвовал сын Белиссены Рамон де Перелья, святилище Белиссены также было расположено рядом со святилищем Абеллиона. В древнегреческой мифологии Артемида часто отождествлялась с Дафной (=лавром, славой), первой из легендарных дельфийских сивилл{93}. Свои пророчества сивиллы писали на листьях лаврового дерева. Лавр был священным деревом поэтов и пророчиц. Пейре Видалю было хорошо известно об этом: он пригласил даму Милосердие на отдых именно под лавровое дерево. Голубь также был одной из священных птиц Артемиды. «Голубками» называли жриц Артемиды в Додоне, где рос священный дуб Греции. Из его древесины аргонавты вырезали киль для своего судна «Арго»{94}, прежде чем направить корабль к ясновидящей пророчице Медее, помогавшей им в поисках золотого руна. Символом катаров был Бог-Святой Дух, которого в Евангелиях символизировал голубь. Кто-то из катаров высек изображение голубя на стене одной из пещер Сабарте. В развалинах Монсегюра были найдены глиняные голуби. Гербом рыцарей Грааля также был голубь. В Страстную пятницу, день высочайшей любви, голубь опускал облатку на Грааль. Согласно легенде, услышанной мною от пиренейских пастухов, голубь заставил гору Табор разойтись, а Эсклармонду — превратиться в символ Бога-Святого Духа. Все эти взаимоотношения очень показательны. Порождения Люцифера таят в себе смерть. Смерть можно преодолеть только всеобщим отказом от дальнейшего воспроизведения себе подобных. Когда не останется ни одного человека, не будет больше и смерти. Поэтому катары и отвергали плотскую любовь{95}. И предлагали взамен небесное, возвышенное чувство, которое другими словами называли не иначе как «божественная перволюбовь». «Возлюбленной первой любви» называл Данте свою сиятельную Беатриче. Перволюбовь не имеет ничего общего с низменной любовью, которой обычно занимаются люди. Тот, кто закончит жизнь свою, На Мунсальвеше, Монмуре и Монсегюре непорочность была главным законом. В «Песне Эсклармонды» Оберон говорит: «Гуон, остерегайся заводить связь с другой молодой женщиной. Оставайся верным прекрасной Эсклармонде, которая дожидается тебя и отвергает сватовство каждого претендента». В «Парцифале» фон Эшенбаха рыцари должны были быть безупречно чисты, а король Грааля Анфортас не мог ни жить, ни умереть: Он жизнью особой живет, Поскольку «нет ничего на свете чище истинно непорочной молодой девушки», именно девы охраняли святой Грааль в Мунсальвеше. Королевой этих хранительниц была Репанс де Шой. Трудно было попасть в Мунсальвеш, Монмур и Монсегюр. Густыми и темными были Бризильянский лес и лес Серралунги, окружавший Монсегюр со всех сторон, защищая его. Здесь присциллиане нашли убежище от палачей Рима. Репанс Прекрасная{96}В далекой стране, путь до которой не близок, Репанс — владычица Грааля… Мне хотелось бы еще раз пересказать легенду, которую поведал мне старый пастух-горец:
У легенды есть и продолжение:
…в земле Этнизской, Мой рассказчик-пастух выразил древнюю мудрость в своем простом повествовании. На его родине, в Пиренеях, еще можно встретить эльфов, резвящихся в лунном сиянии светлых ночей вокруг чистых горных источников. До сих пор еще на горе Табор дубы обращаются к очень далеким от Бога пастухам, давая знать о Нем шелестом листьев. Насколько могут еще считаться мистиками и поэтами потомки друидов и бардов, катаров и трубадуров, можно понять из приведенного ниже рассказа, услышанного мною от девяностолетнего крестьянина из Орнольяка, который сразу потребовал вознаграждение за свою правдивую историю. Он искренне верил, что видел в горах Табора змею, держащую во рту свой хвост и катящуюся колесом через пропасти Сабарте вверх к снежной вершине пика Монкальм. По сей день пиренейские крестьяне ощущают окружающий их мир волшебным и одушевленным. Катары и трубадуры давно мертвы. Но можно ли полностью искоренить человеческое стремление к раю и Богу? Трижды Табор был проклят, дважды был объят огнем, но через 600 лет один крестьянин из деревушки Орнольяк все равно разглядел символ вечности: змею, кусающую себя за хвост. «Эсклармонда не умерла», — сказал мне пастух на Дороге Катаров. Она все еще жива… У Вольфрама фон Эшенбаха королева Грааля Репанс де Шой приходится Парцифалю теткой. Эсклармонда из Фуа была кузиной юного Тренкавеля Каркассонского. Репанс де Шой вышла замуж за Фейрефица, сводного брата Парцифа-ля, Эсклармонда была обвенчана с вице-графом Жорданом де Лилль-и-Гимоэш, которого поэтому можно назвать близким родственником Тренкавеля, поскольку дома Каркассонов и Комменж в X веке были объединены под скипетром Аснара — кантабрийского князя. Поэтому гербы Каркассонов и Комменж так похожи. После смерти Жордана (около 1204 г.) Эсклармонда отказалась от своего наследства, разделив его между шестью взрослыми сыновьями, и вернулась на свою горную родину. После принятия «крещения духом» из рук сына Белиссены Гильаберта из Кастра, она сделала своей резиденцией замок Памьер, который определили ее брат Раймон-Рожер и трубадур Раймон Друт, и оттуда управляла своими владениями в Таборе. Она также была сюзереном замка Монсегюр, которым владел ее вассал, сын Белиссены Рамон Перелья. Вершина Мон-Сепора там возвышалась, Castrum montis securi[12] называли римляне Монсегюр, свою неприступную и самую прочную пиренейскую крепость. Монсегюр был самой сильной романской крепостью, неприступно и гордо возвышающейся над провансальской равниной: первая ступень на пути к звездам, к которым стремились катары. Выше горы высотой три тысячи футов были только покрытые снегом зубцы Табора и усыпанное звездами небо. От Лавланэ — городка, расположенного в предгорьях на расстоянии двух часов пути от Монсегюра, — путь «чистых» извивается по ущелью Лектуар, уходя все выше в горы. Журчащие каскады, отвесные скальные стены, потрепанные ветром ели и прижимающиеся к крутым склонам деревушки, чьи названия (такие, как Ворота Табора) до сих пор напоминают о нашествии сарацин. Когда я в первый раз совершал восхождение к скалам Монсегюра, ущелья были наполнены облаками, в вязах и елях выл сильный ветер. Я поднялся до abbes («Пропасти»), откуда уже наверняка можно было добраться до развалин крепости еретиков по вызывающей головокружение тропе. В это время на одно мгновение облака разошлись, и передо мной в вышине предстал позолоченный солнцем огромный, голый и серый пирамидальный утес, неприступнее которого я никогда не видел. И вокруг него клубилось море облаков, подобно дымку ладана. Вместе с Лавланэ (iuxta castrum montis securi) Монсегюр защищал подходы к Табору и к пещерам Орнольяка. Для их же защиты с другой стороны гор служили крепость Фуа, укрепленный город Тараскон и замки Белиссены Мирамон, Каламес и Урнаве. В Мирпуа, Монреале, Каркассоне, в Рокафиссаде, Белеете и Керибусе — во всех этих крепостях и городах сыновья Белиссены охраняли дороги к Табору. Монсегюр охраняли достойные рыцари романской Церкви Любви. Для них были святыми и горы, о которых на протяжении веков складывали мифы и сказания, и пещеры, в чудесных лабиринтах которых до сих пор живы воспоминания о предках и доисторической культуре, и рощи с источниками, к которым обращены их песни и молитвы. Табор был их одним большим национальным святилищем. Здесь на каждом шагу и сегодня можно встретить убедительные свидетельства этой грандиозной культуры. Наслоения грунта пещер Сабарте скрывают такие следы доисторического прошлого, как ископаемые остатки, кости мамонтов, орудия каменного века, а наряду с ними — греческие вазы, финикийские изделия из стекла и кельтиберские бронзовые украшения. На белых скальных стенах проступают рисунки доисторических людей, таинственные руны ждут того, кто расшифрует их содержание{97}. На вершинах гор частые густые заросли и колючие кустарники скрывают остатки крупных городов и храмов. В IV веке это место было переименовано присциллианами в Табор и посвящено святому Варфоломею, апостолу Индии и Персии. В XII и XIII веках, вместо друидов и бардов, Парнас романского мира стали беречь катары и трубадуры. Из священной горы Абеллион Табор превратился в символ божественной троицы. Пик Святого Варфоломея, пик Суларак и гора Монсегюр символизировали агностиков, демиургов и параклетов — Божественную троицу. Вокруг озера друидов бродили катары и рассказывали неофитам о золотых сокровищах, которые утопили их предки, спиритуалисты, — так же, как они сами, презиравшие золото. В тени менгиров или кромлехов во время отдыха они говорили о Граале. Ведь Грааль был воплощеньем совершенства Возможно, «чистые» рассказывали своим ученикам и поныне известную в Провансе и Лангедоке легенду о том, как Лазарь, Марта, Мария Магдалина и Дионисий Ареопагит привезли Грааль в Марсель и как Мария Магдалина до своей смерти спрятала его в пещере, находящейся неподалеку от Тараскона. Высшая любовь делает людей поэтами, а поэтов — снова детьми Бога — сыновьями муз, которыми правит Аполлон, брат Артемиды. Молитва означает стихосложение. Не являются ли небесные чертоги и боги плодом человеческого воображения, неосознанного стремления к райской жизни? Трубадуры, рыцари и дамы, поднимавшиеся в Монсегюр, чтобы там ожидать «поцелуй Бога», как в Талмуде называется смерть с косой, жили с тех пор в огромной крепости, ворота которой защищали сильные замки, стенами которой были скалы Табора, крышей — лазурное небо, ходами — пещеры, а главной церковью — «Кафедральный собор». Церковь Любви была религиозным подобием всего романского мира любви, законом любви, который должен был быть принесен соколом с небес на землю, для того чтобы Грааль попал с неба в подлунный мир, после того как Люцифер был отвергнут от Божественного престола. Эти два подаренных небом символа означали мировую и религиозную любовь. Законы церковной любви утверждали как высший принцип отказ от плотской любви и от супружества. Высшая любовь — союз человеческих душ и сердец. Земная любовь — страсть, быстро проходящая от чувственных наслаждений. Учение катаров настаивало на том, что главным условием для «совершенной» жизни должна стать чистота. Высочайшая любовь — союз человеческих душ с Богом — Святым духом. Вместе с плотской любовью умирает связь с Богом и видение Бога. Стихотворение трубадура Вильгельма Монтаньаголя, которым мы предварили объяснение понятия романской высшей любви, можно перевести следующим образом: люди должны быть чисты сердцем и думать только о высшей любви, поскольку высшая любовь — не ересь, а величайшая добродетель, делающая людей детьми Божьими. Трубадуры выполняли роль законодателей «законов любви». Законом высшей любви романской Церкви Любви было Евангелие младшего из апостолов, любимого ученика Сына Человеческого:
Два человека возглавляют это войско: Часть третья КРЕСТОВЫЙ ПОХОД Отцы Католической церкви и инквизиторы считали ересь катаров — по причине имевшихся в ней дуалистических рассуждений — разновидностью неоманихейства. На самом же деле эта ересь, как и учение, основанное персом Мани (238–277?), была лишь приспособившимся к западной почве индийским манизмом{98}. Если говорить о катарах, то буддистские представления о mani (санск. драгоценный камень) нашли у них свое отражение в вере в реальность получения духовного «утешения» еще на земле и в поклонении удостоившимся его — параклетам (грен, утешенным). Если перевести с греческого, то окажется, что катары называли себя последователями «чистого учения», символом которого, вслед за индийским mani, был камень, упавший с неба, lapis ex coelis (у Вольфрама фон Эшенбаха ошибочно — lapsit exillis, что в таком прочтении бессмысленно), который просвещает мир, утешая его. Этот «светильник мира», символ верований катаров, сохранялся Эсклармондой в крепости Монсегюр, однако ввиду крайней опасности, грозящей замку, четыре катара, совершив отчаянный переход по горам, доставили его в ущелья Орнольяка. Если мы отождествляем это «сокровище еретиков», как называли его инквизиторы, с Граалем, то основания для такого предположения станут понятными в ходе нашего повествования. Но даже при поверхностном чтении произведений Кретьена де Труа и Гийо-Вольфрама бросается в глаза, что их «Грааль» никак не связан с причастием и не является христианской реликвией: у них нигде не говорится о связи Грааля и священника. Грааль являлся еретическим символом. Люди, поклонявшиеся христианскому кресту, подвергли его проклятию, против него был направлен крестовый поход, «Крест» вел священную войну против «Грааля». Катары усматривали в поклонении кресту пренебрежение Божественной природой Христа. Их неприязненное отношение к этому символу было столь сильным{99}, что, например, один из них воскликнул как-то: «Я ни за что не хотел бы быть спасенным через этот знак!» Но как же Фульк, наш трубадур веселый, Фульк, сын богатого купца-генуэзца, проживавшего в Марселе, оказался недостойным трубадуром. Своим фанатизмом и жаждой наживы он превосходил самых упорных противников еретиков своего времени{100}. Фульк долгое время восхвалял в песнях супругу Барраля, виконта Марсельского, к чему она относилась вполне благосклонно. Однако в конце концов трубадур получил отповедь, так как слишком страстно добивался любовных утех. Вся его жизнь являла собой погоню за деньгами и славой. Когда по причине неумеренного образа жизни его покинули все благодетели, Фульк облекся в священнические ризы, избрав путь, идя по которому в то время быстрее всего можно было добиться преуспеяния. И, судя по всему, Фульк не обманулся в своих надеждах. Вскоре по вступлении в орден цистерцианцев он был назначен приором монастыря Флорея, а пятью годами позже стал епископом Тулузским. Папский легат, прибывший в Прованс с поручением положить предел ереси, узнав о посвящении трубадура в епископы, воскликнул: «Дело спасено, коль скоро Господь даровал Церкви такого человека». Доходы от собственного епископства не удовлетворяли претенциозного трубадура, и вскоре он погряз в долгах. Презрение бюргерства по отношению к недостойному епископу было столь велико, что он не мог свободно, не будучи осмеянным, показаться на улице. Рассказывают, что как-то раз Фульк сравнил в своей проповеди еретиков с волками, а правоверных — с овцами. Тогда поднялся некий еретик, которому по приказу Симона де Монфора, опустошителя Романии, были выколоты глаза и отрезаны нос и губы, и, указав на себя, вопросил: «Могла ли овца так укусить волка?» В ответ он услышал, что Монфор сделался «благой собакой». Граф Фуа, брат Эсклармонды, обвинял перед папой Иннокентием III, кажется, именно этого епископа в том, что по его вине приняли смерть 1500 человек. По непреложному закону, Романия и расположенная в ней гора Табор оказались ввергнутыми в море ненависти и проклятия. По тому же непреложному закону возвышенная любовь катаров была встречена земными властями с сильнейшей ненавистью. Ведь были и такие, познавшие Отца, Учение катаров успешно распространялось во второй половине двенадцатого века по романским провинциям Южной франции. Рыцарство{101}, горожане и даже духовенство видели теперь только в еретиках провозвестников истинного Евангелия. Немногого недоставало, чтобы позиции Рима в Провансе, Лангедоке и Гаскони окончательно ослабли. Никогда нигде в мире ни одна страна не славилась большей религиозной терпимостью, чем Романия. Любые мнения можно было беспрепятственно выражать вслух, все вероисповедания были уравнены в правах, а классовых противоречий практически не существовало: нам известен даже перечень условий, при которых простой человек мог стать «шевалье». Рыцарская жизнь процветала здесь, как нигде в другом месте. Рыцари Романии в равной мере чувствовали себя дома, будь то на Святой Земле и в Триполи, которые были, впрочем, лишь романской провинцией, или же в Руссильоне и Тулузе. Однако они отправлялись в полуденные страны скорее из страсти к приключениям, чем влекомые горением духа, и привозили оттуда чаще не набожное назидание, а неизгладимые впечатления о роскоши, мистике и умственной жизни Востока. Церковь требовала подчинения себе в духовной и светской сферах, что казалось рыцарству несовместимым с его представлениями о свободе и чести. Почти все бароны и рыцари Романии придерживались катарских верований, благоговейно принимали в своих замках «совершенных», собственноручно прислуживали им за трапезой и доверяли воспитание своих детей. Что же касается романских городов, то долгая и напряженная борьба горожан с феодальным рыцарством привела к утверждению городской независимости. Со все большим успехом горожанам, обогатившимся за счет торговли с восточными портами, удавалось защищать свои муниципальные свободы. Они подражали нравам благородных, соперничали с ними в учтивости и отваге, были, как и те, поэтами и могли стать «рыцарями», как только того захотят. Заботясь о поддержании независимости, они отвергали влияние клира, равно как и светских господ, однако смыкались с последними в своем нерасположении к церкви и духовенству. Как-то раз епископ города Альби был призван к одру умирающего родственника. На вопрос о том, в каком монастыре отходящий хотел бы обрести упокоение, епископ получил неожиданный ответ: «Не беспокойтесь об этом. Я хотел бы умереть у «добрых людей» и ими быть погребенным». Духовник возразил, что он не может дать на это своего согласия, однако смертельно больной сказал, что, если его будут удерживать, он отправится к «ним» ползком. Далее все развивалось по воле умирающего: о нем заботились, «утешили» и погребли «добрые люди»… Развращенность нравов в Церкви была, без сомнения, главной причиной нежелания Романии пребывать под властью Рима. Многие епископы посещали свои диоцезы лишь затем, чтобы собирать произвольно наложенные церковные подати, и держали при себе для этой цели настоящую армию разбойников. Беспорядки в среде священства не поддаются описанию: многие, враждуя, отлучали друг друга от Церкви. Чтобы не быть узнанными, священники скрывали тонзуру и носили мирское платье. Если им и удавалось избежать взглядов и насмешливых речей уличной толпы, то они были не в состоянии заставить умолкнуть порицающих их трубадуров. Сегодня мир уже не тот, Если проповедовал еретик, народ устремлялся к нему и восторженно внимал его словам; католическому же священнику с насмешкой задавался вопрос, как он дошел до мысли возвещать Слово Божие… Впрочем, Церковь признавала, что развращенность клира и забвение им своего долга способствовали успеху еретиков. Папа Иннокентий III говорил, что именно духовенство несет главную вину и что отсюда происходят беды христианства. Чтобы успешно противостоять сектам, клир должен был пользоваться уважением и доверием в среде верующих, чего он уже давно был недостоин. Однажды Бернар Клервоский сказал о катарах, что нет «более христианской проповеди», чем их, и что они были чисты своими нравами. Вот почему следует ли удивляться, что ересь катаров, которая в течение столетий пребывала в недрах романской культуры, победоносно распространялась и, наконец, стала рассматриваться в Романии как santa Glieiza? Случалось, что целые монастыри, закрываясь, примыкали к катарам, заболевшие епископы позволяли «добрым людям» заботиться о себе и принимали из их рук «утешение». Около 1170 года богатый лионский торговец Пьер Вальдо распорядился перевести на свой родной язык Новый Завет, с тем чтобы самостоятельно его читать. Вскоре он пришел к выводу, что апостольская жизнь, которой учили Христос и Его ученики, нигде более не встречается; он стал проповедовать свое понимание Евангелия. Пьер имел многочисленных учеников, которых в качестве миссионеров рассылал по миру; им удавалось найти последователей почти исключительно среди низших слоев общества{103}. Лишь изредка дворяне попадали в секту вальденсов. Ее члены проповедовали преимущественно на улицах и площадях. Между вальденсами и катарами часто происходили диспуты, однако на них всегда господствовало взаимопонимание. Рим, который часто смешивал вальденсов Южной Франции с катарами, дал им общее наименование «альбигойцев». На самом же деле речь шла о двух совершенно разных и друг от друга независимых ересях, у которых общим было только то, что Ватикан поклялся искоренить оба учения. В своем «Наставлении инквизитору» известный инквизитор Бернард Ги формулирует основные черты вальденского учения следующим образом{104}: «Презрение к церковной иерархии было главным заблуждением вальденсов, за которое они были отлучены от Церкви и отданы сатане… Они учат, что клятва и судопроизводство были запрещены Богом и верят, что могут в подтверждение этому привести слова Евангелия. Также приверженцы этой секты не признают таинства исповеди и власти Церкви разрешать от грехов. Они утверждают, что получили от Бога право выслушивать исповедь, отпускать грехи и налагать епитимьи, при этом открыто заявляя, что власть «вязать и решить» имеют не от Церкви, ведь они из нее исторгнуты. Также они заблуждаются относительно таинства евхаристии, поскольку утверждают, что хлеб и вино не могут стать Плотью и Кровью Христа, коль скоро они освящаются грешным священником. Также придерживаются вальденсы ложных взглядов о том, что после земной жизни не существует чистилища и что мессы истинно верующих и раздача милостыни ничем не могут помочь умершим. Также с презрением относятся они к прелатам, священникам, монахам и монахиням Римской церкви, говоря, что это суть лишь слепые поводыри слепых, которые никак не в состоянии возвещать истинное Евангелие и подлинную апостольскую бедность. Также они похваляются, что являются наследниками апостолов и блюдут подлинную апостольскую и евангельскую бедность. Также едят и пьют вальденсы, как всякий другой. Тот, кто хочет и может поститься, делает это по понедельникам и средам. Впрочем, все они едят мясо, поскольку утверждают, что Христос не запретил от него вкушать. Также рекомендуют они «верующим» воздержание, однако, как бы постыдно ни было плотское соитие, позволяют с его помощью умирять разжение страсти. Они говорят словами Священного Писания, что лучше освободить, чем страдать течкой. Также их «совершенные» не трудятся и ни во что ставят деньги, это происходит из страха быть узнанными и схваченными. Также они называют друг друга «братьями», а в целом именуют себя «бедняками Христа», или «Лионскими бедняками». Также не учат и не молятся они никакой другой молитвой, кроме как «Отче наш». Они не признают приветствия Деве Марии «Благословенна ты, Мария!», равно как и Символа веры, поскольку, по их словам, эти молитвы были введены Римской церковью, а не Христом. Когда кто-либо хочет изобличить другого как вальденса, он должен потребовать от него лишь изложения Символа веры, как о том учит Католическая церковь. В ответ он услышит: «Я этого не знаю, никто меня этому не учил». В то время как клир Романии то ли по беспечности, то ли из страха перед могущественными покровителями еретиков оставался в большей или меньшей степени бездеятельным, успехи «еретиков из Тулузы и из Альби» внушили серьезные опасения прелатам Северной Франции, пo их настоянию папа Александр III созвал в 1163 г. собор в Тулузе{105}, на котором заседали во главе с папой 16 кардиналов, 184 епископа и более 400 аббатов. В итоге было принято следующее решение: «Ересь, достойная осуждения, нашла приют в Тулузской земле и отравляет оттуда Гасконь и другие южные провинции. Посему мы повелеваем, чтобы епископы и духовенство запретило мирянам под страхом отлучения от Церкви принимать еретиков и торговать с ними». Двумя годами позже духовенство Романии предприняло, в свою очередь, попытку положить предел усилению ереси, однако оно чувствовало себя слишком слабым, чтобы помышлять о преследованиях. Оно не видело другого выхода, как пригласить предводителей катаров на публичную дискуссию{106}; епископ Альби созвал для этого известнейших еретиков в Ломбере. По его приглашению присутствовали также Констанция, сестра Людовика VII и супруга графа Раймона V Тулузского, и Раймон Тренкавель, виконт Альби, Безьер и Каркассона; кроме того, практически все вассалы графов Тулузских. Прибывшие катары упорно отказывались отвечать перед прелатами в форме допроса и требовали дискуссии. Духовенству пришлось скрепя сердце уступить. Обсуждения продолжались до тех пор, пока катары не заявили, что нигде в Новом Завете нет указаний на то, что священники должны жить роскошнее князей, носить дорогие одежды, украшения и латы… Когда аббат Альби наложил на «добрых людей» церковное отлучение, они прокричали ему в ответ: «Вы сами еретики, и мы можем доказать это, опираясь на Новый Завет и Послания». Катарам была обеспечена свобода передвижения, и они смогли беспрепятственно вернуться в свои леса и ущелья. Духовенство же получило еще одно свидетельство тому, насколько слабым и презираемым оно было в этих областях. Тулуза стала оплотом ереси. И именно здесь цистерцианские монахи попытались обратить сектантов, однако стяжали лишь насмешки и издевки. Тогда Комиссия по обращению, придя к выводу, что лишь насилие способно очистить эти авгиевы конюшни, организовала в назидание другим показательный процесс над Петром Морандом (Пейре Маураном), самым зажиточным горожанином, семидесятилетним стариком. Жители привыкли называть этого катара «священником Иоанном»… «— Петр Моранд, на вас падает подозрение, что вы принадлежите арианской ереси, — начал допрос легат, кардинал Петр из Сен-Хризогона. — Нет. — Петр Моранд не лгал, ведь он действительно не был арианином. — Можете ли вы в этом поклясться? — Достаточно и моего слова, ведь я рыцарь и христианин». Петр Моранд долго оставался непоколебим. Когда же в ход пошли угрозы конфисковать его имущество, разрушить его «палаццо» и крепости, он не выдержал и отрекся. Старика повели нагим по улицам Тулузы к церкви Святого Стефана. Там по приказанию кардинала его подвергли наказанию лозой, однако ему было обещано отпущение грехов при условии, что он не позже, чем через 40 дней, покинув родину, отправится в Святую Землю, где будет в течение трех лет служить «Иерусалимским беднякам». Ежедневно вплоть до отъезда его должны были бичевать на улицах города… Имущество подлежало конфискации, однако ему обещали все вернуть по возвращении из Палестины. Суровость миссионеров имела желанные результаты. Толпы тулузских горожан поспешили заключить мир с Церковью. Свидетельством того, в какой мере искренним было это обращение, может служить факт, что Петр Моранд, вернувшись из Святой Земли, трижды избирался горожанами в городской совет (capital). Наказание Петра Моранда стало сигналом к дальнейшим преследованиям. Кардинал Сен-Хризогонский отлучил от Церкви всех катаров Тулузы. Они отправились к Рожеру-Тайлеферу и Аделаиде в Каркассон. Виконт Каркассона был весьма толерантен в религиозных вопросах{107}. Католичество, ересь катаров и иудаизм мирно уживались друг подле друга в его областях и пользовались равными правами. Иудей Каравита стал его казначеем, а еретик Бертран де Кайссак — министром. Когда миссионеры потребовали от Рожера-Тайлефера выдачи беглецов, те отправились в сопровождении Аделаиды в Кастр. Сеньоры Кастра держали лен от виконта Каркассона. Они, не порывая с миром, стояли на стороне катар. Один из них, Гильаберт, был патриархом еретиков Романии. В одном из ущелий Орнольяка располагалась подземная церковь. Безуспешно склоняли цистерцианцы Аделаиду и ее баронов к выдаче еретиков. Наконец они вынуждены были оставить Кастр. Созванный между тем папой Александром III Третий Латеранский собор (1179) подтвердил суровые меры против еретиков Гаскони, Тулузы и Альби, отлучил от Церкви графа Тулузы, виконта Безьер, графа Фуа и большинство баронов Романии. Папа Александр, которому тулузские миссионеры в ужасающих красках изобразили дерзость и все возрастающее могущество сект, счел необходимым снова направить особого легата в еретические провинции, чтобы воплотить в жизнь постановления собора. Опять он возложил эту миссию на цистерцианцев во главе с аббатом Анри из Клерво. Чтобы придать своей деятельности больший вес, Анри, который на Латеранском соборе был возведен в сан кардинала-епископа Альбано, стал проповедовать «крестовый поход против альбигойцев»{108}. Так это оружие Церкви впервые было обращено против христиан… Кардинал Анри отправился во главе с воинственными пилигримами против Лавора, одной из наиболее укрепленных крепостей виконта Каркассона. Поскольку Рожер-Тайлефер как раз в этот момент враждовал с графом Тулузским, он не смог прийти на выручку осажденному городу; оборону крепости взяла в свои руки Аделаида. Лавор, однако, был не в состоянии долго сопротивляться армии католиков, и виконтесса вскоре была вынуждена распахнуть ворота перед крестоносным воинством. Падение Лавора вынудило Рожера-Тайлефера просить о мире, он даже отрекся от ереси, что было не чем иным, как тактическим маневром. Виконт хотел обезопасить от дальнейших бед свою землю, превращенную крестоносцами в груды развалин. Он не ошибался, полагая, что дипломатия могла принести ему и еретикам лишь выгоду. Подчинившись формально, он избавился на некоторое время от опеки римских миссионеров. Герб Лотарио Конти — орел, мечущий молнию, — стал, должно быть, символом его владычества «над землей и небом». Под именем Иннокентия III он оказался местоблюстителем Престола Божия. Однако в отношении катар он явился не посланцем Бога, радостную весть о рождении которого воспевают в рождественскую ночь ангельские хоры, а, скорее, слугой Бога-громовержца, который, будь то на Синае или на Олимпе, держит наготове молнию для тех, кто не считается с его величием. В произнесенной им в день восшествия на престол речи он недвусмысленно указал на власть, дарованную ему, как он полагал, небом: «Бог поставил меня над народами и империями с тем, чтобы я не только вырывал и уничтожал, но также строил и возделывал. Мне было сказано: «Я хочу вручить тебе ключи от Царствия Небесного; итак, то, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе». Стало быть, я стою между Богом и людьми, меньший, чем Бог, но больший, чем человек…». С гневом наблюдал он за распространением ереси катаров и видел Церковь, единственно дарующую блаженство, в опасности. Он считал это учение достаточно опасным, чтобы вырвать его, как сорную траву, и ввергнуть в пламя. Едва истекло два месяца его пребывания на престоле, как Иннокентий III посылает письма прелатам, князьям, дворянству и всему народу Южной Франции, в которых он повелевает сжигать каждого еретика, не желающего вернуться к истинной вере, а его имущество расхищать. Кроме того, шестью месяцами позже он дает легату Райнерию полные права на проведение радикальной церковной реформы и восстановление духовной дисциплины в Романии; тем самым он надеялся покончить с «источником зла». Романскому духовенству отнюдь не улыбалась перспектива реформаторской Деятельности Райнерия, оно попыталось всеми мыслимыми способами отягчить эту миссию; дело дошло до того, что клир чуть было не выступил против Священного Престола единым фронтом с еретиками. Летом 1202 г. Райнерий заболевает, ему на смену назначаются два монаха-цистерцианца — Петр и Рауль — из находящегося близ Нарбонны аббатства Фонфруад. Петр и Рауль начали свою деятельность в Тулузе. Раймон VI уже через два года после того, как он унаследовал от своего великого отца, покровителя трубадуров, графство Тулузское, был отлучен папой Целестином III «за преступления против Церкви и монастырей». Иннокентий III освободил его в 1198 г. от церковного проклятия… Раймон находился в тесных взаимоотношениях с катарами. В его разъездах ему всегда сопутствовали несколько «совершенных», и, кроме того — в чем его, главным образом, и упрекала Церковь, — он носил при себе текст Нового Завета, чтобы в случае болезни или же смертельного ранения быть в состоянии получить из рук «совершенных» «утешение» (consolamentum). Раймон постоянно принимал участие в еретических собраниях, для проведения которых предоставлял роскошные залы своего дворца. Как все «верующие», он преклонял колена, когда «совершенные» произносили молитвы, брал у них благословение и приносил «поцелуй мира». Раймон увещевал своих вассалов и трубадуров следовать его примеру и не боялся открыто выражать свою антипатию к Риму и дружеское отношение к катарам. Папские легаты оказались не в состоянии что-либо исправить. Иннокентий III заявил, что необходим новый всемирный потоп, «чтобы очистить землю от греха и приуготовить ее для нового рода». Он решился теперь употребить всю строгость Церкви… Монахам из Фонфруада, упавшим духом и просившим его о позволении сложить полномочия, он назначил в качестве предводителя «аббата аббатов» Арнольда из Сито, главу цистерцианского ордена, мрачного и непримиримого человека, полного решимости служить делу Церкви. В конце мая 1204 г. Иннокентий организует новую комиссию с чрезвычайными полномочиями, в которую вошли Арнольд, некоторые другие монахи из Сито, Петр из Кастельно и монахи из фонфруада. Однако образ жизни легатов не мог обеспечить им успеха в среде еретиков. Они путешествовали по стране в роскошных палатках с целым полчищем слуг. О каком успехе могла идти речь, когда романские еретики упрекали римский клир в первую очередь именно в роскоши. «Посмотрите, — кричал народ, — эти люди хотят нам проповедовать о Господе Иисусе Христе, который был беден и шел босым!» Каждый раз, когда цистерцианцы пытались обратиться к людям, их слушатели отворачивались от них, пожимая плечами и насмешливо улыбаясь. Легаты стали, наконец, осознавать, что их хлопоты безнадежны. Совершенно измучившись, они более чем когда-либо утвердились в своем намерении просить папу об отставке. В этой ситуации они случайно встречают в Монпелье Диего де Асеведо, епископа Осмара и сопровождающего его каноника Доменико де Гусмана, которые возвращались из Рима, где папа Иннокентий отказал им в позволении покинуть свое епископство и посвятить себя впредь делу обращения еретиков. Диего, узнав, что легаты хотят бросить начатую миссию, посоветовал им распустить роскошную свиту, оставить мирскую помпу и отправиться к народу босыми и бедными. Быть может, так они добьются большего успеха. Мысль была столь нова, что посланники поначалу не решались последовать данному совету. Когда же Диего выказал готовность пойти вместе с ними, подавая пример, сомнения были отброшены. Начиная с этого момента Петр из Кастельно, Арнольд из Сито, Диего де Асеведо, Доменико де Гусман и монахи Фонфруада и Сито скитались во власяницах по еретичествующей Романии, проповедуя истинное Евангелие Римской церкви. Римские легаты, катары и вальденсы одновременно претендовали теперь на то, что они являются подлинными наследниками Христа. Подражая ему в бедности, все они проповедовали Евангелие.
По двое или по трое бродили посланцы папы по южным провинциям. Однако успех оставлял желать лучшего… Они вынуждены были принять от катаров приглашение к участию в публичном диспуте, целью которого было выяснить, кто из соперничающих проповедников стоит ближе к евангельскому учению. Из многочисленных собраний такого рода самым важным стало Памьерское (1207){109}. Памьер, городок в северной части графства Фуа, расположенный на берегах реки Арьеж, стал с 1204 г. вдовьей резиденций Эсклармонды, инфанты Фуа и виконтессы Иль-Журдена-и-Гимёза. Нам известно, что Эсклармонда была женой виконта Жордана, отпрыска знаменитого дома Комменж и Селио. После смерти супруга она отказалась от благоприятных для нее условий завещания, покинула Гасконь и поселилась с ведома своего брата Раймона-Рожера в Памьере. Под владычеством Эсклармонды эта небольшая крепость стала мистической метрополией Романии, катарским центром, соперничающим по своей значимости с рыцарственной Тулузой. Сюда из ущелий Сабарте и Черных гор к виконтессе приходили философы-еретики, чтобы вместе размышлять о мудрости Платона и евангелиста Иоанна. Сюда-то, заручившись разрешением брата, Эсклармонда и пригласила папских легатов и самых известных из катаров. Подробности этого диспута нам недостаточно известны, однако даже по одному обстоятельству можно судить, насколько затруднительным было положение римских посланцев. Когда Эсклармонда поставила в упрек Риму кровавый поход против Альби, один рассерженный монах ей возразил: «Госпожа, Вам следовало бы оставаться за Вашим веретеном! И нечего Вам искать на подобных собраниях». Среди папских легатов на встрече присутствовали епископ Осмара, а также Доменико де Гусман; никакими сведениями о том, что последний принимал участие в диспутах, мы не располагаем. Быть может, время чудес св. Доминика еще не пришло. Для катаров дискуссия в Памьере была еще одним свидетельством серьезности сложившегося положения. Уже годом раньше Госелин, патриарх еретиков Аквитании, собрал во владениях Пьера-Рожера из Мирпуа несколько сотен «совершенных» и множество «верующих». Многие подозревали, что Церковь, осознав невозможность одолеть ересь с помощью миссионеров и дискуссий, вскоре обратится к насильственным мерам. Поэтому было принято решение испросить позволение у Эсклармонды и ее вассала Раймона из Перельи использовать в бедственные дни в качестве последнего убежища замок Монсегюр. Патриарх отправился с многочисленной свитой из еретичествующих епископов, диаконов и рыцарей сначала к Раймону, а затем — в Памьер к Эсклармонде, в чьем владении находилась гора Табор. Раймон, один из усерднейших сторонников ереси в среде мирских владык, выразил свою готовность обустроить крепость Монсегюр и укрепить внешние оборонительные сооружения. Эсклармонда, дав свое согласие, достигла осуществления своей мечты — обезопасить «город утешенных» и гору Табор. Так был укреплен Монсегюр, «крепость защищенной горы» (castellum montis securi), оберегавшая подступы к святой горе Табор, этому Парнасу Романии. В течение полустолетия эта твердыня, как своеобразный ковчег, оказалась в состоянии противостоять потокам крови и преступлений, которые вскоре должны были, обрушившись на Романию, уничтожить ее Цивилизацию. Доменико де Гусман остановился в Фанжо, откуда он мог наблюдать за развитием событий в Монсегюре. Здесь, изобретя четки, он заручился поддержкой Девы Марии в деле искоренения ереси. Именно в Фанжо, должно быть, появилась на свет инквизиция, которая на протяжении последующих веков преследовала мир как настоящий кошмар. Между тем Петр из Кастельно, недолго думая, отлучает графа Тулузского от Церкви, а на его земли налагает интердикт. 29 мая 1207 г. папа утверждает приговор своего легата, предрекая графу Божье отмщение как в земной жизни, так и за гробом. От себя лично он обещает обратиться к князьям с просьбой изгнать отступника из Тулузы и с предложением разделить его земли между ними, чтобы они впредь были свободны от ереси. В папском письме значилось:
Развитие событий стремительно приближалось к катастрофе. Напрасно Раймон пытался смягчить легатов тем, что выражал готовность принять все условия Церкви. Папские посланцы не обращали внимания на его просьбы, открыто именуя его трусом и клятвопреступником. Именно в этот момент Петр из Кастельно, посланник наместника Божия, погибает от рук неузнанного убийцы, однако Рим сумеет отомстить за его смерть{110}… Папа Иннокентий III отлучает Раймона, убийц и их соучастников. Обряд отлучения «колоколом, книгой и свечой» повторяется во всех церквах Запада каждое воскресенье; на все местности, оскверненные присутствием отлученных, налагается интердикт; вассалы Раймона освобождаются от принесенной ими присяги. Что касается Раймона, то он может помышлять о прощении не прежде, чем подтвердит свое раскаяние изгнанием еретиков из своих земель. После этого папа призывает к оружию всех христиан. Он отдает распоряжение, чтобы все епископы проповедовали крест против этого непримиримого врага Церкви и его подданных — еретиков, которые «хуже сарацин». Он направляет послания к королю и баронам Франции, заклиная их более не колебаться, но как можно скорее напасть на графство Тулузское, изгнать Раймона, а его подданных истребить, заселив земли католиками. Затем он пытается добиться примирения Филиппа II с королем Англии и побуждает их заключить союз против Тулузы. Аббат Арнольд спешно созывает генеральный капитул цистерцианского ордена, который принимает единодушное решение со всем усердием проповедовать новый крестовый поход. Епископы и священники принимают сторону фанатичных цистерцианских монахов. Вновь церкви оглашаются проповедями, призывающими католиков, взявшись за оружие, идти на дело Божие:
Чтобы облегчить набор рекрутов на священную войну, папа обещает им освобождение от грехов, равное отпущению за участие в палестинских походах, и ручается за их спасение в вечности. Ватикан взывает к верующим: «Вперед, храбрые солдаты Иисуса Христа! Ратоборствуйте с антихристовыми предтечами. Прежде вы сражались за мирскую славу, стяжайте теперь славу небесную. Я созываю вас на Божье дело, за которое вы получите не земное воздаяние, но обрящете Царство Небесное. Эту плату я обещаю вам от чистой совести и с полной убежденностью». Накликанная гроза повергла в трепет графа Тулузского. Он умоляет аббата Сито о прощении, однако Арнольд утверждает, что не в его власти освободить графа от отлучения и отсылает к папе. Юный Раймон-Рожер из дома Тренкавель, племянник Раймона Тулузского, советует дяде готовиться к сопротивлению «до конца», но его мужество уже дало трещины. Раймон спешно посылает в Ватикан послов с известием о своей готовности подчиниться власти Церкви. Иннокентий отвечает, что для начала граф должен подкрепить свою добрую волю передачей важнейших крепостей и только затем, в случае если ему удастся доказать свою невиновность, он может рассчитывать на снисходительность папы и на воссоединение с Церковью. Раймон принимает это условие, не подозревая, что папа лишь до тех пор будет обращаться с ним с наигранной мягкостью, пока не выдастся момент, благоприятствующий его уничтожению. Граф передает семь своих наиболее укрепленных крепостей легату Мило, который, в свою очередь, доверяет попечение о них аббатам и епископам. Обнаженный по пояс Раймон клянется на паперти церкви Святого Жиля служить отныне Церкви, искоренить ересь, изгнать со всех постов иудеев и принять участие в крестовом походе. Затем, подвергнув графа бичеванию, папский легат ведет его к алтарю, где именем папы освобождает от церковного отлучения. И вот Раймон принимает крест против собственных вассалов… В июле 1209 г. Раймон получает от Иннокентия III послание, в котором папа поздравляет обращенного с покаянием и подчинением церковной иерархии, выставляя ему на вид необходимость достичь спасения как во временной, так и вечной жизни. Тот же самый курьер, вручивший графу папское послание, передает Мило требование продолжать истязание Раймона. Поскольку за шестьдесят дней графу не удалось искоренить ересь, он снова отлучен от Церкви, а на его владения наложен интердикт. Лишь его полное уничтожение могло утолить месть Рима… Тем временем в Лионе собирается невиданное по своим размерам крестоносное воинство. Церковь, заверяя, что все крестоносцы добьются для себя вечной жизни и смогут уже через сорок дней вернуться домой с роскошной добычей, не ошиблась в своих расчетах. В Лилле принял крест некий грабитель, рассчитывая тем' самым избежать угрожающего ему ареста, однако в самый последний момент он был задержан. За это посягательство на неприкосновенность крестоносца и с целью вынудить власти к освобождению «альбигойского пилигрима» архиепископ Реймский отлучает от Церкви графиню Матильду Фландрскую, а на ее земли налагает интердикт. Из всех областей Западной Европы в Лион стягиваются новобранцы: из Иль-де-Франса, Бургундии, Лотарингии, Рейнланда, Австрии, Фрисландии, Венгрии и Славонии. Вся Европа, весь христианский мир отправляются против Прованса и Лангедока, чтобы изничтожить повод для смут, над устранением которого тщетно билась Церковь на протяжении последних трех поколений. 24 июня 1209 г. крестоносцы покидают Лион, держа путь в сторону от Роны, к Провансу. Не принимая в расчет духовенство, 20 тысяч рыцарей и более чем 200 тысяч горожан и крестьян состоят в армии. Но какой хаос царит в Христовой рати! Во главе движется мрачная фигура непримиримого аббата Сито, поставленного предводителем христианского войска. Подобно апокалиптическому всаднику, в развевающейся рясе, врывается он в страну, которая не желает поклоняться его Богу. Полчище архиепископов, епископов, аббатов и священников наступает вслед за ним с пением Dies irae. Подле князей Церкви, сияя сталью, серебром и золотом своего оружия, выступают светские властители. За ними следуют Роберт Онехабе, Ги Тринкейнвассер и многие другие рыцари-разбойники, окруженные свитой из разнузданных всадников. В арьергарде следуют горожане и крестьяне и, наконец, многотысячный европейский сброд: мародеры, развратники и продажные женщины. Не буду входить в другие подробности… 1 сентября 1883 г. папа Лев XIII заявил в своем выступлении, что альбигойцы хотели поколебать Церковь вооруженной рукой, Церковь же была спасена не оружием, но заступничеством Божией Матери — заступничеством, добытым благодаря изобретению доминиканцами четок{111}. Однако дело обстояло не так. Давайте проследим вслед за хронистами Вильгельмом Тудельским и Пьером де Во-Сернэ путь экзальтированных участников Альбигойского похода вплоть до. горных долин, затерянных в Пиренеях, до ущелий, где царит только смерть. Но для начала мы должны оговорить вот какой момент. Альбигойский поход, несмотря на свои религиозные мотивы и на то, что он был затеян Ватиканом, носит, в первую очередь, характер войны между Севером и Югом Франции. Северяне горели желанием завершить начатое шестью столетиями прежде, еще при Хлодвиге, завоевание; южане же (как католики, так и еретики), несмотря на многочисленные гарантии, которые принесли врагу дворянство и города, единодушно решили дать отпор натиску. Никакой религиозной ненависти между католиками и еретиками в Южной Франции не было. Они (я не беру, конечно, в расчет духовенство) вплоть до этого времени мирно уживались друг подле друга. Источники крайне редко сообщают о помощи, оказывавшейся крестоносцам со стороны ортодоксального населения Романии. И все же трудно отделаться от мысли, что католики должны были бы воспринимать рыцарей креста как освободителей от враждебного и ненавистного верования. Но в том-то и дело, что веротерпимость за свое многовековое существование на территории Романии вошла в обыкновение, а любовь к родине оказалась прочнее религиозных противоречий. Юный Раймон-Рожер из дома Тренкавель, виконт Каркассона и Безьер{112}, скачет навстречу крестоносцам в надежде отвратить несчастье от своих городов. Однако он вынужден вернуться ни с чем. В Безьер Раймона окружают его подданные. «Жива еще надежда?» — вопрошают они. «Сражайтесь не на жизнь, а на смерть. Бог да будет с вами!» — слышат они в ответ от виконта, который устремляется к Каркассону. Безьер поджидает крестоносцев. Дракон, изрыгающий огонь и погибель, приближается… Седовласый пастырь, Регинальд де Монпейру, городской епископ, принявший сторону крестового похода, просит впустить его в город. Он увещевает: «Рыцари уже на подходе, передайте в наши руки еретиков, а не то вы все погибнете». «Предать наших братьев? Пусть лучше мы в море утонем», — несется вслед епископу, покидающему на своем осле город. Взбешенный неожиданным ответом аббат Сито клянется уничтожить огнем и мечом всех: и католиков, и еретиков, а от города не оставить камня на камне. Вечером 21 июля крестоносцы оказываются у города. Мародеры, опасаясь, что останутся не у дел при дележе добычи, на свой страх и риск нападают на город. Другим пилигримам остается только последовать их примеру. Ворота не выдерживают натиска. Застигнутые врасплох жители — католики и еретики вперемежку — в ужасе бегут, стремясь укрыться в двух городских храмах. Какой-то барон спрашивает у аббата Сито: «Как же мы отличим еретиков?» В ответ, если только истинно сообщение Цезария Гейстербахского, он слышит: «Убивайте их всех, Господь сам разыщет своих!» Все горожане в церквах, где в это время священники в облачениях служили мессы по убиенным, были убиты. Мужчины, женщины, дети — всего, как пишет аббат Сито папе, двадцать тысяч. Не пощадили никого, даже священники пали пред алтарями; их не спасли ни распятия, ни дароносицы, протянутые к вторгшимся. Город отдан на разграбление. Пока крестоносцы выступают в церквах в роли палачей, мародеры отправляются на поиски добычи. И лишь вооруженная рука сможет отнять награбленное у разбушевавшихся бродяг, ведь никто так просто не откажется от обещанной добычи… Город занимается пламенем. В дыму пожарищ меркнет солнце этого ужасного июльского дня, спешащее поскорее укрыться за горой Табор… «С нами Бог! Посмотрите, что за чудо, — восклицают крестоносцы, — ни коршуны, ни вороны не слетаются к этой Гоморре!» А между тем колокола плавятся на колокольнях, и собор полыхает подобно вулкану. Вокруг потоки крови, горящие трупы, обрушивающиеся стены, поющие монахи, убивающие крестоносцы, грабящие разбойники… Так погибал Безьер… Так начался поход против Грааля. При отсутствии коршунов и воронов город отдан на растерзание собакам да волкам. Ужасающая гибель Безьер повергла в панику города Лангедока. Такого никто не ожидал. В том, что «крестовый поход» окажется войной, уже давно никто не сомневался. Но то, что Лувр и Ватикан будут соперничать в своем стремлении уничтожить Романию, вот это оказалось неожиданным. Прозрение пришло слишком поздно: крестоносное воинство, насчитывавшее триста тысяч ратников, было уже посреди страны и… граф Тулузский, теперь сам участник похода, упустил свой шанс. Вот что было хуже всего! В стенах города Каркассона, выстроенных королями готов и владетельным домом Тренкавель, полным-полно беженцев. И виноградари из Лорагэ, и пастухи из Черных гор и предгорий Пиренеев со своими стадами и нехитрым скарбом хотели укрыться в надежном месте от приближающегося аркана{113}. Вечером 1 августа, во вторник, дозорный с самой высокой башни дворца оповестил о приближающемся воинстве. Лишь ранним утром в четверг в лагере крестоносцев на противоположном берегу реки Од началось оживление. «Явись, источник мужества… (Veni creator spiritus…)», — зазвучал гимн крестоносцев в тишине утра. Это было знаком к нападению. Пилигримы переправились через реку и начали осаждать пригород Гравейед. После двухчасовой битвы войска виконта вынуждены были уступить силе врага. Гравейёд был стерт с лица земли. На следующий день, в пятницу, крестоносцы надеялись сходным образом овладеть и другим городским предместьем — Сен-Венсен. Они пробирались сквозь дымящиеся развалины Гравейеда и устремлялись на стены Сен-Венсена. Но последние оказались лучше защищенными. Натиск не удался. Арагонский король, родственник Раймона-Рожера, узнав о «кровавой бане», устроенной в Безьер, тотчас перешел через Пиренеи. Он надеялся, что своим заступничеством сможет спасти от подобной участи Каркассон. Окруженный свитой из сотни арагонских и каталонских рыцарей, он въезжает в лагерь крестоносцев. После непродолжительного отдыха в палатке графа Тулузского он поднимается к осажденному городу, по которому тотчас распространяется радостное известие: — На помощь к нам идет король, ведь мы его вассалы и друзья! — Виконт, — обращается король к своему родственнику, — ради Господа нашего Христа, скажите, разве я не советовал Вам неоднократно изгнать из города еретиков с их безумным учением? А теперь я полон беспокойства, найдя Вас и Ваш город в такой опасности. Я не вижу иного выхода, как только примириться с баронами Франции. Крестоносное войско столь могущественно, что я сомневаюсь в счастливом для Вас исходе противостояния. Ваш город защищен, уж я-то это знаю, но все же в нем слишком много женщин и детей. Вы позволите мне начать переговоры? — Сир, — отвечает ему виконт, посоветовавшись с баронами, — делайте то, что Вы считаете благим. Мы доверяем Вам. Монарх возвращается в лагерь. Князья и бароны Франции благосклонны к его предложениям, но не хотят ничего предпринять без одобрения папских легатов. Арагонский король отправляется на поиски аббата Сито, чтобы описать ему сложившееся положение. Молча внимает ему аббат, затем удостаивает таким ответом: — Принимая во внимание великое наше почтение к королю Арагона, мы позволяем его деверю, виконту Каркассона, с двенадцатью спутниками на его выбор беспрепятственно покинуть город. Сам же город и все жители в нем принадлежат крестоносцам. Опечаленный король снова отправляется к осажденным… Вот что он слышит от Раймона-Рожера: — Сир, неужели Вы думаете, что я способен предать хотя бы малейшего из моих подданных? Лучше уж я убью себя самого. Умоляю Вас, скачите обратно домой. Я сумею защитить город своими силами. Король целует родича и с горем на душе отправляется через графство Фуа домой. Он скачет мимо Монсегюра и ущелий Сабарте, где как раз производятся оборонительные работы… Крестоносцы возобновляют свой натиск. На сей раз их встречает туча стрел и камней, кипящая вода и «греческий огонь». Рыцари вынуждены отступить… — Господь за нас, Христовы солдаты! Смотрите, вот новое чудо: Бог, повелитель стихий, приказал им нам помогать. У нас есть вода, поскольку Од в наших руках, но там, высоко, в гнезде еретиков, иссякают последние источники, так как Господь запретил тучам поить грешников, — воодушевляет своих ратников аббат Сито. В осажденном городе разыгрываются тем временем отвратительные сцены. Теснота от скопления людей, смрад, исходящий от околевающих животных, тучи мух и крайняя нехватка воды приводят к возникновению эпидемии. Голося и стеная, носятся по улицам женщины и дети… Один из крестоносцев направляется в качестве парламентера к восточным воротам города. Он ищет встречи с виконтом. По его словам, он прибыл по поручению короля Франции и приглашает Раймона-Рожера для переговоров в свой лагерь. Виконт требует от него клятвы. — Клянусь Всемогущим Богом… — возвещает посланец. Раймон-Рожер, посовещавшись со своими баронами и советниками, решает отправиться к крестоносцам. И вот он прибывает в сопровождении сотни всадников к палатке аббата Сито. Французские бароны с жадным любопытством рассматривают этого самого известного и храброго рыцаря Романии. Виконт подступает к цистерцианскому аббату: — Что угодно Вашему Преосвященству? — Схватить его и всех его рыцарей. Так благодаря предательству был обезврежен и виконт Каркассона, и сто его спутников. При этом крестоносцы намеренно позволили бежать нескольким рыцарям, чтобы они принесли в город весть о пленении виконта. Когда Каркассон узнал о потере своего предводителя, стало ясным, что его судьба окончательно решена, что он претерпит ужасную Участь Безьер. Советники и консулы держали совет. Приближалась ночь… Крестоносцы ожидали передачи Каркассона. Однако разводные мосты остаются поднятыми, ворота запертыми. Не видно ни стражи, ни часовых… В городе тишина, как на некрополе. Крестоносцы подозревают военную хитрость. Они недоверчиво приближаются к стенам, прислушиваются: ни шороха. Взломав ворота, воины вступают в город, — он пуст. Нет ни души даже в цитадели… На известие о падении Каркассона сюда спешат легат, бароны, священники и монахи. Их первая забота — заточить виконта в самое глубокое подземелье его собственного бурга, далее им необходимо обустроиться во дворце и, наконец, вырвать город из рук мародерствующих солдат. Все озабочены загадкой: в городе нет ни единой человеческой души. Шаги вторгшихся, гулко отдающиеся в пустых переулках, наводят на мысли о призраках… Предводитель христианского войска увещевает крестоносцев с балкона графского дворца: — Бароны, солдаты, выслушайте меня! Вы видите: нам ничто не противостоит. Бог-громовержец творит чудеса. Его именем я запрещаю вам грабить, иначе я отлучу и прокляну вас. Мы должны передать всю добычу достойному барону, который получит милостью Божией завоеванную землю. Армия выражает свое одобрение. Полководцы в смущении недоумевают: как тысячи людей могли исчезнуть, будто их поглотило землетрясение? А в сущности, они были недалеки от истины. В предыдущую ночь осажденные ушли по подземному ходу в Черные горы, на поросшие лесом склоны Корбьер и в ущелья горы Табор. Крестоносцы обнаруживают в подвалах лишь пятьсот старцев, женщин и детей, для которых побег был бы слишком труден. Человек сто отрекаются от ереси. Их раздевают донага и пускают бегать по городу «одетыми только в свои грехи». Но четыреста человек остаются при своих убеждениях, их вешают или сжигают живьем. Крестоносцы в соборе Святого Назария благодарят Небо за милостивую помощь. Их молитвам вторят вопли жертв, благоухание возжиганий смешивается с чадом костров. Арнольд из Сито служит мессу Святому Духу и проповедует о Рождестве Христовом. В храме мессу Святому Духу поют, Это происходило месяца августа пятнадцатого дня в год нашего спасения 1209, в день Успения Девы Марии, покровительницы крестового похода… Каркассон пал. А в иные времена Карл Великий в течение семи лет безуспешно осаждал город, после чего Каркассон добровольно сдался гениальному императору, принеся рыцарскую дань этому первому «рыцарю без страха и упрека». Теперь же он пал ценой предательства. Изменой захвачен самый красивый и рыцарственный пятнадцатибашенный город Романии, в котором прежде были дворы готских королей и султанов, где Аделаида гостеприимно принимала королей и трубадуров и из стен которого род Тренкавель бдительно охранял «землю Сальваша». Стяжавшие победу пилигримы воздвигают на самой высокой башне Каркассона символ своего триумфа — крест. Грааль в опасности! После благодарственной службы в церкви Святого Наза-рия аббат Сито созывает всех прелатов и баронов на собрание. Ему представляется, что уже пришло время дать завоеванной стране новых повелителей, однако герцог Бургундский и графы Невера и Сен-Поля, которым Арнольд в первую очередь предложил виконтство Безьер и Каркассон, недовольствуя, отвергли его предложение: они ведь вышли в поле покарать еретиков, а вовсе не для того, чтобы разграбить территории, на которые у них не было никаких прав. Была образована коллегия, в чью обязанность входило назначить нового властителя. Арнольд из Сито, два аббата и четыре рыцаря избрали «при очевидном содействии Святого Духа», как пишет хронист, Симона де Монфора, графа Лей-честерского. В 1201 г. Симон де Монфор присоединился к крестовому походу Балдуина Фландрского. Однако когда из-за отсутствия денег, необходимых для похода в Палестину, французские крестоносцы решились продать свои военные услуги Венецианской республике и получили задание отвоевать отошедший в 1118 г. к Венгрии город Задар, Симон запротестовал. Заявив, что он отправился сражаться с неверными, а не для того, чтобы вести войну с Венгрией в интересах Венеции, он покинул лагерь. Когда началась проповедь священной войны против альбигойцев, цистерцианскому аббату удалось разыскать Симона де Монфора в замке Рошфор. Поначалу он отверг предложение принять участие в крестовом походе. Однако затем взял в руки Псалтирь, открыл ее наугад и попросил аббата перевести попавшийся псалом. «Ибо ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое… избавлю его и прославлю его» (Пс. 90:11–15). Так звучал псалом, на который указал палец Симона. Итак, Симон де Монфор принял «во славу Божию, к чести Церкви и на погибель ереси» крест против альбигойцев. Этот суровый воин, который не умел ни читать, ни писать, стал безжалостным разрушителем Романии. Католическая церковь вплоть до нынешнего дня почитает этого фанатика, который на протяжении десяти лет беспощадно свирепствовал на просторах одной из самых мирных и красивых областей Европы — Романии, был «солдатом Иисуса Христа», «спасителем Рима». 10 ноября 1209 г. смерть внезапно настигла Раймона-Рожера, благородного отпрыска дома Тренкавель{114}. — Он отравлен! — сетуют жители Романии. — Да будут прокляты те, кто утверждает такое! — возражают крестоносцы. И все же папа Иннокентий III имел мужество написать в одном из своих писем, что виконт Безьер и Каркассона был «злосчастным образом заражен» (miserabiliter infectus). Тренкавель «Парцифаля» умирал в глубочайшей темнице своей крепости, должно быть, как раз в тот самый момент, когда туда прибыл Симон де Монфор. Честнейший рыцарь Романии вынужден был подобно Сократу, благороднейшему мыслителю Греции, принять чашу с ядом. Увы, о рыцарство! В могиле ты теперь, Первым покинул стан крестового похода граф Невера со своими вассалами. Герцог Бургундский и далее французские бароны один за другим последовали его примеру. Они считали, что уже отслужили установленный для спасения души срок — сорок дней, и никакие увещевания Церкви не могли убедить их, что дело Божие нуждалось еще в их присутствии. Даже мародеры, захватив достаточное количество добычи, предпочитали отправиться домой. Архиепископы, епископы, аббаты, священники и монахи оставались вокруг Монфора в неизменном числе, тогда как его войско насчитывало всего лишь 30 рыцарей да 4500 пилигримов, большей частью бургундцев и немцев, которым он должен был платить за службу двойное жалованье. Когда Симон находился в зените своего успеха, папским легатам также сопутствовала удача: они организовали собор в Авиньоне, на котором принудили всех рыцарей, дворянство и городских чиновников завоеванных земель принести клятву в том, что те приложат все усилия к искоренению ереси. Однако эта клятва оказалась пустой формальностью, а присяга, насильственно вырванная у новых вассалов Симона, была какой угодно, но только не искренней. Романия медленно приходила в себя от пережитых ужасов. Разгоралась партизанская война, которая ставила де Монфора во все более ненадежное положение. Иногда могущество Симона распространялось не далее наконечника его копья{115}. Однажды ему лишь с трудом удалось удержать от бегства свой гарнизон в Каркассоне. Когда же он собрался отправиться на осаду Термэ, было нелегко найти рыцаря, который бы согласился принять в свои руки командование в городе. Несмотря на все эти трудности, Симону де Монфору удалось завоевать несколько крепостей и даже вступить на время в графство Фуа. Весной 1212 г. его положение начало улучшаться, ведь к нему направлялись новые толпы пилигримов. В конце 1209 г. Раймон VI посещает папу и жалуется на «нехристианский» образ действий Симона де Монфора. Граф надеется, что с тех пор, как французский король и его могущественнейшие вассалы перестали скрывать свое возмущение жестокостями Симона и постыдными, пренебрегающими всякой законностью, деяниями легатов, он может надеяться на большее снисхождение у папы. Раймон предпринимает попытку показать Иннокентию III, сколь несправедливые преследования претерпел он со своими подданными от рук папских посланцев. Граф уверяет, что выполнил все условия, возложенные на него легатом Мило в Сен-Жиле, и просит папу освободить его от все еще над ним довлеющего обвинения в убийстве Петра из Кастельно. Святейший отец чрезвычайно сердечно принимает графа, открывает ему знаменитые мощи и позволяет к ним прикоснуться. Он именует его «любимым сыном» и предписывает своим легатам созвать не позднее чем через три месяца собор, чтобы дать графу Тулузскому возможность оправдаться. Неужели папа не мог сам выслушать алиби Раймона? Но это и не входило в намерения папы, он ни в коем случае не хотел отойти от той линии, которой он держался прежде и которая имела своей целью полное уничтожение графа. Исполненный подозрений, граф поспешает покинуть Вечный город «из опасения там заболеть». Легаты, вместо того чтобы готовить предписанный папой собор, обращаются к населению Тулузы с многочисленными речами, надеясь, что смогут настроить людей против своего господина. На улицах Тулузы духовное братство, назначенное «для обращения еретиков», вступает в фактическое противоборство с сохраняющими верность графу горожанами. Затем, как пишет монах Пьер де Во-Сернэ, биограф Симона де Монфора, «Господь указывает им путь и открывает средство, с помощью которого они смогут обесценить оправдания графа». Этот внушенный свыше легатам способ заключается в том, что они снова требуют от Раймона окончательного изгнания всех еретиков со своей территории. Можно только восхищаться радостью простодушного монаха благочестивым обманом, столь хитро примененном и ловко осуществленном («О, благочестивый обман легатов! О, обманчивое благочестие!»). Это высказывание позволяет нам заглянуть в тайны римской дипломатии и узнать кое-что из методов ее борьбы против альбигойцев. Симон де Монфор также способствовал со своей стороны унижению Раймона VI. Огнем и мечом прокладывал он себе путь через графство Тулузское. Во время начавшейся осады города Минерва к нему примкнул приведший подкрепление аббат Сито. Возглавивший оборону Вильгельм был не прочь передать город в руки крестоносцев, но при условии, что его подданным будет дарована жизнь. Арнольд, страстно желая смерти всех еретиков, считает все же несовместимым со священническим достоинством отдать приказ об умерщвлении всех осажденных{116}. Итак, по его предписанию, жизнь должна быть сохранена всем католикам и тем из еретиков, которые согласятся отречься от своих верований. Рыцари де Монфора протестуют: «Мы прибыли сюда истреблять еретиков, а не раздавать им милости. Под страхом неотвратимой смерти они разыграют свое обращение!» «Я достаточно хорошо их знаю, никто из них не обратится», — утешает воинов аббат Сито. Он действительно хорошо изучил натуру еретиков. Все они, за исключением трех женщин, отказались купить себе жизнь, отрекшись от своей веры, и, торжествуя, без принуждения пошли на костер. Затем наступила очередь Термэ. Его сравняли с землей… Прежде Термэ представлял собой неприступную крепость, вокруг которой лежал превосходно укрепленный город, а далее располагалось окруженное могучими стенами предместье. Все это было окружено рекой. Хозяин замка, седовласый Раймон, был готов к защите. «Божие воинство» не заставило себя ждать. Однако к серьезным действиям крестоносцы смогли приступить не прежде, чем к ним пришло пополнение из бретонцев, французов и немцев. Ведение осады было поручено искушенному знатоку осадных орудий Гильому, аббату Парижскому. Он проповедует, бранится, дает указания плотникам и кузнецам, подбадривает солдат — короче, он разумеет свое дело. Он приказывает окружить город самыми современными таранами и катапультами. Проходят месяцы. Осажденные издеваются над усилиями идущих на приступ: «Наш город крепок, вы только разобьете себе лоб. И провианта у нас больше, чем у вас!» Горожане хорошо знают, что в лагере крестоносцев свирепствует голод, листья и трава заменяют недостающий хлеб. Но Бог заботится о своих закованных в латы пилигримах, он снова запрещает тучам поить еретиков, источники иссякают. Осажденные утоляют жажду вином, но и оно грозит скоро кончиться. Голод устрашающ, но жажда еще страшнее. «Завтра мы сдадимся», — оповещает крестоносцев Раймон, хозяин города. Однако на следующее утро он не торопится исполнить обещанное. Поднявшись на главную башню крепости, он смотрит по ту сторону гор Корбьеры. Над Бугарачем покоится чуть заметная бледная тучка. Он знает, что она обозначает… Туча становится больше и больше, заволакивает собой все небо. Разверзаются небесные хляби. Чуть не умершие от жажды жадно пьют из чанов божественную влагу. Но это-то и принесло им погибель: в городе начинается дизентерия, население редеет. Охваченные паникой горожане совершают попытку ускользнуть от окружающей их в Термэ со всех сторон смерти. Некий пилигрим замечает их ночную вылазку и поднимает на ноги весь лагерь. И снова горят костры… Де Монфор, ликуя, возвращается в Каркассон. Раймона из Термэ замуровывают в подземелье. Когда его сын хотел позднее освободить помилованного отца из его могилы, он нашел лишь жалкие останки. Между тем легаты, исполняя требование папы, созывают в сентябре 1210 г. собор в Сен-Жиле. С холодной невозмутимостью они заявляют, что граф Тулузский выказал себя клятвопреступником, ведь он не изгнал всех еретиков, а освободить клятвопреступника от подозрения в том, что он убийца, невозможно. Не слушая его оправданий, они снова его отлучают. Человек большей внутренней крепости разразился бы, вероятно, при разоблачении столь недостойного обмана пылким гневом. Раймон же, потрясенный внезапным уничтожением своих надежд, напротив, расплакался. Судьи указывают на это, как на новое доказательство его «врожденной порочности». По настоянию папы легаты организуют в январе 1211 г. в Арле еще один собор. Заставив графа долго ожидать за дверью на стуже и холодном ветру, они выдвигают перед ним новые, заранее неприемлемые требования: «Граф Тулузы должен распустить все свои войска и выдать духовенству всех лиц, на которых падет обвинение в еретичестве. В Тулузском графстве позволяется употреблять в пищу лишь два вида мяса. Все жители, как дворяне, так и горожане, не имеют отныне права носить модное платье, но должны довольствоваться грубо вытканными балахонами. Укрепления городов и замков должны быть срыты. Жившие до сих пор в городах дворяне должны отныне жить, подобно крестьянам, на открытой земле. Каждый глава семьи обязуется ежегодно отсылать легатам четыре серебряные монеты. Симон де Монфор может беспрепятственно передвигаться по землям Раймона, и, если в чем и ущемит собственнические права последнего, граф не должен этому противодействовать, но пусть, напротив, отправится послужить к иоаннитам или тамплиерам в Палестину и вернется, когда легаты ему это позволят. Его владения будут принадлежать аббату Сито и Симону де Монфору так долго, как им будет это угодно». Новое унижение пробудило дух Раймона. Он увидел невозможность продолжать переговоры с лишенными всякой чести противниками. Он дает распоряжение обнародовать эти продиктованные высокомерием и ненавистью условия, что действует сильнее, чем призыв к оружию. «Мы скорее покинем с графом нашу родину, чем станем подданными попов и французов», — заявляют вассалы Раймона. Горожане Тулузы, графы Фуа и Комменжа, и все сыновья Белиссены обещают Раймону свою поддержку. На сторону графа открыто переходят те из католических прелатов, которые порицали «нечестивый» крестовый поход. Легаты с удвоенным рвением проповедуют по всей Западной Европе крестовый поход. Им удается набрать новые войска в Германии и Ломбардии. Симон нуждается в подкреплениях: он желает захватить Лавор. Крестоносцы стремились во имя умершего на кресте Сына Божия осуществить кровавую месть в Лаворе. Говорят, что владелец этой крепости, один из нареченных потомков Белиссены, сказал как-то, смотря на крест: «Я ни за что не хотел бы получить спасение от этого знака!» Лавор был одним из укрепленнейших городов Романии{117}. Но кто мог возглавить его оборону? Владелец замка пал под стенами Каркассона, оставалась донна Геральда, его жена, слабая женщина. Город был переполнен беглецами-трубадурами, опальными рыцарями и едва избежавшими смерти на костре катарами. Аймерик, брат донны Геральды, получает известие, что Симон де Монфор угрожает его родному городу. Он спешит на выручку, чтобы защитить сестру, народ и родину, и едва успевает попасть в город, так как осада уже началась. Де Монфор пока бережет свои силы, поджидая немецких пилигримов, направляющихся к нему из Каркассона. Эти немцы так никогда и не пришли. В одном из лесов на них напал граф де Фуа. Две трети пали на месте убитыми и ранеными, остальных войска графа де Фуа преследовали через весь лес. Одному пилигриму удалось добраться до капеллы, но инфант Фуа преследует его по пятам. — Ты кто? — спрашивает граф. — Пилигрим и священник. — Докажи это! Немец стягивает с головы капюшон и указывает на тонзуру. Юный инфант Фуа раскраивает ему череп. Де Монфор приказывает выстроить две передвижные осадные машины и укрепить на верхушке одной из них крест. Камень, пущенный горожанами из катапульты, переламывает одну из его боковых перекладин. «И эти собаки, — как пишет хронист, — начинают смеяться и горланить, как будто они одержали тем самым великую победу. Однако Распятый сумеет отомстить им чудесным образом, ведь за это они примут наказание в день Обретения креста». Так как осадные башни не в состоянии приблизиться вплотную к стенам из-за глубоких рвов, крестоносцы прокладывают машинам дорогу, забрасывая канавы стволами, кольями и сучьями. Кольцо сжимается. Осажденные с помощью железных крюков стаскивают врагов с осадных орудий и низвергают в бездну. Когда положение города еще более усугубляется, осажденные делают под стенами подкоп в сторону рва и втаскивают в крепость стволы деревьев. Вражеские башни обрушиваются, а храбрецы с безрассудной дерзостью пытаются под покровом ночи поджечь осадные орудия. Однако два немецких графа предупреждают их намерение. Де Монфор и легаты начинают терять мужество. Все, что бы они ни кидали в ров, за ночь оттуда исчезает. Наконец, некий хитрый крестоносец вносит предложение принести в подземный ход дров и сырой листвы и поджечь. Дым оказывается лучшем стражем. Башни снова могут продвигаться вперед, но из-за зубцов городских стен на осаждающих градом летят камни, горшки с огненной смолой и кипящим Маслом, льется расплавленный свинец. Но тут случается новое чудо. Легаты и епископы Каркассона, Тулузы и Парижа запевают гимн крестоносцев: «Явись, источник мужества…» Тотчас рушится под ударом баллисты стена. Защитники Лавора, словно зачарованные песнью, прекратив сопротивление, позволяют врагу войти в город и связать их. Лавор взят, как об этом и пророчествовал хронист, в день Обретения креста, 3 мая 1211 г. В течение двух месяцев городу удавалось оказывать сопротивление пятнадцати тысячам крестоносцев. Но теперь Симон де Монфор, немецкое и французское дворянство, епископы, аббаты, монахи, горожане, крестьяне, просто солдаты и цыгане — армия Христа — вторгаются в город. Жители без различия религиозных убеждений, возраста и пола становятся жертвой меча. Какой-то крестоносец узнал, что множество женщин и детей укрылись в подвале. Он просит Симона де Монфора о милости к несчастным, граф уступает. Этот рыцарь, чье имя не считает важным упомянуть ни один из двух хронистов (ни монах из Во-Сернэ, ни трубадур Вильгельм из Туделы), совершил единственное чудо за время столь обильного «чудесами» Альбигойского похода. Этот неизвестный рыцарь — единственный «честный человек» среди участников крестового похода против Грааля. Аймерик из Монреаля, брат хозяйки замка, приведен вместе с восемьюдесятью рыцарями, дворянами и трубадурами к месту казни, где стоят уже приготовленные виселицы. Аймерика вешают первым. Виселица, которая должна была выдержать тела восьмидесяти повешенных, обламывается: плохо сработали плотники. У де Монфора нет времени ждать, он приказывает заколоть рыцарей. Рядом с вождями крестового похода стоит закованная женщина. Это донна Геральда, хозяйка замка. Ее бросают в колодец, а затем начинают заваливать камнями до тех пор, пока не становится неразличимым жалобный стон. Она умирает дважды, так как носит под сердцем ребенка. Снова возжигается «огонь радости»: в городе захвачены 400 катаров. Всех, кто не сможет прочесть наизусть Ave Maria, сожгут «с великой радостью». Однако ликование мучеников, что они наконец покидают этот ад, гораздо выше радости их палачей. Они возвращают друг другу «поцелуй мира» и с возгласом «Бог есть Любовь!» сами ввергают себя в пламя. Матери прикрывают глаза своим детям, пока огонь не сомкнет их навеки и не откроет ей навеки рай. Немым обвинителем возвышается на Западе пока не оскверненная кровавым угаром и дымом костров гора Монсегюр. Обвинитель — и в то же время свидетель, указующий на то место, где еще присутствуют свет, любовь и справедливость. «Господь прощает им, ведь они не ведают, что творят. Я же говорю вам: вас будут убивать и верить, что творят этим приятное Богу, но вы будьте верными до смерти, и Я вас увенчаю венцом Царства Небесного. Diaus vos benesiga», — успокаивает испуганных катаров в расселинах священной горы Табор Гильаберт из Кастра. После падения Лавора крестовый поход спешит навстречу новым мерзостям. Когда его путь пролегает мимо леса, в котором пали шесть тысяч немецких пилигримов, Фульку, прежнему трубадуру, которого Данте поместил в раю, а теперь епископу Тулузскому, открывается сияние славы, и он, не мешкая, сообщает об этом новом чуде папе. Иннокентий III уже давно начал осознавать, что его «представители», ослепленные гордостью и фанатизмом, зашли слишком далеко. Папа вдруг осознал, что он сам вознамерился было стать Богом, но теперь вынужден признать, что он всего лишь человек, волшебник, который прежде призывал духов, а теперь сам одержим ими{118}… В ночной тиши возле креста Христова Если переселение душ не выдумка, то в Иннокентии III воплотилась душа Диоклетиана. А имя бога, чьими ратниками считали себя пилигримы, — не Яхве, не Ваал, не Тор и даже не Люцифер. Имя ему — Молох из долины Хинном. До Альбигойского похода Прованс и Лангедок походили на цветущий и безмятежный остров посреди штормового моря. Кровавые ужасы священной войны с еретиками составляют одну из величайших и самых страшных трагедий, когда-либо пережитых человечеством. Прекрасная и обильная земля, свободный, покинувший ночь средневековья и страх светопреставления народ, единственный достойный считаться наследником «простоты и величия» античности, и даже, может быть, сама христианская культура были уничтожены по мановению гениального теократа и завистливых фанатичных соседей{119}. Христос посеял любовь, мир пожинает ненависть. Христос отменил древний закон новым, а мир делает Новый Завет еще более ужасным, чем Ветхий. На кострах крестоносцев вместе с цветом Романии были уничтожены нежные ростки ее поэзии, которые с этих пор начали увядать. Вместе с Альбигойским походом исчезло чувство ненарушимого покоя, растворенности в любви и блаженстве; Романия потеряла присущее ей очарование предрассветного безмолвия и умиротворенности, здесь обосновались ханжество и жажда крови. Война против альбигойцев нанесла смертельный удар романской поэзии, от которого она так никогда и не оправилась. Не зная пути, идем мы без цели Крестовый поход лютовал и дальше, но, что касается последовательного описания событий, я хочу ограничиться тем, что я успел рассказать. До сих пор я характеризовал историю крестового похода с той мерой достоверности, какую только позволяли ограниченные рамки повествования. Однако Раймон-Рожер из Каркассона, Аймерик из Монреаля, донна Геральда из Лавора — лишь трое из ста тысяч мучеников Лангедока… Все еще живы Раймон Тулузский, Петр Арагонский, Симон де Монфор. Еще крепки стены Монсегюра, еще хранит Эсклармонда святой Грааль. Петр Арагонский, пользуясь большой милостью в Ватикане, открыто перешел на сторону Тулузы. Будучи монархом Романии, он не мог остаться безучастным, когда Раймон оказался лишенным своих земель. По мере усиления Симона де Монфора, который передавал завоеванные лены исключительно в руки французов и изменял порядки подчиненных провинций на французский лад, собственные его интересы были поставлены под угрозу. На принятие Петром антиримской ориентации решающим образом повлиял, насколько можно судить, страшный конец Раймона-Рожера. А мы ведь знаем, что арагонский король являлся сеньором Безьер и был связан с молодым виконтом семейными и дружественными отношениями. Петр был известен в Романии как рыцарь без страха и упрека. В битве при Лас-Навас-де-Толоса в 1212 г., которая надломила владычество арабов в Испании, он стяжал величайшую славу среди присутствовавших королей и рыцарей и получил прозвище el Catoli'co. Пылкость своего религиозного чувства он подтвердил в 1204 г., когда в сопровождении блестящей свиты отплыл в Рим и принес папе Иннокентию III ленную присягу. За это при короновании он был удостоен причастия под обоими видами и получил от папы скипетр, мантию и другие королевские инсигнии. Монарх с благоговением возложил их на алтарь святого Петра и препоручил в его руки свое королевство; папа же пожаловал его мечом и титулом первого знаменосца Церкви. В самом начале конфликта вокруг Романии Петр, веря в силу своих взаимоотношений с Ватиканом, отправляет к Иннокентию посольство, жалуется на поведение легатов, которое он характеризует как своевольное, несправедливое и противоречащее истинным интересам религии. Затем он направляется в Тулузу с намерением вступиться за своего поверженного зятя Раймона. Королевские посланцы побуждают Иннокентия, чтобы он приказал де Монфору вернуть прежним владельцам все земли, которые были отняты у «не-еретиков». Они призывают папу потребовать от Арнольда, чтобы тот не препятствовал запланированному Римской курией крестовому походу против сарацин под предлогом, что это-де затянет войну в Тулузском графстве. Эти действия папы и активное участие в них Петра Арагонского производят глубокое впечатление на легатов; церковной иерархии Лангедока пришлось напрячь все свои силы, чтобы разрешить кризис. Арагонский король передал в январе 1213 г. петицию папским легатам, в которой просил отнестись милостиво, а не справедливо к лишенным имущества дворянам. Петр представляет легатам отречение Раймона от своих владельческих прав в пользу короля Арагона, подтвержденное городом Тулузой, и аналогичные документы, составленные от имени графов Фуа и Комменжа. Эти акты обеспечивали их составителям свободу действий на случай, если они будут вынуждены поступать вопреки предписаниям папы. Прежние собственники должны были быть восстановленными в самих правах не прежде, чем удовлетворят требованиям Церкви. Никакое подчинение не могло быть полнее, никакие гарантии — более всеобъемлющими. Но легаты были слишком одержимы фанатизмом, тщеславием и ненавистью. Гибель тулузской династии была им слишком желанна, чтобы они могли ошибиться в следовании своей цели. Легаты не обратили вообще никакого внимания на гарантии, содержавшиеся в петиции Петра. Арнольд из Сито ответил королю Арагонскому очень резким письмом, в котором угрожал ему церковной опалой в случае, если тот не прекратит сношений с отлученными и подозреваемыми в еретичестве. Тем временем обе партии перешли к активным действиям, не ожидая окончательного решения из Рима. Во Франции вновь началась проповедь крестового похода; дофин Людовик, сын Филиппа-Августа, принял крест в числе многочисленных баронов. На противоположном фланге Петр заключил более тесный союз с Раймоном и отлученным дворянством. В сентябре 1213 г. дело дошло до решающей битвы между крестоносцами и романской коалицией. Она произошла при Мюрэ и принесла победу крестовому походу. И это неудивительно, ведь на его стороне были чудеса, воскурения и молитвы, которые почитались тогда выше любви к родине и мистики романцев. Если мы доверимся хронистам, то и в битве при Мюрэ Монфор победил с помощью чуда. Как они сообщают, альбигойское дворянство в надежде снискать большую милость в глазах короля передало для его услуг своих жен и дочерей. Поэтому в утро перед битвой он был столь истощенным, что не мог держаться на ногах во время совершения мессы; как уж тут говорить об участии в сражении, деле, достойном короля. Король пал в битве, сраженный двумя знаменитыми французскими рыцарями — Аленом де Руси и Флораном де Виллем. В 1218 г. умер Симон де Монфор{120}. Он поссорился с Арнольдом из Сито, который за это время стал архиепископом Нарбоннским, и получил от него проклятие. Но этот успех был, видимо, последним в карьере аббата. Тулуза, которую он смог присоединить к своим владениям после битвы при Мюрэ, вскоре отошла от него. Когда в Иванов день 1218 г. Арнольд вознамерился вновь подчинить ее, он был убит камнем, пущенным, будто бы, женской рукой. Огромна была скорбь верующих по всей Европе, когда распространилась весть, что «знаменитый воин Христа», «новый Маккавей», «исполнение веры», пал как мученик. Шестью годами позже смерть настигла и Раймона VI, некогда графа Тулузы, герцога Нарбонна, маркиза Прованса, а теперь самого несчастливого и бедного монарха Европы. Он уже не мог говорить, когда аббат Сент-Сернена пришел его соборовать. Присутствовавший в комнате госпитальер набросил на умирающего свой плащ с вышитым крестом, надеясь, что таким образом он обеспечит за орденом право на погребение. Шансы ордена на соучастие в решении посмертной судьбы останков повышались и тем, что госпитальеры не были обойдены молчанием в графском завещании. Однако аббат Сен-Сернена с криком сорвал плащ и стал настаивать на своем праве погребать графа, коль скоро смерть наступила в его доме. Расследование, предпринятое в 1247 г. папой Иннокентием IV, на основании высказываний 120 свидетелей выяснило, что «Раймон был в высшей степени набожен и милосерден, и к тому же верный слуга Церкви». Это, однако, не изменило ничего в том устрашающем положении дел, что бренные останки графа оставались непогребенными, пребывая в руках госпитальеров, и все более и более растаскивались крысами. К концу XVI века в качестве «достопримечательности» можно было продемонстрировать лишь череп. Париж и Рим продолжали проповедь крестовых походов против альбигойцев вплоть до 1229 г., когда в Мео-на-Марне состоялись, наконец, серьезные мирные переговоры между Раймоном VII Тулузским и Людовиком IX Святым. 2 апреля 1229 г. произошла торжественная ратификация договоров. Они предписали Раймону в покаянной одежде преклонить колена на площади Нотр-Дам перед папским легатом и просить о позволении быть допущенным в собор. Перед входом он должен быть раздет до исподней рубахи и в таком виде приведен к главному алтарю, где он будет освобожден от церковного отлучения. Затем граф должен поклясться в соблюдении условий мира. Он будет содержаться в Лувре до тех пор, пока не настанет день оговоренного в мирном договоре бракосочетания его дочери Иоанны с девятилетним братом Людовика Святого. Условия мира состояли в следующем. Раймон должен принести клятву верности королю и Церкви, дать обет в том, что разорит пристанище еретиков в Монсегюре и посулит вознаграждение в две марки серебром каждому, кто доставит еретика, живым или мертвым. Далее он обязуется выплатить монастырям и церквам Романии 10000 марок в качестве возмещения ущерба и, кроме того, пожертвовать 4000 марок на основание католической Академии в Тулузе. Ему было приказано относиться как к друзьям к тем, кто воевал против него во время крестовых походов. Стены Тулузы и тридцати других городов и крепостей должны быть срыты, а королю Франции как своеобразный залог сроком на десять лет передаются еще пять крепостей. Молчаливо принималось, что граф Тулузский лишается всех своих владений. Лишь из милости Людовик Святой оставил ему домены, расположенные на территории бывшего епископства Тулуза, с предписанием, однако, что по смерти графа они должны отойти к дочери Раймона и ее супругу и стать неотъемлемой частью французской короны. Такие области, как герцогство Нарбонн, графства Велэ, Геводан, Вивьер и Лодэв, переходят к королю, а часть маркграфства Прованс на запад от Роны получает в виде имперского лена Церковь. Так Раймон потерял две трети своих земель… В остальные города Романии, которые прежде, хотя и приносили ленную присягу графам Тулузы, но по существу были независимыми, назначаются королевские сенешали. Наконец, Раймон обязуется принять решительные меры, чтобы принудить к признанию французского владычества непокорных вассалов, в особенности графа Фуа. Ему тоже пришлось волей-неволей согласиться уже в следующем году на унизительный мир. Итак, верховное владычество французской короны было распространено на всю Южную Францию. Лувр победил! Рим же еще не считал, что уже настало время складывать оружие. Увы! Тулуза и Прованс! В лесу есть овраг, там темно и спокойно, Часть четвертая АПОФЕОЗ БИТВЫ ЗА ГРААЛЬ Рим всегда полагался на истинную веру и на чудо. Поэтому и крестовый поход против альбигойцев завершился победой, благодаря — в чем все хронисты полностью единодушны — чуду, сотворенному «богом грома» ради его почитателей. Однажды ночью 1170 г. испанской дворянке Хуане де Аза приснился удивительный сон: будто бы она носит под сердцем собаку, которая затем является на свет Божий с горящим факелом в пасти и предает огню весь мир. Когда же Хуана родила совершенно нормального мальчика, которого при крещении священник нарек именем Доминго (Доминик), его крестной матери также было чудесное видение. Она увидела на челе своего крестника Доминго крутящуюся звезду, своим блеском освещающую весь мир. Мы уже видели святого Доминика в 1206 г. при Монпелье, где он подбадривал павшего духом папского легата и предупреждал его о необходимости противостоять начавшемуся обращению в еретическую веру. Затем мы заметили его на конференции в Памьере, рядом с рассерженным монахом, который кричал главной еретичке Эсклармонде, что той лучше было бы оставаться при своем веретене и не встревать в теологические диспуты. И, наконец, мы наблюдаем, как он основал монастырь Нотр-Дам в Пруле, неподалеку от Монсегюра, и приступил к поиску неофитов среди альбигойцев. Нам осталось лишь добавить, что его связывала с Симоном де Монфором «набожная дружба» и что однажды, при Лаграфе в окрестностях Каркассона, он отслужил перед крестоносцами мессу на специально построенной платформе, в четырех углах которой уже были устроены костры, предназначенные для сожжения бедняг-еретиков. Мы не будем задаваться вопросом, каким чудесным образом Доминику удалось навербовать монахов в Прульский монастырь, получить высочайшее папское согласие на основание ордена доминиканцев и именем Божьей Матери сделать венок из роз символом постоянного преследования и беспощадного истребления еретиков. Мы только отметим, что он навещал пойманных еретиков почти каждый день, чтобы проповедовать им Священное Евангелие, что народ почитал его как святого и буквально рвал в клочья его одежду, чтобы взять с собой лоскутки и хранить их дома как реликвию. Вслед за его биографом Малуэндой, упомянем также, что именно святой Доминик стал широко известен как основатель инквизиции. Официально считается, что инквизиция возникла 20 апреля 1233 г., когда папа Григорий IX обнародовал вторую из двух булл, согласно которым доверил преследование еретиков монахам Доминиканского ордена. Из текста обоих папских посланий следовало, что верховный понтифик еще не имел никакого представления о целях грядущего Обновления. В первой же булле папа обосновывает необходимость уничтожения ереси всеми средствами, для чего нужно поддерживать и усиливать Доминиканский орден. Затем он обращается к епископам со словами: «Мы видим, что вы втянуты в сумятицу мелких дрязг и не в состоянии противиться гнету обстоятельств, берущих над вами верх. Посему мы должны помочь вам справляться с вашей тяжелой ношей и приняли решение о том, чтобы направить монахов-миссионеров против еретиков Франции и сопредельных провинций. И поэтому мы просим, предостерегаем, призываем и приказываем: принимайте этих проповедников дружелюбно, обходитесь с ними достойно, проявляйте к ним благосклонность, оказывайте помощь советом и делом, тем самым помогая им выполнять свой долг». Вторая булла папы Григория IX была адресована приорам и монахам-миссионерам. В ней говорится о заблудших сынах Церкви, которых все время опекают еретики. Далее папа пишет: «Поэтому вы обладаете всеми необходимыми полномочиями, проповедуйте везде, где это возможно, духовное начало, которое не покидает людей, несмотря на ваши опасения о противодействии со стороны ереси, устраняйте еретические приходы, безотлагательно боритесь с ними и, если это необходимо, призывайте на помощь «Мировую руку»». Когда Доминиканский орден получил от папского престола указание начать бороться с ересью на юге Франции, то членам этого ордена казалось, что поставленная перед ними задача — выше человеческих сил. Уже в течение многих генераций эта ересь беспрепятственно могла обосноваться там и пустить корни, заняла все ключевые позиции в таких масштабах, что необходимо было систематически воспитывать в духе истинной веры целые романские народы. Каждому инквизитору внушалось, что проявления роскоши в человеческом быту не должны иметь для него ни малейшего значения, что его первая задача — парализовать ужасом волю людей. Великолепные убранства, помпезные процессии и пышная свита — все это удел прелатов. «Рядовой» же инквизитор постоянно должен был иметь скромный внешний вид, присущий его ордену, и, находясь в пути, довольствоваться в качестве сопровождающих лишь несколькими вооруженными всадниками — для своей защиты и для исполнения своих приказов. За несколько дней до появления в городе или деревне инквизитор ставил в известность о своем запланированном визите местные церковные власти и через них передавал народу свое требование собраться в определенный час на торговой площади. Тому, кто исполнит приказ, обещалось искупление грехов. Тем, кто не придет, грозило отлучение от Церкви. К собравшимся инквизитор сначала обращался с проповедью об истинной вере, распространение которой население должно всеми силами поддерживать. Затем он требовал, чтобы все жители в течение двух дней предстали перед ним и рассказали без утайки, что они знают или слышали о ком-либо, подозреваемом в ереси, а также на чем основано такое подозрение. Если кто-то не выполнял этот приказ, его отлучали от Церкви ipso facto, т. е. всего лишь за ослушание. Послушных же, напротив, премировали индульгенцией, действующей в течение трех лет. Можно представить себе, в какой ужас повергалась каждая община после известия о неожиданном прибытии инквизитора, объявившего свои требования. Никто не знал точно, какие наветы о нем «приобщены к делу». Как сказал однажды папа Григорий IX, «…в конечном итоге родители будут вынуждены предавать своих детей, дети — родителей, мужья — своих жен, а жены — мужей». На допросе, кроме инквизитора и вызванного в суд, обязательно присутствует ведущий протокол, записывающий все переговоры во время разбирательства, которые ему диктует инквизитор и «которые лучше всего отражают истину». Давайте же послушаем пример такого диалога, который как образец искусства допроса донес до нас тулузский инквизитор Бернард Ги, добавивший необходимые комментарии. «Когда еретика приводят в первый раз, его лицо принимает такое уверенное выражение, будто бы он абсолютно невиновен. Я же обычно спрашиваю, на каком основании, по его собственному мнению, он вызван на суд инквизиции. Обвиняемый: Господин, я был бы рад узнать от Вас об этих причинах. Я: Вы обвиняетесь в том, что являетесь еретиком, а Ваша вера и учение не такие, как у Святой церкви. Обвиняемый (который, услышав этот вопрос, обращает глаза к небу и придает своему лицу набожное выражение): Господь Бог, ты один знаешь, что я невиновен и что я никогда не обращался ни к какой другой вере, кроме истинного христианства. Я: Вы называете Вашу веру христианской, поскольку считаете нашу веру ложной и еретической. Цоэтому я спрашиваю Вас: утверждали ли Вы когда-нибудь, что истинной является другая вера, кроме той, которую объявляет истинной Римская церковь. Обвиняемый: Я убежден, что истинна та вера, которую исповедует Римская церковь. Я: Возможно, некоторые члены Вашей секты живут в Риме. И это Вы называете Римской церковью. Как следует из моих проповедей, вполне может случиться так, что некоторые из вещей, о которых я говорю, одинаковы и в моей и в Вашей вере. Например, что есть только один Бог. Поэтому Вы верите в нечто из того, что проповедую я. И все же это не мешает Вам быть еретиком, поскольку в других отношениях Ваша и моя вера расходятся. Обвиняемый: Я верю во все то, во что должен верить христианин. Я: Мне известны Ваши уловки. Во что верит Ваша секта — в то, по-вашему, и должен верить христианин. Но мы только теряем время, занимаясь словесной перебранкой. Скажете прямо: Вы верите в единого Бога — Отца, Сына и Святого Духа? Обвиняемый: Да! Я: Верите ли Вы в Иисуса Христа, рожденного Девой Марией, страдавшего на кресте, воскресшего и вознесшегося на небо? Обвиняемый (радостно и поспешно): Да! Я: Верите ли Вы в то, что во время исполняемого священником обряда причастия хлеб и вино с помощью Божественной силы превращаются в тело и кровь Иисуса Христа? Обвиняемый: Почему я не должен верить в это? Я: Я не спрашиваю, почему Вы не должны верить в это, я спрашиваю, верители ли Вы в это. Обвиняемый: Я верю во все, во что мне прописали верить Вы и другие хорошие доктора. Я: Эти «хорошие доктора» — учителя Вашей секты. И если моя вера в чем-то совпадает с их, то Вы верите и мне. Обвиняемый: Вы наставляете меня так, что я должен верить, как Вы, если это пойдет мне на пользу. Я: Вы считаете нечто хорошим, если я утверждаю то же, чему учат и Ваши наставники. Итак, скажите: верите Вы, что на алтаре находится тело Господа нашего Иисуса Христа? Обвиняемый (поспешно): Да! Я: Вам известно, что все тела берут начало от нашего Господа. Поэтому я спрашиваю Вас, действительно ли тело, находящееся на алтаре, — тело нашего Господа, рожденного от Девы Марии, распятого на кресте, восставшего из мертвых и вознесшегося на небо? Обвиняемый: А Вы, господин, разве не верите в это? Я: Я верю во все это. Обвиняемый: Тогда я тоже верю в это. Я: Вы верите, что я верю в это. Но об этом я не спрашиваю Вас. Я спрашиваю Вас о большем: верители Вы сами в это? Обвиняемый: Когда Вы переиначиваете мои слова, я уже действительно больше не понимаю, что именно я должен сказать. Я простой и малознающий человек. Я прошу Вас, господин, не вить мне веревку для петли из моих собственных слов. Я: Если Вы простой человек, то и отвечайте мне просто, без уловок. Обвиняемый: Охотно. Я: Можете ли Вы поклясться, что Вы не познали ничего такого, что бы противоречило вере, которую мы считаем правильной? Обвиняемый (побледнев): Если я должен поклясться, то я это сделаю. Я: Я не спрашиваю, должны ли Вы поклясться, а спрашиваю, хотите ли дать клятву. Обвиняемый: Если вы прикажете мне поклясться, то я дам клятву. Я: Я не хочу принуждать Вас к клятве, Вы могли бы присягнуть ради греха, а потом оправдаться тем, что я принудил Вас к этому. Если же Вы сами хотите присягнуть, то я приму Вашу клятву. Обвиняемый: Почему же я должен присягнуть, если Вы мне этого не приказываете? Я: Почему? Ну хотя бы для того, чтобы снять с Вас подозрение в причастности к еретикам. Обвиняемый: Господин, я не знаю, как я должен поклясться, поскольку Вы не учили меня этому. Я: Если бы присягал я сам, то поднял бы вверх палец и сказал: я никогда не имел ничего общего с ересью, не верил ни во что, противоречащее истинной вере, да поможет мне Бог! После этого обвиняемый начинает заикаться, чтобы клятва не была произнесена дословно и правильно, но тем не менее создалось впечатление, что он присягнул. Некоторые обвиняемые переставляют слова так, что кажется, что суть клятвы не меняется, или даже превращают клятву в форму молитвы, например: «Господи, помоги мне, чтобы я не был еретиком!» Если спросить обвиняемого, поклялся ли он, то он ответит: «Разве Вы не слышали, как я поклялся?» Если же продолжать настаивать, то он наверняка начнет взывать к состраданию судьи: «Господин, если я сделал что-то неправильное, то готов покаяться; только помогите мне снять с себя обвинение, которое бросает меня, невиновного, на произвол судьбы». Деятельный инквизитор никогда не должен допускать подобного давления на себя. Он должен действовать намного решительнее, пока не принудит таких людей к уступке и к публичному отречению от своих заблуждений, чтобы они — если позднее будет установлено, что их клятва была ложной — без дальнейшего разбирательства могли быть переданы «Мировой руке». Если же некто готов поклясться, что он не еретик, то я говорю ему: «Если Вы хотите присягнуть, только чтобы избежать костра, то ни десяти, ни сотни, ни тысячи клятв не будет достаточно, поскольку Вы рассчитываете освободиться от обязательств присяги, данной Вами под принуждением. И поскольку у меня есть неоспоримые доказательства вашей причастности к ереси, Ваша клятва не спасет Вас от смерти на костре. Вы только усилите муки Вашей совести, но не сможете спасти Вашу жизнь. Но если Вы признаете свои заблуждения, то к Вам, отчасти, будет проявлено милосердие». И мне доводилось видеть людей, которые в конце концов делали признание, после того, как на них оказывалось такое давление». До нас дошли слова клятвы, которые должен был произнести небезызвестный Жан Тесьер из Тулузы, обвиненный в ереси: «Я не еретик, поскольку у меня есть жена, с которой я сплю, у меня есть дети и я ем мясо, бывает, что я лгу, и я клянусь, что я верующий христианин, да поможет мне Бог!» Если «верующие» еретики не препятствуют своему обращению, дают клятву, громко заявляя о чистой истине, и предают своих наставников, то они отделываются сравнительно легким наказанием: бичеванием, паломничеством или денежным штрафом. Бичевание заключалось в том, что каждое воскресенье во время проповеди и чтения Евангелия, каявшийся, с обнаженным торсом и палкой, должен был являться перед священником, который бил его в присутствии всей общины. В первое воскресенье каждого месяца, после богослужения, еретик должен был посетить каждый из домов, в которых он хотя бы однажды общался с другими еретиками, и там вытерпеть побои священника. При прохождении процессий его должны были бить во время каждой остановки, Паломничество имело длинные и короткие маршруты. В первом случае целью паломничества были Рим, Сантьяго де Компостелла, могила святого Фомы Кентерберийского или Святые Три Короля в Кельне. Такие паломничества требуют для своего совершения многие годы, поскольку весь путь требуется пройти пешком. Был случай, когда к путешествию в Сантьяго де Компостелла был приговорен мужчина старше девяноста лет — и только за то, что обменялся парой фраз с еретиком. Так называемые короткие маршруты паломничества заканчивались в Монпелье, Сен-Жиле, Тарасконе-на-Руане, Бордо, Шартрезе или Париже. После возвращения каждый паломник должен был представить инквизитору свидетельство того, что он завершил паломничество согласно предписанию. Если же признание и отречения не были добровольными, обвиняемого наказывали poenae confusibiles, из которых ношение креста было самым распространенным и самым унизительным. Еретик должен был носить на груди и на спине желтые кресты, шириной 2 дюйма и высотой 10 дюймов. Если во время процесса выяснялось, что обращенный давал ложную присягу, на крестах добавлялась сверху еще одна поперечная перекладина. Такой «крестоносец» подвергался насмешкам всех жителей, и ему повсюду создавали трудности в добывании всего жизненно необходимого. Небезызвестный Арнольд Исарн пожаловался однажды, что хотя он и носил такие кресты всего один год, он уже больше не может жить нормальной жизнью. Однако обычно приговаривали к пожизненному ношению креста. Из креста, который раньше на плаще и на щите гордо носили крестоносцы, отправлявшиеся в Палестину, сделали символ стыда и позора… После того как «верующих» арестовывают и сажают в темницу, инквизиторы начинают склонять их к обращению в истинную веру. Их допросы характеризуются двумя особенностями. Либо они признают сразу свою вину и выдают сообщников, либо их передают в руки наемных мастеров пыток. В 1306 г. папа Климент V заявил, что в Каркассоне содержащихся в неволе вынуждают сделать признание не только путем лишения еды и сна, но и под пытками. Поскольку церковные каноны запрещали духовным лицам принимать участие в пытках и даже всего лишь присутствовать при допросах, во время которых применяются пытки, папа Александр IV придумал, как решить эту проблему. Он заявил, что его властью всем инквизиторам, нарушающим это церковное предписание, гарантируется отпущение грехов. Перед началом пыток осужденным демонстрируют пыточные инструменты и приспособления (дыбу, «качели», горячие угли и так называемые «испанские сапоги»), при этом еще раз предлагают сознаться во всех грехах. Если еретик упорно не соглашается с обвинениями, наемные мучители срывают с него одежды, а инквизитор еще раз требует от него признания. Если и это предупреждение не возымеет действия, то начинают пытки. По правилам осужденного можно было подвергать пытке лишь один раз. Но это «затруднение» инквизиторы с легкостью преодолевали, применяя пытку «один раз для каждого из пунктов обвинения». Если после вынесения решения еретик кается, а также в случае разбирательства дела «совершенного», который отрекается под присягой, то подозревают, будто бы это сделано из страха перед смертью. Поэтому обвиняемого все равно приговаривают к заточению: либо к murus largus, либо к murus strictus, в обоих случаях его содержат только на хлебе и воде, которые инквизиторы называли «хлебом боли» и «водой скорби». Murus largus представляло собой сравнительно легкое наказание, в то время как наказание murus strictus содержало в себе все, что могла придумать человеческая жестокость. Невольника сажали в тесную крошечную тюремную камеру без окон и приковывали к стене его руки и ноги. Кормили его через небольшое отверстие, сделанное специально для этой цели. По сути, murus strictus было могилой, которую в шутку называли vade in pacem: ступай отсюда с миром… Согласно папскому предписанию, такие камеры должны были быть как можно меньше и темнее. Этим рекомендациям инквизиторы следовали буквально. Поэтому они приговаривали осужденных к еще более страшному наказанию, которое они сами называли murus strictissimus. О том, какие мучения должны были испытывать жертвы этого заключения, сами инквизиторы благоразумно умалчивали в своих отчетах. Может быть, это и к лучшему. Если еретик-«совершенный» упорствовал, отстаивая свою веру, то его судьбу вверяли «Мировой руке». Приговор, обозначенный таким словосочетанием, был не более чем эвфемизмом смерти на костре. Если светские власти медлили с вынесением смертного приговора какому-либо еретику, Церковь бесцеремонно вмешивалась всеми имеющимися в ее распоряжении средствами для того, чтобы добиться послушания. Согласно представлениям инквизитора Тулузы Бернард Ги, его братья по службе при исполнении своего священного долга должны были руководствоваться следующими принципами: «Конечной целью инквизиции является искоренение ереси; но ересь невозможно искоренить, не уничтожив еретиков; еретиков невозможно уничтожить, не уничтожив их покровителей и пособников. Этого можно достичь двумя способами: либо обратив еретиков в истинную католическую веру, либо передав их «Мировой руке» для физического уничтожения огнем». Прежде чем передать еретика светским властям, им напоминают, что назначенное ими наказание должно быть по возможности таким, чтобы согласно каноническим законам не приводило к опасным последствиям для физического здоровья и не угрожало жизни. То, что эта «просьба» является не чем иным, как ханжеской уловкой с целью обойти каноны Римско-католической церкви, можно аргументировать приведенными ниже рассуждениями святого Фомы Аквинского: «Ни при каких обстоятельствах еретики не должны испытывать страдания. Полное любви милосердие Церкви утверждает, что их предупредили, что, если они проявят упорство, их передадут «Мировой руке» и они, умерев, должны будут покинуть этот мир. Не подтверждает ли это безграничную любовь Церкви? Поэтому и раскаявшийся еретик приговаривается к наказанию, но спасает свою жизнь. Однако если его обвиняют в ереси повторно, он может сохранить свою духовную сущность, когда будет исполнен приговор, но у него уже не будет возможности спастись от смерти». Инквизиторы без промедления соглашались с тем, что передача еретика «Мировой руке» была равносильна смертному приговору. Но чтобы не осквернять Церковь, они оглашали свои приговоры не в святых стенах, а на многолюдных площадях, там же, где устраивали костры и сжигали свои жертвы{122}. Сожжение еретиков Церковь считала в такой высокой степени угодным Богу делом, что каждому, принесшему дрова для костра, гарантировала полное отпущение грехов. Кроме того, она не уставала напоминать всем христианам, что их высочайшим долгом является помощь в искоренении ереси, а также учила, что они должны выдавать церковным властям каждого еретика, безо всякого чисто человеческого или религиозного сострадания. Даже родство не может быть оправданием бездействия: сын может предать отца, супруг будет признан виновным, если не обречет на смерть свою жену-еретичку! «Имена еретиков не должны быть записаны в книгу жизни; их тела будут сожжены на этом свете, а их души будут мучиться в аду», — торжествовал один правоверный хронист. Церковь не была удовлетворена тем, что ее власть распространялась только на живых. Мертвым тоже нельзя было избежать ее жестокой руки. Пример приговора уже умершему еретику в 897 г. дает нам папа Стефан VII. Этот наместник Бога велел выкопать труп своего предшественника, папы Формоза, чтобы вынести ему приговор как еретику, отсечь ему два пальца правой руки и затем бросить в Тибр. Однако нескольким сочувствующим гражданам удалось выловить труп еретического святого отца из реки и снова предать земле. Подднее папа Иоанн IX объявил приговор недействительным и с помощью Синода провозгласил, что никого нельзя обвинить и приговорить после смерти, поскольку каждый обвиняемый должен иметь право на защиту. Это, однако, не помешало папе Сергию III в 905 г. снова выкопать труп папы Формоза, облачить его в папские одежды, усадить на престол, в торжественной обстановке вынести ему приговор, обезглавить, отрезать оставшиеся три пальца правой руки и снова бросить в Тибр. Когда же несколько рыбаков вытащили из реки останки обвиненного и принесли их к собору Святого Петра, то перед ними (останками) были вынуждены; склонить лики святых и приветствовать его со всеми почестями. В некоторых случаях инквизиторы вынуждены были выкапывать трупы людей, чья принадлежность к еретикам была установлена уже посмертно, и далее действовать так, как будто они ее живы. Их трупы сжигали, а пепел разбрасывали по ветру. Если светские власти не торопились эксгумировать не осужденного при жизни еретика, то им грозило отлучение от Церкви, лишение церковного благословения и обвинение в ереси. Одним из первых действий папы Иннокентия III после вступления в должность было издание следующего указа:
Этот папский указ был затем принят на вооружение каноническим правом. В подражание римскому закону об оскорблении Величия определялась судьба имущества еретика, которое попросту отнимали. Эта жадность до собственности несчастной жертвы особенно неприглядна потому, что повод к тому давала Церковь. Ее образ действий мог до определенной степени оправдывать светские власти, которые постепенно привыкали не менее алчно конфисковывать имущество еретиков. Пожалуй, никогда больше в истории не найдется такого рвения в получении выгоды от несчастья ближнего, проявлявшегося так отвратительно, как в случае этих стервятников, следовавших по следам инквизиции и откармливавшихся на состряпанных ею несчастьях. С помощью таких конфискаций доходы епископства Тулузы возросли столь сильно, что папа Иоанн XXII в 1317 г. смог за счет их основать шесть новых епископств. Этот папа оставил после себя, согласно сообщениям его современников-хронистов, ни много ни мало 25 миллионов золотых гульденов. Затем, правда, историки сократили эту сумму до одного миллиона золотых гульденов, используя логику и здравый смысл; они не могли объяснить только тот факт, что годовой доход этого папы составлял 200 тысяч золотых гульденов, из которых на содержание папского двора уходила половина этой суммы. Однако статистика служебной деятельности инквизитора Тулузы Бернарда Ги с 1308 по 1322 гг. позволяет нам понять, каким образом преследование еретиков могло приносить такие баснословные суммы: Передано «Мировой руке» и сожжено — 40 человек. Выкопаны останки — 67 человек и сожжено из числа сидевших в темнице — 300 человек. Выкопано останков тех, кто при жизни отбывал срок, — 21. Приговорено к ношению креста — 138 человек. Приговорено к паломничеству — 16 человек. Отправлено в Святую Землю — 1 человек Бежало — 36 человек. Всего — 619 человек. При уже упоминавшемся папе Иоанне XXII (его преемником был Бенедикт XII, который — как мы вскоре узнаем — лично руководил очисткой пещер Сабарте от еретиков) состоялся один процесс, затем не раз повторенный нашедшимися ревностными подражателями среди инквизиторов. Иоанн XXII, сын мелкого ремесленника из Кагора, города к северу от Тулузы, по неизвестным нам причинам люто ненавидел Гуго Герольда, епископа своего родного города. Заняв папский престол, Иоанн не терял время даром и однажды использовал данную ему власть против этого епископа. В Авиньоне он торжественно сместил этого несчастного прелата с занимаемой должности и приговорил к пожизненному заключению. Но этим святой отец не ограничился. Гуго Герольда обвинили в том, что он якобы организовал заговор с целью убить папу, с него живого содрали кожу, а затем он был сожжен. И уж совсем не по-христиански поступал папа Урбан VI. Когда в 1385 г. выяснилось, что шесть кардиналов участвовали против него в заговоре, он повелел схватить их и бросить в яму. Использующиеся инквизиторами методы были применены и к этим несчастным: их морили голодом, пытали холодом и червями. Затем в камере пыток у кардинала Аквилеи было вырвано признание, с помощью которого были уличены и другие пять кардиналов. Но поскольку все они не переставали отрицать свою вину, их тоже подвергли пыткам. От них удалось добиться лишь сомнительного самооговора: будто бы им всем по праву полагается наказание за те бесчинства над архиепископами, епископами и прелатами, которые они совершили по приказу папы Урбана. Когда пришел черед кардинала Венецианского, папа Урбан передал ведение пыток человеку, который раньше промышлял пиратством и которого он сделал приором Сицилийского ордена иоаннитов. Ему было приказано продолжать пытки так, чтобы папа все время мог слышать крики жертвы. Издевательства над кардиналом продолжались с раннего утра и до обеда. Тем временем святой отец прогуливался под окнами камеры пыток и громко разговаривал (например, просил принести его молитвенник), тем самым напоминая наемному палачу о его обязанностях. Однако от старого и больного кардинала Венецианского не добились ничего, кроме возгласа: «Христос страдал за нас!» Обвиняемых содержали в нечеловеческих условиях до тех пор, пока Карл из Дураццо, правивший Неаполем и Венгрией, выступил с войском для освобождения кардиналов. Папа Урбан обратился в бегство, однако прихватил с собой и своих жертв. По дороге кардинал Аквилейский, ослабленный пытками, не смог шагать дальше. Тогда папа приказал убить его, а тело оставить непогребенным прямо на дороге. Остальных кардиналов догнали до Генуи и бросили там в грязную темницу. Их состояние внушало такое сожаление, что городские власти, полные сострадания к узникам, попросили проявить к ним милосердие. Однако папа был непреклонен. Благодаря энергичному вмешательству Ричарда Второго Английского он все же был вынужден дать свободу английскому кардиналу Адаму Эстону. Однако пятерых[14] остальных кардиналов никто никогда больше не видел. Так пастыри всех христиан, занимавшие престол Святого Петра, давали своей пастве пример далеко не христианского отношения к ближнему. Надо ли после этого удивляться, что катары с отвращением отвергали ортодоксальное учение и адресовали Риму XVII главу Апокалипсиса:
Вечером на Вознесение 1242 г. весь мир ужаснулся от известия об убийстве одиннадцати инквизиторов в городке, расположенном неподалеку от Тулузы. Неприязненное и ожесточенное отношение населения к официальной церковной власти уже давно достигло своей кульминации. Еще в 1233 г. горожане Кордеса убили двух доминиканцев. Годом позже в Альби разразилось восстание, после того как инквизитор Арнольд Каталанский приказал выкопать останки человека, которого он при жизни обвинил в ереси. Когда подручные инквизитора решились выполнить свою грязную работу, он тоже прибыл на кладбище и собственноручно вынул первую лопату земли, начав тем самым эксгумацию. Возмущенное население Альби набросилось на инквизитора с криками: «Убейте его, у такого нет права жить!» В том же году нашла выход и ненависть населения Тулузы. Повод был таким. Епископ и монахи-доминиканцы торжественно праздновали канонизацию святого Доминика. Когда епископ покинул церковь, чтобы принять участие в праздничном пире в трапезной Доминиканского монастыря, ему доложили, что одна женщина должна прямо сейчас пройти обряд «крещения духом» (consolamentum). Епископ, в сопровождении настоятеля Доминиканского монастыря и нескольких монахов, тотчас отправился в дом еретички. Умирающей женщине ее друзья только успели шепнуть: «Пришел епископ!» Поняв так, что пришел еретический «епископ», больная недвусмысленно дала понять князю Церкви, что она еретичка и ею желает оставаться. Тогда епископ приказал отнести умирающую прямо в ее кровати на городскую площадь и там сжечь. После этого он вместе с настоятелем и монахами вернулся к прерванной трапезе. В начале 1242 г. суд инквизиции пожаловал в Авиньон, повергнув в ужас жителей целой области и порядком поубавив численность ее населения. Эта высокая священная судебная палата состояла из двух инквизиторов, двух доминиканских монахов, одного францисканца, одного приора-бенедиктинца, одного архидиакона (который прежде был трубадуром и из поэзии которого до нас дошла только одна песня, да и та непристойная), одного помощника, нотариуса и двух судебных приставов. Когда о приближении инквизиторов доложили городскому главе графу Раймону д’Альсар, он послал гонцов в Монсегюр, чтобы попросить о помощи сыновей Белиссены. Получив известие, отряд рыцарей и вооруженных всадников под предводительством Пьера-Рожера де Мирпуа покинул крепость еретиков и спрятался в лесу неподалеку от Авиньона, ожидая наступления ночи. Инквизиторы воспользовались гостеприимством самого Раймона д’Альсара, племянника правящего графа Тулузского. На следующее утро они собирались вершить свой страшный суд над смертельно перепуганными жителями Авиньона. Поздно вечером двенадцать вооруженных до зубов всадников из Монсегюра покинули свое лесное убежище и подкрались к самым воротам замка. Один из них смог разобрать слова: «Сейчас мы выпьем…» «Сейчас отправимся спать, нет, сначала запрем покрепче двери!» Инквизиторы остались на ночь в большом зале замка и забаррикадировались там, как будто почуяли грозящую им опасность. Рыцари Монсегюра, к которым присоединились граф д’Альсар, двадцать пять жителей города и один наемник, состоявший на службе у инквизиторов, не собирались медлить. Не долго думая они взломали двери, ворвались в зал и убили инквизиторов и иже с ними. Возвращаясь обратно в Монсегюр, убийцы остановились в крепости Сен-Феликс, у одного католического священника, который и узнал об их кровавом деле. Когда весть об убийстве инквизиторов достигла Рима, коллегия кардиналов объявила, что убитые приняли мученическую смерть за дело, Христа. В 1866 г. папа Пий IX канонизировал их, поскольку их святость была подтверждена множеством произошедших с тех пор чудесных знамений. Вершина Монсегюра во время крестового похода была пристанищем последним свободным рыцарям, дамам, воспетым трубадурами, и немногим избежавшим смерти на костре катарам. Почти сорок лет неприступная пиренейская скала, увенчанная «храмом высочайшей любви», сопротивлялась свирепым французским захватчикам и католическим пилигримам. После того как в 1209 г. Ги, брат Симона де Монфора, собрался уничтожить священную крепость, он вынужден был повернуть назад, посчитав высокие горы неприступными. Позднее Раймон VII, граф Тулузский, вынужденный поклясться в Соборе Парижской Богоматери, что уничтожит это гнездо ереси, приступил к осаде Монсегюра. Однако ему вовсе не хотелось передать в руки врага последний оплот свободы своей романской родины. Он даже позволил своим военачальникам приходить в крепость, чтобы прививать «осажденным» хорошие манеры. Неоскверненная и свободная, романская священная крепость все еще возвышалась над провансальской равниной, где победоносные воины крестового похода пели на пепелищах городов свое «veni creator spiritus» и где равнинные крестьяне начинали говорить на языке новых властителей этих мест: вместо langue d’oc — langue d’oil. И только на Монсегюре и на подконтрольной ему территории Табора еще жили последние носители культуры, предками которых были эллины, иберы и кельты. Ставшие бельмом в глазу христианского западного мира, защитники последнего оплота катаризма были приговорены этим миром к смерти. С давних пор великолепные крепостные скалы Монсегюра овевают мифы и сказания, складывавшиеся в Таборе еще с доисторических времен. Согласно романской традиции, крепость была построена «сыновьями Гериона», чьи стада похитил Геракл{124}, прежде чем он добрался до садов Гесперид и до Аида. В саду Гесперид любимец богов похитил золотые яблоки-звезды, сверкающие среди листьев Древа жизни рядом с Чашей возрождения. В Аиде солнцеподобный Алкид усмирил и победил стража ада Цербера, поскольку ни смерть, ни ад не вызывали ужаса у этих «первовождей». Действительно ли Геракл послал сыновьям Гериона (которых романы считали своими иберскими предками) первую радостную весть о том, что смерть не ужасна и что ад ничуть не больший кошмар, чем земная жизнь? - Когда опальные рыцари и «чистые» смотрели с высот Монсегюра на море, которое часто можно разглядеть сквозь дымку, поднимающуюся над равниной, они могли вспоминать о визите Геракла в ад, поскольку там, у «Бебрикского моря», расположен мыс Сар СегЬеге. В Монсегюре собрались рыцари, дамы, трубадуры, катарки и катары, среди которых можно было заметить и тех героев или дам, которые встречались в изящном романском мире возвышенной любви. Когда все они взирали на восток, в строну моря, то видели Порт-Вендрес, гавань Венеры, к которой когда-то причаливал «Арго» — корабль аргонавтов, одним из героев команды которого был Геракл. Но Венера — не Артемида, а Секс — не Эрос. И не Венера, невидимая, восседала на троне над романами, а Артемида — высшая целомудренная любовь, делавшая плохих хорошими, а хороших — еще лучше. Монсегюр не был греховной горой, где пребывала «Венера в Граале». Это была романская гора Утешителя, Высшей Любви. Принявшие «крещение духом» сделали первый шаг на пути в светлую страну душ. Они уже умерли для земного мира, в котором они видели воплощение ада. Ведь повсюду пылали костры инквизиции. «Поцелуя Бога» ожидали еретики Монсегюра, который мог еще видеть солнце как последнее святилище еретиков. Монсегюр и его «чистые» были просто обязаны получить поцелуй Бога. Ты, Мунсальвеш, лишь цель печали, Эсклармонда де Фуа и Гильаберт из Кастра мертвы. Когда точно они умерли — нам неизвестно. Но падения Монсегюра они уже не видели. Пастух, рассказавший мне на Пути катаров легенду о Монсегюре, Эсклармонде, ратях Люцифера и Граале, также знал, что «великая Эсклармонда» (как ее и теперь называют в горах Табора) не сгорела на костре. Была и другая Эсклармонда: дочь хозяина замка Рамона Перелья, одна из дочерей Белиссены. Она спасла романского Мани, когда римско-католические полчища, направленные на уничтожение еретической крепости, начали подниматься с равнины вверх, на Монсегюр. После смерти инквизиторов при Авиньоне, Гуго д’Арсис, сенешаль Каркассона, Петр Амелий, архиепископ Нар-бонны и Дюран, епископ Альби, приняли решение навсегда избавиться от этой пиренейской крепости, которая в руках отчаявшихся представляла опасность для нового государственного порядка и для истинной веры. Для того чтобы начать крестовый поход против Монсегюра, они организовали «вооруженное братство». Это братство было снабжено оружием и оснащено в расчете на многолетнюю осаду. Но и еретики не бездействовали. В крепость, над которой нависла опасность, шли рыцари и трубадуры из всех романских земель. С согласия графа Тулузского байи Бертран Рока послал в крепость строителя военных машин Бертрана Бакалера, который к началу крестового похода успел укрепить стены Монсегюра. Повсюду проходили сборы денег, съестных припасов и вооружения. Многие «совершенные» отправлялись в горы, чтобы своими проповедями укреплять дух осажденных и поставить свое священное искусство на службу защитников крепости. Осада началась весной 1243 г. Лагерь католической армии был разбит на одной из сторон возвышенности, к западу от скал, на которых стоит крепость. Это место и сегодня называется Campis (лагерь). Осаждавшие окружили всю вершину горы. Никто не должен был подниматься в крепость и никто не должен был ее покидать. И все же представляется вполне вероятным, что окруженные могли поддерживать связь со своими друзьями на равнине. Некоторые историки считают, что в пользу этого свидетельствуют протяженные подземные ходы — вероятно, пещеры естественного происхождения. Как бы то ни было, но точно известно, что однажды Эсклармонде д’Айон, племяннице Эсклармонды де Фуа, удалось направить в крепость одного каталонского идальго с деньгами и солдатами. В другой раз сыну трубадура Пейре Видаля удалось передать осажденным сообщение от графа Тулузского. Граф велел передать осажденным, что вскоре к ним на помощь придет император Фридрих Второй: «Продержитесь еще семь дней!..» Когда сын Пейре Видаля приблизился к Монсегюру, он увидел таинственного всадника в пурпурном плаще и перчатках цвета сапфира. Но он ошибся, приняв это видение за хорошее предзнаменование. В первом же бою, когда он сражался вместе с ободренными его посланием опальными защитниками крепости, смерть нашла его. Обещанная помощь императора Фридриха Второго уже не понадобилась. В ночь на первое марта 1244 г., будто бы в Вербное воскресенье, католикам удалось достигнуть вершины. Хорошо знакомые с горными условиями крестоносцы узнали от предателей-пастухов, какая из троп ведет вверх до самой крепости, и по ней, минуя ущелье Лассе, поднялись До самых передовых укреплений. Они шли ночью, чтобы не видеть большой высоты и от головокружения не свалиться вниз. Стража была задушена, а в лагерь был передан условный сигнал, что дело завершилось успехом. Часом позже крепость была окружена плотным кольцом. Осажденные капитулировали. Чтобы избежать бессмысленного кровопролития, оба кастеляна, Рамон Перелья и Пьер-Рожер де Мирпуа обещали, что в предрассветных сумерках передадут крепость в руки архиепископа, а также выдадут ему всех катаров, с условием, что жизнь всех рыцарей будет сохранена. Петр Амелий заявил, что согласен с этими условиями. Многие рыцари перед капитуляцией пожелали пройти обряд «крещения духом» и быть принятыми в общину Церкви Любви, хотя и знали о том, какая участь их ожидает. Этот обряд исполнили седой архиепископ еретиков Бертран Эн Марти, последователь Гильаберта из Кастра. Никто не помышлял о бегстве, никто не стремился избежать страданий, как будто каждый в отдельности хотел дать миру пример того, как надо умирать за свою родину и за свою веру. Часто, порицая доктрину катаров, ее сравнивают с пессимизмом Шопенгауэра и Ницше. Но тогда это совсем особый пессимизм, сочетающийся с таким мужеством, который в истории человечества был присущ еще только героизму раннехристианских мучеников. Катаризм был не менее пессимистичен, чем раннее христианство, с которого он во многом брал пример. С рассветом крепость была сдана вооруженному братству. Архиепископ Нарбонны потребовал, чтобы «совершенные» отреклись от своей веры. 205 мужчин и женщин — в том числе Бертран Эн Марти и Эсклармонда Перелья — предпочли смерть на костре. По приказу Петра Амелия, сожжение состоялось тут же, в поле, которое и по сей день называют Camp des cremats, — «поле костров». Рыцарей, закованных в цепи, доставили в Каркассон, где они были заточены в подземелье той же башни, где тридцатью годами раньше был отравлен Раймон-Рожер, Тренкавель Каркассонский и в муках погиб Рамон Термский. Лишь спустя несколько десятилетий последние из выживших были освобождены из своей темницы в инквизиторской башне францисканским монахом Бернаром Делисьё. И только Пьер-Рожер де Мирпуа смог в сопровождении своего инженера и своего врача беспрепятственно покинуть крепость и даже забрать с собой все находящееся там золото и серебро. Он отправился в Солт к Эсклармонде д’Айон, племяннице великой Эсклармонды, а оттуда — в крепость Монгайяр в Корбьерене, где и умер в преклонном возрасте. До самой смерти он тайно возглавлял опальное романское рыцарство, которое было вынуждено найти в пещерах Орнольяка последнее убежище, а затем и смерть. В ночь падения Монсегюра на заснеженной вершине Бидорты был зажжен огонь. Но это был не костер инквизиции, а символ торжества. Четверо катаров, из которых история сохранила для нас имена троих (Амиэль Айкар, Пуатевин и Гуго), дали знать остававшимся в Монсегюре и готовившим себя к смерти «совершенным», что Мани спасен. Из сохранившихся документов Каркассонской инквизиции следует, что эти четверо «чистых», одетые в теплые шерстяные накидки, спустились по канату с вершины Пог в ущелье Лассе, чтобы передать сокровища сыну Белиссены Пон-Арнауд из Кастеллум Вердунум в Сабарте… «Сокровища» еретиков? Но ведь Пьер-Рожер де Мирпуа получил разрешение вывезти все золото и серебро из взятой крепости. Поэтому наверняка четверка отважных катаров спасала в пещерах Сабарте не золото и серебро, принадлежавшие дому из Кастеллум Вердунум. Амиэль Айкар, Пуатевин, Гуго и четвертый катар, имя которого осталось нам неизвестным, были потомками кельтиберских мудрецов, которые когда-то утопили в одном из озер Табора дельфийские сокровища. И они были катарами, которые предпочли бы сгореть на костре вместе со своими братьями на Camp des cremats, чтобы начать оттуда свое путешествие к звездам. Когда они проходили по Пути катаров, через «Волшебную долину»{125} и мимо озера друидов, а затем поднимались по крутой, обрывистой тропе к вершине Табора Бидорте, когда они видели на севере костры инквизиции в Монсегюре, они спасали не золото и серебро. Они спасали «мечту о рае»! Инквизиторы полностью отдавали себе отчет, в какой степени катарские святыни можно считать «сокровищами еретиков» и почему необходимо было сжечь все, что могло передать их знания потомкам. И они сжигали всех и все… в том числе и книги, которые обычно живут дольше, чем люди. Крестьяне небольшого селения Монсегюр, которое, подобно пчелиному гнезду, нависало над ущельем Лассе у подножия скал, увенчанных непокорной крепостью, рассказывают, что в Вербное воскресенье, как раз в то время, когда священник служит мессу, Табор открывается в укромном месте, спрятанном в густом лесу. Как раз там и спрятаны сокровища еретиков. Горе тому, кто не покинет недра горы раньше, чем священник пропоет заключительные слова «ite missa est». В это время гора захлопывается, и искателю сокровищ приходит конец: его кусают змеи, стерегущие клад… Крестьяне Табора не забыли об этом «кладе», который можно найти только тогда, когда все остальные люди находятся в церкви. Инквизиция, как бы сильна и беспощадна она ни была, не смогла вытравить воспоминания о том, чему свидетелями были эти горы 700 лет назад. Так Грааль, он же романский Мани, был спасен и спрятан в пещерах Орнольяка. Здесь нет зеленой листвы деревьев, не цветут цветы, по утрам, свежим от росы, не поют соловьи, нет рыб, спешащих спрятаться в глубину от лучей солнца. В стенах пещер царят только ночь и смерть. И прежде чем отправиться в свое путешествие в светлую страну душ, последние священники Церкви Любви, последние «чистые» вынуждены были отправиться в ад, каковым была жестокая реальность этой жизни. В пещерах Сабарте катаров часто охватывала тоска по звездам. Возможно, это была и одна из форм самопожертвования, проявлявшаяся в том, что светлыми лунными ночами они поднимались к Монсегюру. Ведь чтобы приблизиться к звездам, нужно умереть, а в Монсегюре их ожидала верная смерть. Новый комендант крепости Ги де Левис, друг и соратник Симона де Монфора, приказал выставить в развалинах еретической крепости специальную стражу и завести свору гончих собак, специально обученных разыскивать еретиков{126}. Светлыми лунными ночами худые и бледные «чистые», преисполненные гордости и храня молчание, пробирались через лес Серралунги, поднимаясь все выше, пока крики прятавшихся в пещерах сов не заглушало завывание ветра, звучащего в ущельях Табора подобно гигантской эоловой арфе. Время от времени они снимали свои тиары на освещенных лунным светом полянах, доставали хранимые на груди кожаные свитки — Евангелие младшего апостола, любимого ученика Господа, целовали пергамент, преклоняли колена, обращали свой лик к луне и молились: «…и дай нам хлеб наш небесный… и избавь нас от греха…» Затем они продолжали свой путь к смерти. Когда собаки с пеной у рта бросались на них, когда палачи хватали их и избивали, их взоры были направлены вверх, к Монсегюру, и еще выше — к звездам, где должны были встретиться со своими братьями. И после этого они тоже шли на костер. После падения Монсегюра убежищем оставшимся опальным и преследуемым катарам, которых называли файдитами{127}, были только леса и пещеры. Недра гор и непроходимые заросли колючих кустарников служили им надежным убежищем. Чтобы добраться до них, инквизиторы сделали попытку извести густые заросли ежевики и утесника. Эту работу они поручили небезызвестному Бернгарду, по прозвищу Espinasser, что значит «рубщик кустарника». Но, согласно преданию, он нашел свою смерть на виселице… Чтобы легче было находить еретиков в их убежищах, доминиканцы специально натаскивали на них гончих собак. Файдитов травили в их родных горах как диких зверей, так что им оставалось либо бежать на чужбину, либо, если они желали умереть дома, — оставаться за прочными стенами пещер. Последовательность катаров в их поступках была на границе человеческих возможностей. Они видели, как гибнет их родина, и все равно не брались за меч. Смерть ожидала их на кострах или в murus strictus. Но вместо того чтобы отречься от своей всем миром презираемой веры в Параклета, они с полным душевным спокойствием обрекали себя на ужасный конец. Однако для этого они должны были быть абсолютно уверены, что их желание попасть в рай будет исполнено. Вместе с катарами ожидали своего последнего часа и последние романские рыцари, не желавшие признать главенство Франции. И они, оказавшись за прочными стенами пещерных крепостей, также не верили в спасение. Но все же они тоже боролись до последнего вздоха. Двенадцатого октября 1303 г. умер папа Бонифаций VIII. В своей булле «Unam sanctam» он объявил наместника святого Петра на земле обладателем высшей духовной и светской власти, которому должны быть покорны все человеческие существа, наделенные духовным началом. В лице Филиппа Красивого этот папа нажил себе непримиримого врага, после того как в двух других своих буллах запретил обложение налогами французского клира и объявил о присвоении самому себе высшей судейской власти, превышающей власть короля. Филипп же привык действовать путем конфискаций, вымогательств и шантажа по отношению к церковным сановникам, желая улучшить свое сложное финансовое положение. И поскольку этот способ оказался для него запрещенным, его ненависть к папе не знала границ. После смерти папы он, с помощью выбранного по его приказу папы Климентия V и при поддержке инквизиции, делал все возможное для того, чтобы обвинить умершего в ереси. Ему также удалось найти множество свидетелей, бывших в большинстве своем уважаемыми служителями Церкви, которые показали под присягой, что покойный папа не верил ни в бессмертие души, ни человеческую природу Христа и что он предавался постыдным, противоестественным порокам. Уже только части этих показаний было достаточно, чтобы предать смерти на костре любого обычного обвиняемого. Но в этом единственном случае инквизиция проявила «милосердие». Она оставила папу покоиться с миром. До своего избрания папой Климентий V был епископом Комменжа и архиепископом Бордо. Поскольку он был избран в Лионе по приказу французского короля, он пошел навстречу просьбе Филиппа остаться во Франции. И он никогда ни ступал на итальянскую землю. При нем началось так называемое «вавилонское пленение пап» в Авиньоне, при нем был уничтожен орден гордых тамплиеров, один из основателей которого якобы был катаром, погубленным одним дворянином и одним горожанином из Безьер, выдавшими его королю Филиппу, жадному до сокровищ тамплиеров. Тамплиеры, будучи богаче и сильнее, чем император и короли вместе взятые, вынуждены были наблюдать, как недоброй ночью 13 октября 1307 г. был повержен огромный храм их ордена, в котором, что и вменялось им в вину, вместо распятия они молились сатанинской голове Бафомета. Возможно, некоторые из них также нашли убежище в Пиренейских пещерах. Многое говорит о том, что там наряду с черными одеждами и желтыми крестами катаров встречались и белые мантии тамплиеров с восьмиконечными кроваво-красными крестами. Все вместе они позднее пропали в темноте пещер Сабарте. Но пещерные крепости Буан и Орнольяк до сих пор не открыли полностью свою тайну. На одной из каменных плит укрепленной церкви тамплиеров в Люз-Сен-Савер (расположенной в том месте у Гаварни, где начинаются предгорья Пиренеев) записана такая легенда. В крипте захоронены черепа девятерых тамплиеров, и каждый год, ночью 13 октября, в церкви раздается голос, напоминающий дуновение ветра: «Пришел ли час освобождения священной могилы?» В ответ девять черепов шепчут; «Еще нет…» Магистр ордена тамплиеров Жак де Молэ вместе с несколькими рыцарями был сожжен 11 марта 1314 г. на одном из парижских островов Сены, по приказу Филиппа. Перед смертью тот воскликнул: «Папа Климент, ты несправедливый судья и через сорок дней предстанешь перед высшим судом Бога. И ты, Филипп, несправедливый король, будешь там через год!..» Через сорок дней Климент V умер. Еще через восемь месяцев король Филипп Красивый также был мертв. Вплоть до XVIII века во Франции сохранялась ненависть к кровавым преступлениям Ватикана и Лувра. Когда через рю Сен-Антуан в Париже прокатилось восстание против Лувра и Нотр-Дама, в борьбе со священнослужителями был замечен человек в длинных черных одеждах. Каждый раз, когда его клинок находил жертву, он выкрикивал: «Это вам за альбигойцев, а это за тамплиеров!» И когда Людовик XVI лишился головы на гильотине, этот человек поднялся на эшафот, погрузил пальцы в кровь казненного короля и выкрикнул: «Народ Франции, я крещу тебя именем Жака де Молэ и свободы!» После смерти Климента V престол Святого Петра в Авиньоне занял Иоанн XXII. Преемником Иоанна был Бенедикт XII, который до своего избрания святым отцом носил имя Жака Фурнье. Фурнье, сын пекаря, был родом из Савердюна, городка в Арьеже, что в графстве Фуа, к северу от Памьера{128}. В молодости он поступил в монастырь цистерцианцев в Бульбонне, где также находился мавзолей графов Фуа. В нем нашли свое последнее пристанище и покой все сыновья и дочери дома Фуа, за исключением Эсклармонды, которая, как известно, улетела в земной рай, обернувшись голубем. Жак Фурнье был послан в Париж для изучения теологии своим дядей, аббатом монастыря Фонфруад, а позднее, в 1311 г., сам стал аббатом этого монастыря. Через 16 лет папа Иоанн XXII назначил его епископом Памьера, откуда за сто лет до этого Эсклармонда вытребовала себе мудрецов Сабарте, чтобы вместе с ними заняться разбором сложных мест учения Платона и евангелиста Иоанна. В должности епископа Памьера Жак Фурнье наиболее успешно боролся с еретиками, что и позволило ему в дальнейшем получить папскую тиару и кольцо с изображением рыбы. Но еще до того, как он энергично взялся за искоренение ереси в Сабарте, он должен был рассмотреть в суде Каркассона дело францисканского монаха Бернара Делисьё. Бернар Делисьё был одним из преподавателей францисканского монастыря Нарбонна{129}. Он поддерживал самые тесные связи с такими ведущими умами своего времени, как Раймунд Лулл, самобытный «усовершенствователь мира», и Арнольд Вилланова, знаменитый папский лейб-медик и неутомимый искатель «камня мудрости» и Aurum potabile. Он был достойным учеником святого Франциска. И он был францисканцем в такой степени, что должен был разделить участь катаров, поскольку относил себя к их защитникам. Этот Бернар был неоднозначной, но, несомненно, достойной уважения исторической личностью XIV века. В своем самопожертвовании во имя ближних он заходил так далеко, что распродавал свои книги и делал долги — лишь бы помочь нуждающимся. Отметим здесь же, чтобы не обойти молчанием, что его орден, сохранявший ему верность, почти во всем противопоставлял себя инквизиций доминиканцев, к которым францисканцы относились с враждебностью. Как раз во францисканских монастырях Бернар мог спокойно произносить свои речи против доминиканцев. Когда однажды инквизитор Фульк из Сен-Жоржа в сопровождении 25 вооруженных всадников прибыл к аббатству, в котором находился Бернар, и потребовал его выдачи, францисканские братья не пропустили инквизитора, ударили в колокол и, выйдя на стены, забросали доминиканцев камнями. Когда же в ответ на призыв колокола со всех сторон набежала толпа, инквизитору еле удалось спастись бегством. Зажигательное ораторское искусство Бернара воодушевило жителей Каркассона на освобождение из ужасных застенков инквизиторской башни заключенных, среди которых были последние оставшиеся в живых рыцари Монсегюра. Заодно были сожжены протоколы инквизиторских судов. Воодушевленное примером отважных францисканских монахов, население другие романских городов также решилось на открытое противостояние инквизиции. И когда доминиканец Готтфрид из Аблюза начал вершить свое жестокое и бесцеремонное дело в должности инквизитора Тулузы, жители этого города обратились с жалобой к французскому королю. Боясь потерять еще не поставленные полностью под его контроль южные провинций, Филипп Красивый послал амьенского викария и архидиакона Лизье на Юг, с приказом выслушать жалобы населения и не допустить превышения власти инквизиторами. Викарий велел открыть застенки инквизиции и освободить всех заключенных. Кроме того, он арестовал нескольких служителей официальной церковной власти. Народ с воодушевлением приветствовал все эти решения, побудившие к настоящему преследованию инквизиторов. В конце концов беспорядки вынудили Филиппа Красивого самому отправиться в Тулузу. Там в 1304 г. он опубликовал эдикт, в котором настаивал на ревизии всех процессов инквизиции. Он также дал аудиенцию францисканскому монаху Бернару. У того хватило мужества утверждать перед лицом короля, что в ереси можно было бы обвинить даже святого Петра и святого Павла, если бы их подвергли допросу по рецептам инквизиции. Однако Филипп так и не смог решиться на то, чтобы полностью запретить в своих провинциях инквизицию, которая оказывала сильную поддержку его светской власти. Разочарованный и ожесточенный, Бернар Делисьё переходил из одного города в другой и горячо протестовал против бездействия короля. Когда городское население Каркассона всерьез готовилось освободиться от центральной власти Франции и поставить себя под опеку правителя Майорки Фердинанда, Филипп Красивый решил, что он должен отозвать свой эдикт и наделил доминиканцев новыми полномочиями. Он распорядился, чтобы еретиков травили как диких и опасных зверей, и отдал приказ своим сенешалям и офицерам арестовывать всех, на кого укажут им доминиканцы. Снова по всей стране распространился ужас. С немыслимой жестокостью инквизиторы обходились с настоящими и мнимыми еретиками. Если свидетели давали показания в пользу невиновности подследственного, инквизиторы безбоязненно фальсифицировали протоколы. Консулы Каркассона были приговорены к смерти. Перед этим они восстановили власть тулузского инквизитора Готтфрида из Аблюза. На сей раз он начал свою деятельность с проверки того, кто из потомков приговоренных ранее инквизицией еще жив, поскольку по его убеждениям понести наказание за преступление должен не только сам преступник, но и его дети. Амьенский викарий был вынужден бежать. Он понадеялся на милость папы, но тот начал травить его как еретика. Он умер в Италии, будучи отлученным от Церкви и только через два года после смерти с него были сняты обвинения. Бернар Делисьё относился к тому крылу францисканцев, которых принято называть спиритуалистами. Здесь мы должны прервать наше повествование и сделать некоторое предисловие. Франциск Ассизский противопоставил жестокости и высокомерию своего времени смирение и покорность. Согласно его учению, высшее душевное счастье состоит не в том, чтобы творить чудеса, исцелять болезни, изгонять дьявола, воскрешать мертвых или обратить в истинную веру весь мир, а в том, чтобы терпеливо сносить все страдания, болезни, несправедливости, унижения и оскорбления самому и помогать делать это другим. Так же, как катары и вальденсы, он проповедовал святую (апостольскую) бедность. Он и его сторонники утверждали, что Иисус и его ученики не обладали никакими материальными ценностями, и точно так же совершенные христиане должны отказаться от любой собственности. В 1322 г. папа Иоанн XXII объявил ересью утверждение францисканцев, что Христос и апостолы не имели никакой собственности. Францисканцы, принимавшие поучения святого Франциска на веру, были названы спиритуалистами. Наряду с учением своего ордена они также принимали апокалиптические воззрения Иохима Флорского, к которому сам Ричард Львиное Сердце, перед его отплытием в Святую Землю, обратился с просьбой истолковать Откровение Иоанна Богослова. Папа Иоанн XXII испробовал все средства, чтобы способствовать принятию спиритуалистами взглядов умеренных последователей францисканского учения о бедности и смирении. С этой же целью он приказал явиться к нему братьям-спиритуалистам из Нарбонна и Безьер, представителем которых был Бернар Делисьё. Когда Бернар. попытался защищать веру спиритуалистов, он был обвинен в том, что мешает инквизиции, и тут же арестован. Кроме того, ему вменили в вину то, что он с помощью колдовства приблизил смерть папы Бенедикта XI и спровоцировал восстание жителей Каркассона. Только в 1319 г., через два года после ареста Бернара, состоялось заседание судебной палаты, на котором председательствовали архиепископ Тулузы и Жак Фурнье, епископ Памьера. Бывшие товарищи Бернара допрашивались как свидетели, которые показывали против него и совершали это клятвопреступление только ради того, чтобы спасти собственные жизни. В течение двух месяцев старый и полностью изнеможенный долгим предварительным разбирательством францисканец подвергался жесточайшему перекрестному допросу. Под предлогом желания спасти его душу ему напомнили, что по закону инквизиции он является еретиком и что только полное признание может спасти его от костра. Он был обвинен по двум пунктам. Во-первых, в государственной измене и, во-вторых, в некромантии. Из документов каркассонской инквизиции видно, что, несмотря на примененные пытки — а ведущий протокол инквизитор добросовестно отмечал каждый крик от боли, — у осужденного не удавалось вырвать никаких признаний. Но в конечном итоге пожилой монах-францисканец, и без того ослабленный страданиями, совсем обессилел от пыток и запутался, давая противоречивые показания. После этого он отдал себя на милость или немилость суда и смиренно просил об отпущении грехов. По решению суда с него сняли обвинение в покушении на жизнь папы Бенедикта, но признали виновным по другим пунктам. Его «вина» была усугублена лжесвидетельством не менее чем 70 давших показания. Бернара приговорили к пожизненному заключению, в цепях, на хлебе и воде, т. е. к murus strictus, и заточили в инквизиторскую башню Каркассона — ту самую, из которой по его призыву ранее были освобождены последние рыцари Монсегюра. Через несколько месяцев смерть оказалась милосердной к этому человеку, у которого хватило мужества открыто противостоять инквизиции. Жак Фурнье отвергал бедность, пост и чистоту как проявления ереси. Вместе с сестрой Петрарки он торговал любовью; часто он бывал «пьяным от вина и загаженным собственной мочой». Хронисты называли его «жирным брюхом и шлангом с вином». Его товарищ по службе, инквизитор Тулузы Бернард Ги, проделал в Сабарте успешную предварительную работу, прежде чем он издал в 1309 г. такое оповещение:
Петр Отьер, нотариус из Э в Сабарте, возглавлял борьбу последних уцелевших романских еретиков. В молодости он вел жизнь, несвойственную катару. До нас дошли также разговоры о его druda, т. е. возлюбленных. С годами, однако, он стал горячим сторонником еретического учения и вождем опальных катаров, скрывающихся в пещерах Сабарте. Отсюда он предпринимал миссионерские поездки в Лангедок и однажды, в 1295 г., сумел избавиться от преследования инквизиции, только бежав в Ломбардию. Двумя годами позже он снова добрался до Сабарте, где смог скрываться еще 11 лет. Однажды небезызвестный Вильгельм Йоанн предложил Жаку Фурнье выдать главу еретиков. Когда об этом стало известно еретикам, двое из них заманили предателя на мост неподалеку от Аллиа, где схватили его и связали. Отсюда они повели его в горы, заставили во всем признаться и затем бросили вперед головой в пропасть. Когда однажды Петр Отьер покинул свое убежище, чтобы отправиться в Кастельнодари, он был схвачен и годом позднее, т. е. в 1310 г., сожжен в Тулузе. Никто, кроме восьми человек, не мог выдать его, поскольку не знал ни где находится убежище Петра Отьера, ни имен верных ему людей. Добиваться у него признания в принадлежности к еретикам было уже излишним. Он и не пытался скрывать своих убеждений, а свою веру исповедовал с мужеством. И все же инквизитору Бернарду Ги показалось, что от него можно узнать тайну пещер Сабарте. И его передали Жаку Фурнье, в епархии которого находились горы Арьежа. В суждениях более поздних авторов так часто ссылаются на историю допросов Петра Отьера, что принято считать, будто бы он выдал своим мучителям тайну последних катаров. В предгорьях Сабарте, неподалеку от городских ворот Тараскона, находилось поместье, которое до сих пор носит имя Жака Фурнье. Отсюда епископ Памьерский руководил войной против прятавшихся в пещерах еретиков. До тех пор, пока пещеры Орнольяка не были очищены от еретиков, победа крестоносцев не была окончательной. Поместье Жака Фурнье было расположено между двумя скалами, на вершине каждой из которых, подобно орлиным гнездам, возвышались Каламес и Мирамон — крепости сыновей Белиссены Рабатской. До часа гибели катаризма эти рыцари, там наверху, оставались ему верны. Лишь немногие сыновья Белиссены уцелели. Многие из них пали, защищая Монсегюр. Еще больше умерло в инквизиторской башне Каркассона. Другие же должны были странствовать с позорными желтыми крестами на груди и спине по своей поруганной родине. Дольше всех держались хозяева замков Рабат и Кастеллум Вердунум, разделив свою участь вместе с жалкими остатками некогда могущественной Церкви Любви. Жак Фурнье был именно тем, кто указал вооруженным монахам, где они должны установить орудия для пробивания стен, чтобы захватить входы в укрепленные пещеры. Из своего поместья неподалеку от Тараскона он руководил этой священной войной против обитателей пещер. Более столетия катары могли чувствовать себя как дома в этом диком урочище Пиренеев. На склонах гор, между елей, смоковниц и акаций строили они свои хижины. Когда приближалась опасность, они зажигали сигнальный костер на Судур — большой горе, возвышающейся посреди долины неподалеку от Тараскона. Затем еретики укрывались в пещерах, которые приносили гибель каждому, кто не был с ними знаком. Так, например, когда ищейки инквизиторов вторглись в пещеру Сакани, то обнаружили перед собой шесть различных ходов. Пять из них зигзагами вели к одной пропасти, до дна которой до сих пор еще никому не удалось спуститься. Несколько палачей, яростно преследовавших одного катара, остались там внизу насовсем. И когда, наконец, инквизиторы нашли тот один из шести ходов, который вел в настоящую пещеру, «гнездо еретиков» уже опустело. Но с тех пор как Жак Фурнье занял поместье у подножия Судур, катары лишились возможности зажигать сигнальный огонь на вершине этой горы. Однажды укрепленные пещеры были подожжены, и вместе с ними сгорели все катары, которым больше некуда было бежать. Жак Фурнье мог теперь стать папой. Документ, датированный 1329 г., сообщает о том, что Пон-Арно, совладелец крепости Кастеллум Вердунум, который долгое время должен был томиться в застенках инквизиции, был затем выпущен с условием, что впредь он будет носить желтые кресты. Однако он опять впал в ересь, был схвачен ищейками доминиканцев, заточен в башню и умер в конце концов ab intestato. Со смертью этого сына Белиссены даже самые удаленные и недоступные пещеры Сабарте не могли больше предоставить убежище еретикам. До тех пор стены пещерной крепости Буан (самой прочной крепости в Сабарте, принадлежавшей еще дому Шато-Вердюн) должны были выстоять, но после смерти Пон-Арно и они затрещали под ужасными ударами катапульты. И тогда у последних оставшихся в живых катаров оставался лишь один путь к бегству — через им одним известный подземный «камин» на вершину горы, откуда они могли отправиться в гостеприимные нивы, где солнце сверкает чище, потому что не затуманено дымом костров инквизиции, и где звезды ближе, потому что именно к ним они и стремились. Прежде чем навсегда покинуть пещеры, где они, как птицы свободные файдиты, так долго могли жить по законам гостеприимства, один из них начертал на стене пещеры: одно дерево жизни; один голубь, символ Бога — Святого Духа; одна рыба, символ светлой Божественности; христограмма из греческих или латинских букв; слово «Гефсиман». Повсюду, где по почти недоступным участкам пещерный проход поднимается, извиваясь, вверх через скалу известняка, к залитым солнцем вершинам гор, этот катар начертал буквы GTS, искусно скрывая их. По всей видимости, они связаны со словом Гефсиман — сад, где Христос был предан его преследователям… Если теперь попробовать вскарабкаться по «дымоходу» этого камина на ту высоту, с которой свобода позвала катаров, то окажется, что во многих местах путь преграждают стены или мощные глыбы скал, в которые превратилась богатая известью вода, образовав непроходимый частокол сталактитов. Здесь катары и ушли от погони инквизиторов и их собак, специально натасканных на еретиков. До сих пор никто не смог разгадать секрет, хранящийся за этими стенами из сталактитов. Одна из пиренейских легенд утверждает, что последние катары были замурованы здесь, когда вооруженные монахи не смогли добраться до их, не найдя вход в их убежище. Горы Сабарте до сих пор не раскрыли эту тайну. Полное исчезновение некогда такого мощного движения, как катаризм, кажется столь невероятным, что не раз высказывалось мнение, что потомками катаров являются каготы, то презираемое в Пиренеях племя «цыган», которые во французской провинции Наварра только в 1709 г., а в испанской провинции Наварра только в 1818 г. получили гражданские права. И сами каготы тоже верили в это. В прошении папе Льву X в 1517 году они интересовались у святого отца, может ли он принять их обратно в человеческое общество, поскольку заблуждения и ошибки своих отцов они давно уже искупили. В 1807 г. охотники из деревни Сук в Сабарте на одинокой вершине пика Монкальм (одной из высочайших вершин Пиренеев, из год&в год покрытой снегом) заметили женщину безо всякой одежды. И вместо охоты на медведей крестьяне устроили охоту на эту нагую женщину, которая, подобно серне, перепрыгивала через зияющие пропасти в скалах и пробегала по краю ужасных пропастей, не боясь почувствовать головокружение и свалиться в бездну. И им не удалось поймать ее. На следующий день охотники вместе с пришедшими на помощь пастухами из Монкальма возобновили погоню. Им удалось остановить «дичь» и схватить ее. Женщине протянули платье, которое обычно носят крестьянки в этой горной местности. Она разорвала одежду. В конце концов удалось связать женщине руки, силой одеть ее и доставить в дом священника из Сук. Там она немного успокоилась, осмотрела свои одежды, упала на колени и разразилась безудержными рыданиями. Ее худое и бледное лицо все же несло следы былой красоты. Ее высокий рост и гордая осанка позволяли предположить ее дворянское происхождение. Ей отвели комнату, в которой она должна была провести ночь. На другое утро выяснилось, что она исчезла, оставив всю одежду. Несколькими днями позднее ее обнаружили на одной из заснеженных вершин пика Бассье. Так прошла зима… Весной в окрестности Монкальма явился мировой судья из Викдесса с жандармами. С великими трудностями им все же удалось поймать эту женщину. Ее снова одели, дали еды и попробовали разгадать тайну ее удивительных похождений. Но безуспешно. Однажды мировой судья спросил ее о том, как же так случилось, что ее не растерзали медведи. Тогда она ответила на равнинном диалекте: «Медведи? Они мои друзья. Они согревали меня!» Потом женщина заболела. Ее доставили в больницу Фуа. Оттуда она сбежала 20 июля, однако 2 августа была схвачена неподалеку от Тараскона, еще до того как она успела подняться к горам Монкальм. Ее привезли обратно в Фуа и заперли в тюрьме замка. Там она умерла поутру 29 октября 1808 г. Тоска по горам убила ее. Никому так и не удалось раскрыть тайну Фоль дю Монкальм. Крестьяне из долин, окружающих эти горы, поведали мне, что она была последним потомком еретиков… Итак, уже шесть столетий, как романского катаризма больше не существует. Он умер в пещерах Орнольяка — там, где тысячелетиями раньше началась его история. Табор, бывший некогда романским Парнасом, превратился в гигантский некрополь. В нем похоронена одна из благороднейших культур. Вполне вероятно, что пещерный зал, в котором в последний раз проходила катарская мистерия манисола («утешение высочайшей любовью»), был замурован в результате осаждения минералов из богатой известью воды источников Сабарте. И возможно, что здесь лежат погребенные горой последние катары, умершие во время эндуры, вокруг сокровища еретиков, созерцание которого придавало мужество всем их братьям, когда они шли с улыбкой навстречу смерти и, умирая в возносящемся вверх пламени костров инквизиции, выкрикивали: «Бог есть Любовь!» Если Бог лучше и отзывчивее, чем люди, то не должны ли катары обрести в потустороннем мире все то, чего они так страстно желали и к чему стремились с неимоверным напряжением, с удивительной силой воли и неслыханным героизмом? Они мечтали об обожествлении духа… Апофеоз! Человеческая воля — их Царствие Небесное, то есть их жизнь после смерти! Чем мог стать Грааль, символ романского Мани? Пиренейская легенда гласит, что Грааль, после того как человечество перестало быть достойным его, стал очень далек от этого мира, вознесясь высоко к небесам. Возможно, «чистые» романы спрятали его на одной из звезд, которые ореолом окружают Монсегюр — романскую Голгофу. Грааль символизировал мечту о рае, в котором человек стал бы образом настоящего божества, а не его искаженного изображения, что проявилось бы в истинной любви к ближнему как к самому себе. Богатыри с натурой рыцарей, молящиеся поэты, слагающие стихи священники и непорочные женщины когда-то хранили этот символ. Верно храни образ достойного! Они, подобно сияющим Часть пятая ПРИМЕЧАНИЯ Предварительные замечания к научной части Уже давно я пришел к выводу, что романская поэзия и мистика средневековья оказывали очень слабое влияние на духовную жизнь Германии той эпохи. Только когда мне удалось разобраться в этом, я смог провести строго прямую линию от Монсегюра, романского «Храма возвышенной любви», до Вильденштейна, образа крепости величайшего немецкого представителя любовной рыцарской поэзии Вольфрама фон Эшенбаха. Только тогда я осознал и то, что романо-германский мир поэзии миннезингеров, одновременно очень далекий и очень близкий нам, может быть воспринят только через познание его мистицизма, поднявшегося из германокельтской первоосновы во всем своем сублимированном великолепии. Катаризм был дуалистическим по своей сути движением, распространенным по всей Европе. Но чтобы не выходить за заданные рамки, в настоящей работе не обсуждается, почему катарские секты были организованы на одинаковых принципах от Балкан до Кельна и Тулузы, что длительное время укрепляло их в ожидании решительной битвы с Римом и Парижем. Я также не принимал во внимание широко распространенное представление о том, что романский катаризм — как и движение альбигойцев — был в основе разновидностью богомильства, созданного еретиками-славянами. Сходные мнения по этому вопросу (отличающиеся от моих рассуждений) можно найти в каждой работе по катарам, в частности — у Шмидта и Дёллингера. Мне значительно ближе представление о самостоятельном происхождении движения альбигойцев, основанное на моем внимательном изучении фактов, которым ранее не придавали большого значения и которые, по моему мнению, должны быть выдвинуты на первый план, в сравнении с влиянием восточноевропейского катаризма. Это следует отметить специально. В своей книге я не ставил задачу привести исчерпывающе полную сводку огромного материала: такое просто невозможно. Но все же было необходимо проанализировать с единой точки зрения многие аспекты, которые до сих пор рассматривали раздельно. Эта причина обусловила и форму моего труда — «заметки о путешествиях» по горам, замкам и пещерам и более или менее стилизованные под старину книги. Такая форма не исключает возможности самого тщательного рассмотрения той или иной заслуживающей внимания темы. Я надеюсь, что в обозримом будущем за этой книгой может последовать вторая как ее дополнение: «Конрад фон Марбург, немецкий инквизитор». В ней мне хочется оценить влияние немецкого катаризма, насчитывавшего тысячи сторонников на моей родине, в Гессене, и по всему Рейну, от Базеля до Кельна, на весь немецкий мистицизм вплоть до Нового времени (Новалис). Кое-что об этом можно прочесть между строк уже в этой книге. Первому побуждению исследовать еретические движения я обязан своему учителю, барону фон Галлу. Затем миновало немало лет, прежде чем неожиданно благоприятные обстоятельства дали мне возможность побывать в Пиренеях и посетить Монсегюр. После многомесячного нахождения вблизи руин этой горной крепости и знакомства с легендой о последних замурованных в пещере Арьежа катарах я перебрался в Орнольяк в Сабарте. Там мне посчастливилось найти «Треврицента», причем в совершенно неожиданном месте. Мне помог господин Антонин Га-даль, историк древнего мира, под надзором которого находились все пещеры Сабарте, за исключением пещер Нио и Бедейяк, и который проделал огромный труд, на протяжении десятилетий проводя здесь кропотливые исследования. Господин Гадаль не только любезно предоставил мне, иностранцу, возможность без помех проводить все представляющиеся мне целесообразными работы в пещерах, расположенных у подножия памятника, но и предоставил неограниченный доступ в свою необъятную библиотеку и свой частный музей. Как сообщил мне недавно господин Гадаль, он вскоре намерен опубликовать результаты своих исследований. Хотя речь идет о его специальных работах по доисторическому периоду и спелеологии, они подтвердят и расширят некоторые из моих рассуждений. Мне очень приятно прямо сейчас поблагодарить господина Гадаля за его бескорыстную помощь и обратить внимание всех заинтересованных специалистов на то, что господин Гадаль готов предоставить любые необходимые им сведения. Я также не могу не поблагодарить моих пиренейских друзей, всячески содействовавших созданию моей книги. С героическим прошлым Монсегюра меня познакомила графиня Пюжоль-Мюрат, чьи предки положили свои жизни, защищая родину от нашествия врагов. К ее предкам можно также причислить Гуго де Пэйна, основателя ордена тамплиеров, но прежде всего — великую Эсклармонду де Фуа. Перечень моих романских друзей не был бы полным, если бы я не упомянул господ де Белиссена, Роша, Палоки, Мелэна и Мопома, с готовностью поддерживавших мою работу. Я также не должен упустить случая сердечно поблагодарить сотрудников Парижской национальной библиотеки и библиотеки университета Фрейбурга за их помощь. БИБЛИОГРАФИЯ[15] Литература на иностранных языках Andraud P. La vie et l’oeuvre du troubadour Raimon de Miraval. Paris, 1902. Baudler. Guiot von Provins. 1902. Birch-Hirschfeld A. Der Sage vom Gral und ihre Entwicklung und dichterische Ausbildung in Frankreich und Deutschland im 12 und 13 Jahrhundert. ДаИе, 1877. Birch-Hirschfeld A. tfber die den provensalischen Troubadours des XII und XIII Jahrhunderts bekannten epischen Stoffe. Halle, 1878. Bose. Belisama. 1910. Brinkmaier. Die provengalischen Troubadours. 1882. Caesarius Heisterb. De miraculis et visionibus sui temporis seu dialogus miraculorum. 1850. Chanson de la Croisade contre les Albigeois. T. 1–2. Paris, 1875–1879. Coulet J. Le troubadour Guilhem de Montanhagol. Paris, 1898. David von Augsburg. Tractatus de inquisitione haereticorum. Miinchen, 1876. Diez F. Die Poezie der Troubadours. Zwickau, 1826. Diez F. Leben und Werke der Troubadours. 1882. Doat. Коллекция копий документов из архивов инквизиции Альби, Каркассона, Тулузы, Нарбонны и т. д., сделанная в 1669 году по приказу Кольбера коллективом под руководством Doat. В парижской Национальной библиотеке хранится серия Из 258 томов с рукописями. Dellinger J. von. Beitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters. Bd. 1–2, Menchen, 1890. Gadal A. Ussat-les-Bains. S.I., s.a. Garrigou F. Etudes sur l’ancien pays de Foix. Toulouse, 1846. Garrigou F. Sabar. Toulouse, 1849. Garrigou F. Iberie et les Iberes. 1884. Gui B. Manuel de l’lnquisiteur. Vol. 1–2. Paris, 1926. Guiraud J. Saint Dominique. Paris, 1923. Guiraud J. Cartulaire de Notre-Dame de Prouille. Paris, 1907. Hahn C.U. Geschichte der neu-manichaischen Ketzer. Stuttgart, 1845. Hauck A., Herzog J.J. Realencyklopadie fur protestantische Theologie und Kirche. Leipzig, 1877. Hertz W. Parzival. Milnchen, 1898. Hoepfner Th. Die heiligen in der christlichen Kunst. Leipzig, 1893. Jas. Disputatio academica de Valdensium secta ab Albigensibus bene distinguenda. 1834. Kampers F. Das Lichtland der Seelen und der heilige Gral. K6ln, 1916. Kannegificr K. Gedichte der troubadours im VersmaB der Urschrift ubersetzt. Leipzig, 1852. Kittel R. Die hellenistische Mysterienreligion und das Alte Testament. Freiburg, 1924. Lavisse E. Histoire de France. Vol. 1–9. Paris, 1911. Lea H. Ch. Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Bd. 1–3. Bonn, 1905–1909. Loisy A. Les mysteres paiens et le mystere chretien. Paris, 1930. Magre M. Magiciens et Illumines. Paris, 1930. Mahn C.A.F. Biographien der troubadours in provenzalischer Sprache. 1883. Mahn C.A.F. Gedichte der Troubadours in provenzalischer Sprache. 1864. Michelet J. Les poetes gascons du Gers. 1904. Molinier C. L’Endura, coutume religieuse des demiers sectaires albigeois // Annales de la Facultd des letters de Bordeaux. I ser., Ill, 1881, p. 282–299. - Moneta Cremonensis. Adversus Catharos et Waldenses libri V. 1743. Palauqui. Esclarmonde de Foix. 1911. Palauqui. La v6rit? sur PAlbig6isme. 1932. Peladan J. Le secret des troubadours. Paris, 1906. Petrarca Fr. Trionfi. 1901–1902. Petri Vallium Samaii monachi Historia Albigensis. Vol. 1–2. Paris, 1926. Peyrat N. Histoire des Albigeois. Vol. 1–3. Paris, 1870. Reinach S. Cultes, mythes et religions. Vol. 1–3, Paris, 1905–1908. Reinach S. Orpheus: histoire g6n?rale des religions. Paris, 1905. Renan E. Das Leben Jesu. Berlin, 1864. Schafer H.-W. tJber die Pariser Mss. 1451 und 22555 der Huon de Bordeaux-Sage. 1892. Schmidt. Ch. Histoire et doctrine de la secte des cathares ou Albigeois. Vol. 1–2. Paris-Geneve, 1849. Vic C. de., Vaissette J. Histoire g6nerale de Languedoc. Vol. 1-15. Toulouse, 1872–1905. Vidal, ab. Doctrine et morale des demiers ministres albigeois. Toulouse, 1909. Vidal, ab. Le tribunal d’Inquisition de Pamiers. Toulouse, 1906. VoBler K. Frankreichs Kultur und Sprache. Heidelberg, 1929. VoBler K. Peire Cardinal. Miichen, 1916. WechBler E. Die Sage vom heiligen Gral in ihrer Entwicklung bis auf Richard Wagners Parsifal. Halle, 1898. Литература на русском языкеБутми Н.А. Каббала, ереси и тайные общества. — СПб., 1914. Гумилев Л.H. География этноса в исторический период. — Л., 1990. Гумилев Л.H. Древняя Русь и Великая степь. — М., 1989. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. — М., 1980. Керов В.П. Народные восстания и еретические движения во Франции в конце XIII — начале XIV вв. — М., 1986. Корявцев П.М. Философия антисистем. — СПб., 1994. Ли Г.-Ч. История инквизиции. — М., 1994. Т. 1–3. Мадоль Ж. Альбигойская драма и судьбы Франции. — СПб., 2000. Осокин Н.А. История альбигойцев и их времени. — М., 2000. Парнов Е.И. Трон Люцифера. — М., 1991. Селянинов А. Тайная сила масонства. — М., 1999. Средневековый роман и повесть. — М., 1974. Содержание Предисловие Часть первая. ПАРЦИФАЛЬ «Законы любви» романтического мира миннэ — трубадуры — Арагонский дом — графы Тулузские — Дом Анжу-Плантагенетов — Бертран де Борн — Ричард Львиное Сердце — Третий крестовый поход — Иоахим Флорский — Раймонд V, граф Тулузский — Тренкавель из Каркассона — графы Фуа — земля Белиссены — трувер Гийом де Прованс — Вольфрам фон Эшенбах — Парсифаль и Герцелонда Часть вторая. ГРААЛЬ Миннэ, милость, стыд и радость — Ева «повелительница» и Ева «госпожа» — молящийся стихотворец — церкви в пещерах — «Кафедральный собор» еретиков в Ломбриве — Геркулес и Пирена — бебрики, финикийцы и фокейцы — аргонавты ищут Грааль — Аполлон и гиперборейцы — Пифагор, ученик друидов — дельфийское сокровище в озере Друидов — Ариман и Ахурамазда — друиды и барды — как бард Талезин пришел в мир — легенда о барде Цервориксе — Христос, сын Божий — лес присциллиан — романская церковь миннэ — Люцифер и Иегова — миф о падении Люцифера и жертве Христа — благословение — «совершенные» и «верующие» — преломление хлебов у катаров — Манисола — консоламен-тум — эндура, церемония добровольной смерти у еретиков Часть третья. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД «Lapsit ex illis» Вольфрама фон Эшенбаха — Фульк Марсельский — первый антиеретический крестовый поход против Тренкавеля из Каркассона — папа Иннокентий III — Арнольд из Сито — святой Доминик — крестовый поход против альбигойцев и первые пункты страданий еретиков: Безьер, Каркассон — смерть Парсифаля — Симон де Монфор — Петр Арагонский — смерть Симона де Монфора — Тулуза и конец романского мира Часть четвертая. АПОФЕОЗ БИТВЫ ЗА ГРААЛЬ Доминик де Гусман и инквизиция — убийство инквизитора в Авиньоне — разрушение Монсегюра, храма Параклета — сокровище еретиков было спасено в пещере Орнольяка — Жак Фурнье осаждает пещерные укрепления катаров и становится папой Бенедиктом XIII — Бернар Делисьё, монах-францисканец из катар — война в пещерах — последний еретик — желание рая Часть пятая. ПРИМЕЧАНИЯ Библиография 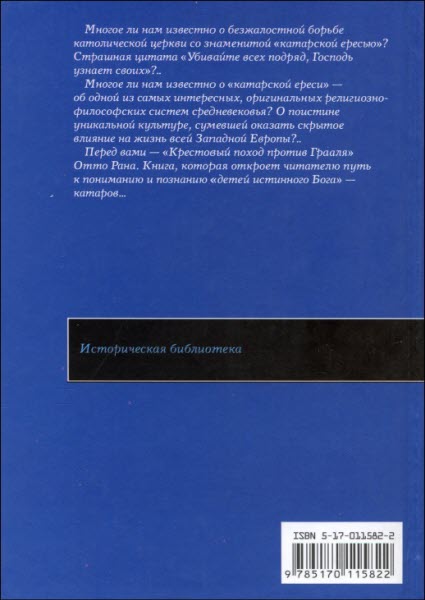 Примечания:1 Автор «Perceval le gallois ou le conte du Graal». — Примеч. авт. 2 Греч, katharos — чистый; отсюда немецкое ketzer — еретик. 3 Mons salvatus — спасительная гора. 4 Mons segurus — надежная, безопасная гора. 5 Снова ben. — Примеч. авт. 6 «Сад Гесперид — земля чистых душ» — автор смешивает сад Гесперид и острова блаженных, которые греки также помещали на крайнем западе (Мифологический словарь. М., 1991. С. 152). — Примеч. пер. 7 Словарь И.Х. Дворецкого такого значения слова psyche не дает. Если такое значение и развилось в позднейшую (римскую) эпоху, то это не дает основания говорить о представлении греков. — Примеч. пер. 8 Семела ошибочно названа матерью Аполлона. Она считалась матерью Диониса, Аполлон был сыном Лето (Латоны). — Примеч. пер. 9 Представляется сомнительным существование этимологических связей между греческим «???????» (plutos) — богатство и латинским «Dispatep», происходящим от «??-?????» — «Зевс-отец». — Примеч. пер. 10 По курсу 1933 года. — Примеч. ред. 11 В оригинале он ошибочно назван Карлом Великим. — Примеч. пер. 12 Замок неприступной горы (лат.). — Примеч. ред. 13 В русском переводе указанного отрывка иначе: «Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал сам». — Примеч. пер. 14 Тут явная арифметическая ошибка автора: выше он пишет, что были схвачены 6 кардиналов, а затем один был убит во время бегства. — Примеч. пер. 15 В библиографию мы включили лишь часть из предложенных автором специальных исследований и изданий текстов источников. В своей работе Отто Ран использовал многочисленные монографии, которые представляют интерес исключительно для исследователей. Поэтому в списке оставлены лишь те названия, на которые автор ссылается в тексте примечаний. Издатели также сочли необходимым добавить в список основные сочинения на русском языке, посвященные истории Альбигойских войн и Грааля. |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||