|
||||
|
ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЕ МАНИИ В АНГЛИИ В КОНЦЕ XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА Следующие две главы посвящены инвестиционным маниям конца XVIII – середины XIX века в Англии и США. Они связаны в основном с инвестициями в инфраструктурные проекты – каналы, «автомобильные» и железные дороги. В США и Англии процессы идут схожим образом, но Англия, как ведущая экономическая держава этого времени, опережает США примерно на 50 лет. Чтобы не повторяться, на примере Англии мы подробнее поговорим о железнодорожной мании, а на примере США – о строительстве каналов и дорог. Заодно стоит упомянуть «серебряную лихорадку» в Калифорнии в 1840–1850 годах и бум фермерских хозяйств на западе США в 1880-е годы. В «английской главе» речь также пойдет о первом буме на рынке ценных бумаг развивающихся стран – латиноамериканских, имевшем место в Великобритании в 1820-х годах. Однако нужно отметить, что на протяжении XIX века развивающимся рынком для британских инвесторов были и сами США, где англичане «закопали» многие миллионы фунтов. Мои читатели, наверное, знают, что крах 1929–1932 годов на несколько десятилетий отбил у американцев охоту играть на фондовом рынке. Примерно такое влияние на английское инвестиционное сообщество оказал и крах рынка акций «Компании Южных морей». Он случился в 1720 году, а новая спекулятивная волна возникла лишь в 1790-е годы, то есть 70 лет спустя. Связана она была со строительством каналов. Первый канал протяженностью 30 миль был построен в Англии в 1767 году, он связывал поместье герцога Бриджуотерского под Манчестером с небольшим специализировавшимся на ткачестве городком Ранкорн на юго-западе от поместья. Это не было техническим прорывом. Еще в Древнем Риме строили водные акведуки. Но каналы повлияли на экономическое развитие страны, удешевив транспортировку угля, сельхозпродукции и промышленных товаров. За 20 последующих лет было построено тысячи миль каналов. Инвесторы в первые каналы получили очень высокую доходность на капитал. Каналы были очень прибыльны, платили высокие дивиденды, котировки их акций росли. Идея строительства каналов также была с воодушевлением принята в обществе. За 20 лет более 50 парламентских указов призвано было регулировать строительство и работу каналов[53]. Спекуляция акциями каналов широкими кругами населения началась в начале 1790-х годов. Собрания пайщиков проходили в чистом поле, на постоялых дворах и даже в церквях – настолько модной стала эта тема. Пик спекуляции пришелся на зиму 1792–1793 годов. Газеты пестрели объявлениями брокеров, объявлениями о собраниях акционеров и таблицами цен акций. Акционеры одного из каналов даже придумали девиз для компании, заимствовав его у Горация: «Пусть на вас рекой польется золото» (дословно: пусть поток удачи покроет вас золотом). Но 21 января 1793 года во Франции судили и казнили короля Людовика XVI, и эта страна объявила войну Великобритании и Нидерландам[54]. Рынок акций встал, цены обвалились. Война оказалась катализатором этого процесса, но у него были и реальные экономические причины. Первые каналы строились в основном крупными землевладельцами, которые четко представляли себе, какой экономический эффект они дадут, и доходность инвестированного капитала достигала 50%. Более поздние проекты не были экономически обоснованными, и доходность капитала там составляла лишь около 5%, что было сопоставимо с доходностью «безрисковых» государственных облигаций. Мания строительства каналов оказалась прелюдией к гораздо более масштабному буму железных дорог, но, раз мы движемся в хронологическом порядке, сначала поговорим о латиноамериканских долгах. ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ МАНИЯ 1822–1825 ГОДОВ Что такое Англия и Шотландия 1820-х годов? В Европе закончились наполеоновские войны, длившиеся с 1803-го по 1815 год. В 1817-м страна преодолела экономическую депрессию, вызванную войной. В обществе появились надежды на лучшую жизнь. Англия понесла в войнах с Францией колоссальные потери. Но с другой стороны, по окончании войн она испытала не меньший приток капитала с континента. В том числе и потому, что в стране существовали финансовые институты, которые могли эти деньги разместить. Лондон становится европейским финансовыми центром, в него перемещается финансовая активность из Амстердама. В 1819 году отменены ограничения по обмену английских банкнот на золото, введенные законодательным путем еще в 1797 году, чтобы помочь Банку Англии, который в военные годы не располагал достаточным количеством золота [Bagehot 2005, р. 44]. Банк Англии котирует государственные облигации Британии, выпускает банкноты, обеспеченные золотом и серебром, которые принимают повсеместно, дает кредиты, принимает депозиты. Активно работает созданный еще в 1762 году банк «Бэринг» (Barings), в 1811 году основан банк Ротшильда. Другие известные банки – Kleinwort, Hambro, Warburg, Shroeder, Morgan. Все они занимаются размещением ценных бумаг – акций и облигаций. Еще в 1773 году построено здание биржи, в нее постепенно перетекает торговля бумагами, которую раньше вели в кофейнях. Торговлю акциями на бирже начинают регулировать. И если раньше спекуляция была уделом профессиональных трейдеров, то к 1821 году в игру с ценными бумагами вовлекаются и непрофессионалы. Газеты пестрят деловыми новостями, финансовыми советами, репортажами из Сити и даже рекомендациями по покупке акций. В 1820-е годы спекуляция сдвигается в сторону торговли иностранными бумагами. Этому есть свое объяснение. Резкое сокращение расходов бюджета в связи с окончанием войны позволяет снизить государственный долг, который в ходе конфликта достиг 700 млн фунтов. Снижение долга означает, что государство может платить более низкие проценты по своим облигациям. В 1822 году объявлено о конвертации 5%-ных консолей, обращение которых прекращается, в 4%-ные. Большинство инвесторов от сделки отказываются, и им выплачивают полную стоимость бумаг живыми деньгами. На рынке оказывается 3 млн свободных средств, которые нужно куда-то вложить. Вложения в акции кажутся поначалу слишком рискованными, да и выбор по-прежнему невелик. Тогда инвестиционные банки и публика обращают свое внимание на иностранные облигации. Еще в 1817 году банк «Бэринг» разместил облигационный займ потерпевшей поражение Франции в размере 28 млн фунтов; он предназначался для выплаты репараций Англии. Инвесторам были предложены пятилетние облигации, номинированные во франках, с номинальной процентной ставкой в 5% и ценой размещения в 85% от номинала. Вскоре банк Ротшильда разместил пятимиллионный займ Пруссии. Он был номинировал в стерлингах, номинальная ставка составляла 5%, а цена размещения – 72% от номинала. Оба выпуска пользовались колоссальным успехом. За ними последовали займы России, Австрии, Дании и Испании. Но на этот раз все самое интересное начинает разворачиваться на латиноамериканском фронте. В первые два десятилетия XIX века в Центральной Америке и северной части Южной в результате освободительных войн под руководством Симона Боливара целый ряд государств вышли из колониальной системы Испании и стали независимыми – это Венесуэла, Гаити, а также Большая Колумбия, объединявшая территории нынешних Боливии, Колумбии, Панамы и Эквадора. В 1811 году независимость провозгласил Парагвай, в 1812-м ее получила Бразилия, в 1816 году самостоятельной стала Аргентина, в 1821-м – Чили и Перу, а в 1828-м – Уругвай, который отделялся уже от Бразилии, а не от Испании или Португалии. В 1825 году эти страны были признаны Англией как самостоятельные государства. Как утверждают историки, это было сделано в ответ на оккупацию Францией Испании – для ослабления последней. В 1822 году Колумбия решает разместить займ этой страны на 2 млн фунтов. Срок обращения – 22 года. Купонный доход по этому займу – 6% годовых. В Англии официально запрещено размещать долговые бумаги с купонным доходом выше чем 5%, но этот запрет обходят. Выпуск официально размещается в Париже, а фактически – в Лондоне. Цена размещения – 84% от номинала. Возможна рассрочка, а те, кто платит сразу, получают еще большую скидку к номиналу. Организаторы выпуска уверяют инвесторов, что выплаты по займу обеспечены государственной монополией на колумбийском табачном рынке, доходами от золотых, серебряных и соляных шахт, «которые вскоре будут запущены на полную мощность», и экспортными и импортными пошлинами. У вновь созданного государства нет кредитной истории, но нет и особых долгов (весь долг не превышает 2,5 млн фунтов), а его ресурсная база и в самом деле богатая. Бумаги распродаются на ура, займ переподписан. Размещение происходит в марте 1822 года. «Официальных» торгов в Англии нет, но неофициальные сделки все же идут. Цена бумаг вскоре подскакивает до 92, 95, а затем и 97% от номинала. Это вдохновляет и другие латиноамериканские страны. Уже через два месяца облигационный займ размером 1 млн фунтов предлагает Чили. Процентная ставка – 6%, цена размещения – 70% номинала. Срок обращения – 20 лет. При этом купить бумаги можно, уплатив 10%-ный первоначальный взнос (правда, действует ограничение на максимальную сумму – 500 фунтов в одни руки). Займ обеспечен секьютиризированными (то есть заложенными) в Банке Англии доходами страны, создается и фонд погашения (по-английски – sinking fund). Займ размещается удачно, бумаги растут в цене до 72% от номинала в первые же часы торгов, а вскоре цена достигает 88%. Следующей на рынок выходит Перу. История примерно та же: 1,2 млн фунтов, купон 6%, 75% от номинала, гарантии, как и у Чили. Спрос на перуанские бумаги так высок, что в день их размещения на бирже случаются беспорядки. Цена подскакивает до 88–90% от номинала[55]. Не полностью оплаченные бумаги, как акции, так и облигации, в то время назывались скрипы (по-английски – scrips, сокращение от subscription – подписка). Скрипы были котируемыми, как и сами облигации. Когда рыночная цена облигаций растет, скажем, с 80 до 84%, те, кто внес первоначальные 10%, или 8 фунтов, могут продать скрип за 12 фунтов. Это 50%-ная доходность за несколько дней. Как мы видим, опять свою роль в раздувании спроса играют выгодные условия рассрочки. Несмотря на всеобщую эйфорию, самые консервативные газеты высказываются об этих выпусках критично. Они упоминают о том, что Южная Америка слишком далеко от Британии, о ее богатствах известно от предпринимателей и купцов, которые в те годы работали «неофициальными корреспондентами» газет, и из проспектов облигационных выпусков, которые были подготовлены заинтересованными лицами. Южная Америка прошла через жесточайший конфликт, правительства только что созданы, и ни одно из государств не признано Британией [Sinсlair 2004, р. 62]. Отмечают и тот факт, что большая часть валютных доходов – это таможенные пошлины, и морская блокада тут же лишает страну поступлений. В конце 1821 года в Лондон приезжает его высочество Грегор (как он себя называл), правитель маленького государства территории Пойес на границе с Никарагуа. Его цель – продать права на землю, права на организацию военных форпостов и титулы британской знати и стимулировать эмиграцию в страну. Он обнаруживает, что в Сити повышенным спросом пользуются выпуски иностранных долгов, и тут же решает разместить облигационные ценные бумаги. Его высочество Грегор заказывает и издает в Лондоне детальный 350-страничный путеводитель о стране в дорогом кожаном переплете, предназначенный и для инвесторов в облигации, и для колонистов. Согласно путеводителю, независимая территория Пойес находится «в Гондурасском заливе, в трех-четырех днях морского пути от Ямайки, в 30 часах езды от британского поселения Белиз на Юкатане и в восьми днях от Нового Орлеана, США» [Sinclair 2004, р. 6]. Реки Пойеса судоходны, а гавань способна принять суда с осадкой 25 футов[56] [Там же, р. 69]. Пойес, как говорят, – «одно из самых здоровых и красивых мест на земле». Климат умеренный, не столь жаркий, как в других местах на тех же широтах, поскольку весь год, за исключением нескольких месяцев, с моря дует легкий бриз. Леса Пойеса обильны, земли богаты минералами, а воды – рыбой. «За один день охоты или рыбной ловли индеец может снабдить свою семью на неделю кабаниной, мясом черепахи, рыбой и устрицами» [Там же, р. 16]. Почва очень плодородная, в год можно снять три урожая кукурузы [Там же, р. 66]. В Пойесе растет дикий хлопок, а хлопок – это востребованный английскими текстильными фабриками товар. Для того чтобы создать хлопковую плантацию, нужно вложить 150 фунтов, при этом уже в первый год они принесут 100 фунтов чистого дохода. Если же взять кредит и вложить только 30 фунтов собственных денег, то, выражаясь современным языком, доходность акционерного капитала возрастет, чистая прибыль на собственный капитал достигнет 40 фунтов в год [Sinclair 2004, р. 1 9–20]. Заработать можно и на торговле красным деревом, которое в Пойесе в 1,5 – 2,5 раза дешевле, чем в соседнем Белизе [Там же, р. 70]. Столица этой страны, город Сент-Джозеф, основана британскими колонистами еще в 1730 году. В городе имеются оперный театр, королевский дворец, кафедральный собор, театр, здание парламента и банк. Все здания построены в стиле барокко. Газетные статьи воспевают прекрасный край, в его честь даже сочиняются песни. Пойес предлагает облигации сроком на 30 лет с 6%-ным купонным доходом. Цена размещения – 85% от номинала, объем выпуска – 200 тыс. фунтов[57]. Покупать бумаги можно в рассрочку. При подписке уплачивается 15%, остаток – равными долями примерно через три и четыре месяца. Цель займа – финансировать создание новых поселений. Займ обеспечен всеми доходами государства, в частности от продажи земли колонистам. Размещение состоялось 23 октября 1822 года, то есть после успешных размещений Колумбии, Чили и Перу. Его высочество Грегор успевает вскочить в последний вагон уходящего поезда. Уже в ноябре на рынке возникают сомнения относительно надежности латиноамериканских выпусков. Это связано с тем, что правительство Колумбии делает заявления о том, что оно сомневается в легитимности колумбийского займа, намекая, что его представитель в Лондоне Антонио Зеа превысил полномочия[58]. К тому же Зеа неожиданно умирает. Ползут слухи и том, что столица Перу вновь захвачена испанскими войсками. Озабоченность инвесторов перерастает в панику, которая перекидывается с колумбийского на чилийский и перуанский займы. Пойес это пока не затрагивает. Во-первых, выпуск по объему маленький; во-вторых, он одобрен самим правителем страны; в-третьих, правитель этот сам находится в Англии; в-четвертых, займ не рос в цене и не торговался выше цены размещения. Но к декабрю колумбийский займ падает с 97 до 69% от номинала, а займ Пойеса – до 67%. Ситуацию усугубляет новая война – на этот раз Франция объявляет ее Испании. Это может привести к новой колонизации латиноамериканских стран. Инвесторы несут убытки, некоторые, вложившиеся по-крупному, объявляют себя банкротами. Однако рынок иностранных долгов на этом не умирает. Ситуация понемногу нормализуется. В 1823 году размещаются облигации Австрии и Португалии, в 1824-м – Бразилии (1,2 млн фунтов), Буэнос-Айреса (1 млн фунтов), Мексики (3,2 млн фунтов), Колумбии (4,3 млн фунтов), а также Греции и Неаполитанского королевства, в 1825 году – Бразилии (2 млн фунтов), Мексики (3,2 млн фунтов), Перу (616 млн фунтов), Центрально-Латиноамериканской конфедерации[59] (163 млн фунтов), а из европейских стран – Дании и Греции. Некоторый толчок рынку дало признание независимости латиноамериканских государств США в 1822-м и Британией в 1825 году. Общий номинальный размер предложенных к размещению латиноамериканских бумаг в 1822–1825 годах оценивается примерно в 20 млн фунтов, реальные объемы размещения меньше, так как вторые выпуски одной и той же страны обычно подразумевали рефинансирование части первого: кроме того, не все выпуски были полностью размещены – часть осела на «книжках» инвестиционных банков. В любом случае общий объем латиноамериканских бумаг был незначительным по сравнению с размерами долга самой Англии, обращавшегося на рынке. А между тем в начале 1823 года в Пойес – страну «с райским климатом», где участки земли продавались за гроши, собрались переселяться 200 колонистов. Среди них были доктора и юристы, банковские служащие, фермеры, лавочники, ремесленники (ювелир, мебельщик), слуги. Фермеры продали свои земли, чтобы купить «необычайно плодородные земли» в Пойесе. Банкирам, докторам и юристам обещано, что они станут местной правящей элитой. Лавочники, ремесленники и клерки надеются на повышение социального статуса. Один эмигрант даже планирует открыть театр. Многие из поселенцев поменяли деньги на доллары этой страны, которые были напечатаны в Эдинбурге. Когда колонисты подплывают к берегу этого крохотного государства, они никак не могут найти город. Возможно, он расположен выше по течению реки, но и экспедиция туда ничего не обнаруживает. Местность болотистая, белых людей нет, за исключением двух переселенцев из США, вокруг поселения недружественных местных индейцев. К тому же скоро начнется сезон дождей. Не буду углубляться в детали, но оба корабля, доставившие колонистов, в силу стечения обстоятельств ушли обратно. Помощь приходит со стороны белизских купцов, которые вывозят колонистов в Белиз на своих кораблях. Многие гибнут в пути или по прибытии на место, в основном от местных болезней – тропической малярии и лихорадки. Из 200 поселенцев только каждому четвертому удается вернуться в Британию. Те, кто выжил, лишаются всего оставшегося имущества. Большую часть они потеряли еще в Англии, когда обменяли средства, вырученные за проданные дома и землю, на «фантики» Пойеса, а то имущество, что они взяли с собой в Америку, было продано в счет компенсации затрат Белиза на спасательную операцию. К этому времени правитель территории уже скрылся со всей семьей и деньгами во Франции. Он тоже практически ничего не заработал. Во-первых, при размещении займа была предусмотрена рассрочка платежа. Инвесторы в облигации внесли только первые 15% суммы, оставшиеся деньги, подлежавшие уплате в январе и феврале 1823 года, уже не пришли. Продажа земли в Пойесе шла активно, всего было заключено 500 сделок, но велики были и затраты на печать рекламных проспектов, открытие офисов в Лондоне и Эдинбурге, зарплату агентов. К тому же снаряжение экспедиций очень дорого обходилось: нужно было зафрахтовать корабль и обеспечить колонистов всем необходимым на время пути и первый год жизни в поселении. На примере облигаций Пойеса можно прекрасно проследить, как современные авторы сгущают краски, утверждая, что инвесторы лихо клюнули на слишком очевидное мошенничество, тогда как на самом деле в режиме реального времени в этом было не так-то просто разобраться. Так, Эдвард Чанселлор, автор в целом очень добротной и полезной книги «Пусть дьяволу достанется последнее…», примерно так рассказывает о том, кто его высочество Грегор и как он создал свое государство. Настоящее имя этого человека – сэр Грегор Макгрегор, он шотландский авантюрист, ветеран наполеоновских войн. Макгрегор подался в Венесуэлу из-за многочисленных неоплаченных долгов. В Англии Макгрегор уверял, что он якобы служил в армии Симона Боливара и был героем борьбы Латинской Америки за независимость, а земли и титул правителя были ему пожалованы за военные заслуги. На самом деле в Америке он не воевал, и если в Англии он выдавал себя за латиноамериканского героя, то в Америке – наоборот, за европейского. Там он именовался «рыцарем португальского ордена креста». Макгрегор создал свое «государство», напоив местного индейского вождя. «Город» Макгрегор назвал в честь своей жены Жозефы [Chancellor 2000, р. 96–97]. Попробуем разобраться. Из серьезного современного исследования аферы Макгрегора, проведенного английским журналистом Дэвидом Синклером (David Sinclair), который работал с архивными документами, мы узнаем следующее: • Макгрегор в Южной Америке действительно сражался в армии Симона Боливара и там был национальным героем. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что когда он вернулся в Венесуэлу после краха своей затеи с облигациями Пойеса, то был принят самим президентом страны, его генеральское звание было подтверждено, и ему была назначена генеральская пенсия. Когда Макгрегор умер в Каракасе в 1845 году, он был похоронен с воинскими почестями [Sinclair 2004, р. 308]. • Макгрегор был женат на двоюродной сестре самого Симона Боливара, то есть был лицом из первого круга национального латиноамериканского героя. • Земля Макгрегору действительно была подарена индейским вождем, который контролировал Москитное побережье. Оно не было колонизировано ни испанцами, ни португальцами, ни англичанами, поскольку эта территория была мало пригодна для проживания. Получается, что местный вождь был ее полноценным хозяином и имел на такой подарок полное право. Это дарение было даже зарегистрировано Макгрегором в Англии [Sinclair 2004, р. 80], правда, не до конца ясно, какую юридическую силу эта регистрация имела. Вождь, конечно, «отписал» Макгрегору кое-какую землю, не предполагая, что тот планирует основать на ней «независимое государство». Когда же вождь узнал о попытках это сделать, он аннулировал дарение земли, но случилось это уже много позже. • И наконец, в 1720-х годах, когда англичане попытались колонизировать эту территорию, они действительно основали там поселение Сент-Жозеф. Через столетие от него мало что осталось, но совпадение этого географического наименования с именем жены Макгрегора – это чистая случайность. Все это конечно же не отрицает того факта, что Макгрегор был авантюристом, а размещение облигаций Пойеса – это мошенническая схема, которые всегда возникают на пике пузыря. Но ситуация была не столь тривиальной, как ее пытаются сейчас представить некоторые исследователи. Кроме того, возможно, преувеличивается и успех подобных размещений. Чанселлор утверждает, что выпуск облигаций Пойеса оказался очень успешным, объем выпуска составил 600 млн фунтов, бумаги даже котировались с премией к рынку [Chancellor 2000, p. 96–97], а Синклер и научные источники по теме – что первоначально планировавшийся объем составлял только 200 тыс. фунтов, выпуск выше номинала не котировался, а на момент обвала котировок даже не был полностью размещен [Sinclair 2004, р. 82]. Таким вот образом и создаются мифы о раздувшихся на пустом месте финансовых пузырях и безумии толпы. В любом случае по сей день займ «государства» Пойес является единственным займом несуществующей страны, когда-либо размещенным на Лондонской бирже. Что касается суверенных облигационных займов настоящих стран, то первым в апреле 1926 года дефолт по купонным выплатам объявляет Перу, в мае – Колумбия, в сентябре – Чили. В 1827 году дефолт по купонам имеет место у Греции и Мексики, в 1828-м – у Португалии, Буэнос-Айреса и Гватемалы. Котировки держатся только у займов Бразилии и Неаполитанского королевства. Английское правительство отказывается вмешиваться и на военном, и на дипломатическом уровне. Премьер-министр лорд Каннинг дал понять, что банкротства латиноамериканских стран – это частная проблема решивших поспекулировать инвесторов, что, в общем-то, для внешней политики тех лет нехарактерно. Ряд современных исследователей приводят здравые аргументы в пользу того, что бум и последующий крах на рынке латиноамериканских облигаций нельзя считать манией. Так, в исследовании Марка Фландро (Marc Flandreau) и Хуана Флореса (Juan Flores) убедительно показано, что профессиональный рынок заранее понимал качество того или иного выпуска. Первоклассные банки не брались за размещение плохих бумаг. Так, по выпускам, в которых участвовал банк Ротшильда, который считался тогда самым уважаемым[60], не было ни одного дефолта. А таких выпусков было девять! Если Ротшильд иногда и участвовал в тендерах на размещение «плохих» бумаг, то предлагал правительству заинтересованной страны условия гораздо хуже, чем другие брокеры, чтобы доходность инвестора была выше. Бумаги, размещавшиеся Ротшильдом, приносили гораздо меньшую доходность, чем другие, на которых не было его «знака качества». По всей видимости, либо инвесторы в отсутствие достоверной информации ориентировались по «знаку качества» банка с репутацией, либо ожидали, что в случае чрезвычайной ситуации уважаемый банк будет поддерживать рынок своими операциями (банк Ротшильда в некоторых случаях так и делал). Сомнительные бумаги размещались второсортными брокерами. Эти бумаги были больше похожи на лотерейные билеты – высокая доходность, но и высокий риск потерять деньги. В этом смысле облигации, размещавшиеся банками второго эшелона, с самого начала были «мусорными». С учетом рассрочки платежей инвесторов и регулярных выплат процентов ожидаемая доходность была высока, то есть вполне могла быть адекватной риску. Джоржо Фодор, например, отмечает, что некоторые выпуски размещались совсем дешево. Так, вторая часть второго перуанского займа была размещена по 78% от номинала, а остаток – только по 30%. Кроме того, с «розничного» инвестора удалось собрать совсем немного денег. Огромное количество планировавшихся выпусков так и не было размещено, не полностью были распроданы и состоявшиеся выпуски. Например, не пользовался популярностью займ Объединенных провинций Центральной Америки, на «книжке» инвестиционного банка осталась существенная часть выпуска облигаций Буэнос-Айреса 1824 года. Как отмечает Фодор, многие источники говорят об успехах латиноамериканских облигаций, между тем в самый благоприятный для размещения период не удалось распродать выпуск облигаций города, который был свободен от испанского колониального владычества уже 13 лет. Это должно заставить нас с осторожностью принимать подобные истории про другие, гораздо более проблемные выпуски. Получается, что и рядового инвестора не удавалось так легко завлечь покупать бумаги сомнительного качества. По мнению Фландро и Флореса и мнению Фодора инвесторы знали, что делали, они более-менее адекватно представляли себе качество того или иного выпуска акций и шли на осознанный риск. Другой исследователь, Франк Даусон (Frank Dawson), подчеркивает тот факт, что многие выпуски оплачивались не только живыми деньгами. Например, в ходе самого первого (колумбийского) займа в новые облигации конвертировались облигации, выпущенные в ноябре 1819 года Симоном Боливаром в счет бесплатных поставок ему оружия иностранными купцами. Общая сумма этих облигаций составляла около 550 тыс. фунтов, которые были конвертированы в 890 тыс. фунтов нового займа. Такие льготные условия были связаны с тем, что поставки оружия Боливару, когда исход битвы был еще под вопросом, являлись крайне рисковым делом, поэтому Боливар теперь, когда он победил, считал справедливым заплатить тем, кто его поддерживал, очень высокие проценты. Таким образом, за живые деньги размещалось только около половины выпуска [Dawson 1990, р. 26–28]. То же самое касается выпусков Перу и Чили. Наконец, существенным фактором, повлиявшим на прекращение обслуживания некоторых облигаций, являлось поведение инвесторов и инвестиционных банков-андеррайтеров, из-за которых эмитенты понесли серьезные убытки. Обычно условия выпуска подразумевали, что андеррайтер, помимо комиссии, удерживает у себя из привлеченных средств суммы, необходимые для обслуживания долга в первые два года (это давало бумагам дополнительную надежность). Но некоторые из банков обанкротились, причем спецификой момента являлся тот факт, что английские банки обанкротились до объявления дефолтов по облигациям, а не после. Некоторые страны понесли на этом существенные убытки, ведь юридические обязательства по обслуживанию долга лежали на странах, а не на банках. Например, Колумбия потеряла 350 тыс. фунтов при банкротстве банка B.A. Goldschmidt в 1826 году, Мексика – 400 тыс. фунтов [Fodor 2002]. Второй вид убытков стран-эмитентов связан с тем, что во многих случаях инвесторы первыми прекращали платить причитающиеся с них суммы: так, например, был оплачен только первый взнос первого перуанского займа 1822 года. При этом банки-андеррайтеры, согласно договорам, удерживали из объемов размещения суммы на обслуживание долга в полном объеме, что тоже вело к косвенным убыткам эмитентов. Чанселлор, который представляет бум на рынке латиноамериканских облигаций как манию, опускает все факты, говорящие против этой гипотезы. Так, он не упоминает, что размеры выпусков были невелики по сравнению с объемами лондонского долгового рынка, что некоторая часть облигаций являлась конвертацией старых, ничем не гарантированных долгов, что многие не были полностью размещены, что инвесторы предпочитали выпуски, организованные банком с первоклассной репутацией, что наиболее рискованные выпуски размещались и по 30% от номинала, что сами латиноамериканские страны понесли убытки из-за банкротств андеррайтеров… Вот так создается легенда. Можно ли активность инвесторов на рынке облигаций латиноамериканских стран назвать манией – спорный вопрос. Маньячность бума на рынке акций кажется более очевидной. Ажиотаж на рынке акций 1820-х годов в Англии – это, наверное, первый сырьевой бум на фондовом рынке. В Англии возникло мнение, что спрос со стороны новых независимых стран на ресурсы приведет к дефициту сырья. Вверх ползут цены на сырье, а с ними и акции сырьевых компаний, в том числе и из Латинской Америки. Лучше всего разобраться в этой ситуации на примере акций южноамериканских и совместных предприятий. Так, акции компании Anglo-Mexican подскочили с 33 фунтов до 150, Real del Monte (мексиканской компании, занимавшейся добычей серебра аж с 1525 года) – с 500 до 1350 фунтов. При этом акции обеих компаний при размещении можно было также купить с плечом. За Anglo-Mexican достаточно было заплатить 10 фунтов, а за Real del Monte – 70. Так что прибыли тех, кто купил с маржой, достигали 2000%. Кстати, хвалебные аналитические отчеты по мексиканским добывающим металлы компаниям писал не кто иной, как будущий премьер-министр Бенджамин Дизраэли. Для этого он даже нанимал агентов из сотрудников компаний, которые рассказывали ему о положении дел. В своем отчете он пришел к выводу, что цены акций будут еще выше[61]. Те, кого смущала игра на латиноамериканских акциях, могли вложиться в IPO вновь созданных английских компаний. Первой была Alliance Fire and Insurance Company, созданная знаменитым банкиром Натаном Ротшильдом. Успешное размещение этой страховой компании вызвало целую волну выпусков поменьше. Ситуация напоминала 1720 год, когда бурный рост котировок «Компании Южных морей» породил аналогичную волну создания новых компаний и размещения их акций. Одна компания (Metropolitan Bath Company) планировала заниматься подведением морской воды в Лондон по трубам, для того чтобы жители города, которые не могут себе позволить ездить на курорты, имели возможность принимать морские ванны. Другая компания (London Umbrella Company) обещала избавить публику от неудобства таскать с собой зонтик в солнечную погоду и оказаться без зонтика, когда начался дождь. Для этого она планировала сделать в Лондоне станции по выдаче зонтов в прокат за небольшую плату. Metropolitan Fish Company обещала поставлять в Лондон дешевую рыбу для бедных, London Pawnbroking Company обещала избавить бедных от ростовщиков, London Cemetery Association for the Security of the Dead (Лондонская кладбищенская ассоциация по защите трупов) обещала защитить могилы от похитителей трупов, зарабатывать она собиралась путем взимания платы за погребение и продажей защищенных (типа банковского хранилища) могил. Вследствие резкого роста цен на металлы была создана компания, которая собиралась извлекать со дна моря в местах боевых сражений и перерабатывать как лом пушечные ядра; она уверяла инвесторов, что на эти ядра, находящиеся, строго говоря, в государственной собственности, государство не претендует. Как и в 1720 году, появились и памфлеты, пародирующие эту волну инкорпорирования новых бизнесов. В одном памфлете говорится о компании, созданной с целью осушить Красное море и найти сокровища иудеев, которые те могли потерять, когда бежали из Египта. Наиболее распространенной практикой промоушена таких компаний было привлечение членов парламента или пэров Англии в качестве свадебных генералов. Высокопоставленных и знатных лиц обычно делали членами советов директоров. Члены парламента сидели и в советах директоров компаний, намеревавшихся вести бизнес в Латинской Америке. Два графа и один член парламента входили в совет директоров Colombian Pearl Fishery Association – компании, созданной с целью поиска жемчуга в Тихом океане; герцог Веллингтонский и герцог Йоркский были членами совета директоров American Colonial Steam Navigation Company, а сам премьер-министр и три члена его кабинета согласились стать директорами в компании, которая собиралась инвестировать 1 млн фунтов в разведение шелковицы в Англии, что было заведомо обречено на неуспех из-за неподходящего климата. Обсуждалось введение законодательства, ограничивающего спекуляцию. Даже вспомнили об «Указе о пузырях» 1720 года, который с того времени фактически не применялся. Но в итоге ничего сделано не было. «Теоретические обоснования» предлагались такие: человеческие безумие и глупость не должны законодательно регулироваться (иными словами, человек имеет право на глупость – вполне демократический подход, борьба за права человека. – Е.Ч.); надежды тех, кто вовлекся в спекуляцию, сами рано или поздно растворятся в воздухе, а инициаторы схем останутся с одним разочарованием (не совсем так – можно успеть собрать и денег тоже. – Е.Ч.); непонятно, как парламент мог бы вмешаться (еще бы, ведь многие получают деньги в таких компаниях – Е.Ч.). Всего в 1824–1825 годах было создано 264 новые компании. Совокупные заявленные инвестиции за январь 1825 года, пиковый месяц лихорадки, составили 327 млн фунтов, было произведено около 70 IPO подобных компаний, из них пять – железных дорог; но это отдельная история. Только одна из этих компаний пережила панику 1827 года [Smith 1848, p. 19]. Спекуляции сырьем, акциями и облигациями продолжались несколько месяцев, но весной 1825 года эйфория начала утихать. Некоторые латиноамериканские облигации падают в цене. Акции самой громкой из компаний, добывающих металлы, – Real del Monte – сваливаются с 1550 фунтов до 200 (цена размещения составляла 400). В среднем глубина падения цен на акции составила 80%, а некоторые упали до нуля. Как уже упоминалось выше, с конца XVIII века в Англии обращались бумажные деньги, но в 1819 году, после победы над Наполеоном, страна вернулась к золотому стандарту. Однако в силу нехватки металла некоторым банкам было разрешено печатать необеспеченные золотом банкноты вплоть до 1832 года. Это была одна из причин инфляции активов во время бума (то есть рост цен на активы в реальном выражении был ниже номинального) – банки печатали больше банкнот и предоставляли кредиты рыночным спекулянтам. Когда рынок зашатался, кредитование умерло. Население поняло, что банки уязвимы, и начало изымать вклады. Некоторые банки подверглись набегам вкладчиков, 70 обанкротились. Не избежал набега и Банк Англии, чьи золотые резервы упали ниже 1 млн фунтов. Экономика встала. Лавки ломились от товаров, еда была в изобилии, но иссох кредит. Всюду принимались только золотые деньги. А золота для обслуживания товарного обращения не хватало, вопреки тому что латиноамериканские страны сулили золотые горы. Страна находилась буквально в двух шагах от перехода на бартер. Помогли чрезвычайные меры. Банку Англии разрешили спешно выпустить в обращение банкноты мелкого номинала (раньше это было запрещено), которые были найдены на складе. Монетный двор заработал на полную мощность и штамповал 150 тыс. монет в день. Натан Ротшильд доставил 300 золотых соверенов из Франции. Денежное обращение было восстановлено, Банк Англии избежал банкротства (напомним, что это частный банк) и стал принимать банкноты и векселя наиболее надежных банков и купцов. В 1826 году страна находилась в тяжелой депрессии. Производство падало, рабочие эмигрировали, причем эмиграция поощрялась самим государством. В Норвиче начались выступления ткачей. Акции Real del Monte понизились еще больше – до 115 фунтов, Bolivar Mining Association, которая предполагала добывать медь на землях, принадлежавших самому Симону Боливару, упала в цене с 28 до 1 фунта. Крах рынка компаний, добывавших металлы, случился во многом из-за выхода в свет в начале 1826 года материалов некого капитана Хида, служившего главным инженером Rio Plata Mining Association. Компания, в которой он работал, в инвестиционном проспекте уверяла, что на ее концессионной территории в Латинской Америке золото имеется в таких количествах, что его нужно «только отмыть от глины». Хид же говорил о том, что дела обстоят отнюдь не так. Законность получения большинства концессий оспаривается, всюду используется рабский труд, британские технологии в условиях Латинской Америки неприменимы, местное испаноязычное население не понимает, что такое договор и что время имеет ценность. Крах добывающих компаний связан с непониманием англичанами тех стран, которые явились объектом спекуляции. 1825–1827 годы можно считать дном финансового кризиса, во время которого активность на фондовых рынках замерла. Но по историческим меркам до нового бума было недалеко – всего 20 лет. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МАНИЯ В 1820 годах был изобретен первый паровой двигатель. Это изобретение было встречено со скептицизмом и беспокойством. Сначала думали, что локомотивы распугают мирно пасущихся коров, которые перестанут давать молоко, и кур – они перестанут нести яйца; дым от паровоза отравит всех птиц в округе, а скорость движения поезда – аж 15 миль в час – разорвет на части пассажиров. Оппозиция железным дорогам существовала в лице собственников каналов – их прямых конкурентов – и владельцев поместий, которые не хотели, чтобы сельская тишина была нарушена. Когда был предложен проект Большой западной дороги, которая должна была связать Лондон с западом страны, университеты в Оксфорде и Итоне выступили против. Но инвестиционная лихорадка не заставила себя ждать. Уже в 1825 году была открыта первая железная дорога Stockton&Darlington. Вскоре было подписано шесть парламентских указов, разрешающих строительство новых железнодорожных линий. Но как мы помним из рассказа о латиноамериканской лихорадке, в 1825 году в стране разразился кризис, и страсти по железным дорогам тоже временно поутихли. В 1831 году было открыто железнодорожное сообщение между Ливерпулем и Манчестером и пришло окончательное понимание того, что поезд предпочтительнее лошадиной тяги. Liverpool&Manchester Railway объявила 10%-ные дивиденды, и ее акции удвоились в цене. Как объясняет Артур Смит (Arthur Smith), который проанализировал железнодорожный пузырь по горячим следам (его книга «Пузырь века, или Ошибки инвестиций в железные дороги…» – «The Bubble of the Age or the Fallacies of Railway Investments, Railway Accounts and Railway Dividends» – вышла в 1848 году), компании старались выплачивать дивиденды, потому что это приводило к росту котировок, бумаги начинали торговаться с премией. По этой причине многие установили бы дивиденды в размере и 20, и 30, и 50% от цены акций, лишь бы вздуть цену. Однако в то время выплаты дивидендов были ограничены 10% собственного капитала, при этом было запрещено выплачивать дивиденды не из прибыли – за счет самого капитала. Многие исследователи пишут об этом 10%-ном ограничении на дивиденды, не вдаваясь в подробности; но, как мне стало понятно из книги Левина [Lewin 1968], оно распространяется на полугодовые выплаты. Получается, что за год можно выплачивать до 20% – это очень много. Кстати, данные приведенной ниже таблицы противоречат мнению Смита о том, что дай только компаниям волю, они стали бы выплачивать и 20-, и 30-, и 50%-ные дивиденды. Как видно из таблицы, лишь одна компания (о ней мы поговорим подробнее ниже) платила по верхней разрешенной границе. Что это, опять переоценка «пузыристости» событий? emp1 Выплаты дивидендов крупнейшими железнодорожными компаниями в Великобритании в 1844–1852 годах, в % от собственного капитала 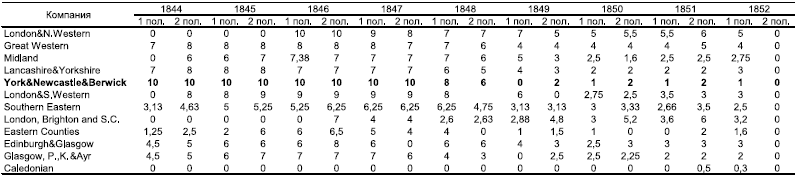 Источник: [Lewin 1968, р. 365]. emp1 Рост котировок Liverpool&Manchester Railway подхлестнул вторую волну лихорадки, которая длилась вплоть до 1837 года. Железнодорожная мания развивалась на фоне общего спекулятивного подъема на рынке, вызванного выходом страны из депрессии 1825 года. В моде были теперь облигации самой Испании, а не ее бывших колоний, а также практически любые английские акции. В 1837 году рынок опять замер, новые проекты более не предлагались. К началу 1840 года большинство железнодорожных акций котировались по ценам ниже цены размещения. К этому моменту в стране было построено около 2000 миль железных дорог, и инвесторы уже не верили в будущий рост отрасли в целом. Считалось, что прокладка железнодорожной сети в Англии в основном завершена. Однако в 1842 году возникает новая волна интереса к железным дорогам. Во-первых, предпринять железнодорожное путешествие уговаривают королеву Викторию, и она находит его очень приятным – в железнодорожном вагоне не так жарко и пыльно, как в дилижансе, и можно уединиться. Ослабевает и оппозиция землевладельцев строительству дорог, поскольку те осознают, что если через их земли проходит дорога, то они растут в цене. Появляются памфлеты, в которых железные дороги объявляются беспрецедентным достижением научно-технического прогресса. Как всегда (и это мы будем наблюдать во время интернет-бума), говорится не только об экономической стороне дела, но и о том, как строительство дорог трансформирует общество в целом: наступление железнодорожной эры навсегда изменит скорость жизни. Один памфлетист отмечает, что изменился даже язык. Появились такие обороты речи, как «с железнодорожной скоростью», «набрать скорость», да и расстояния стали измерять в часах и минутах езды на поезде. Один памфлетист договорился до того, что теперь весь мир станет одной большой семьей, будет говорить на одном языке, управляться одним законом и верить в единого бога. Узнаете риторику интернет-волны? Что касается инвестиций, то предполагалось, что инвестиции в железнодорожные акции останутся безопасными даже в случае кризиса. Появилась и специализированная железнодорожная пресса. В начале 1840-х годов были учреждены три железнодорожных журнала (ведущий назывался Railway Times), а к 1845 году (это был второй пик лихорадки) новые железнодорожные газеты появлялись каждую неделю. Всего возникло 14 еженедельных, две ежедневных, одна утренняя и одна вечерняя газеты. Эти газеты рекламировали выпуски железнодорожных бумаг, в том числе сомнительного качества, а в ответ за лояльность получали рекламные деньги от железнодорожных компаний, платившиеся за печать инвестиционных проспектов. Некоторые газеты были созданы с единственной целью – урвать кусок рекламного пирога, – и их даже не пытались распространять. У железнодорожного бума был свой харизматичный лидер – Георг Хадсон, председатель совета директоров York&North Midland Railway и мэр города Йорка. Он начал интересоваться железными дорогами в 1834 году, когда, согласно легенде, один инженер убедил его превратить Йорк в центр железнодорожного сообщения СевероВосточной Англии. York&North Midland Railway была открыта в 1842 году, а Хадсон стал планировать новые линии и начал скупать и брать в аренду существующие. Через серию поглощений он получил контроль над дорогами до Лондона, Бристоля и Бирмингема. В 1844 году принадлежавшая ему сеть простиралась на 1000 миль, что составляло 30% от всех путей. Хадсон получил прозвища Короля Железных Дорог и Железнодорожного Наполеона. Он был настолько вездесущ и пронырлив, что стал председателем советов директоров трех дорог, интересы двух из которых были прямо противоположны интересам третьей. Как ему это удалось, исследователи железнодорожной лихорадки объяснить не могут [Lewin 1968, р. 358]. Хадсон вполне сознательно подстегивал интерес публики к железным дорогам. Он тщательно планировал пышные церемонии открытия новых линий, на которых выступал с речами, обещая железным дорогам великое будущее. Его стиль правления компаниями был показным и отличался сочетанием хвастовства, властности и крохоборства. Хадсон был скрытен в том, что касалось финансовой информации. О состоянии дел в компаниях, где он председательствовал, хорошо осведомлен был только он сам. Он менял принципы бухучета так, чтобы затуманить дело. Фальсификация отчетности нужна была, чтобы высокие дивиденды, выплачивавшиеся из капитала, а не прибыли, выглядели легитимно. Так, впоследствии было установлено, что в период по июль 1848 года включительно Хадсон выплатил из прибыли меньше половины (205 тыс. из 515 тыс. фунтов) всех дивидендов. Если другие директора компании протестовали, Хадсон угрожал отставкой с поста председателя совета директоров. Его авторитет был столь силен, что директора тут же шли на попятную [Lewin 1968, р. 363]. Вместе с тем Хадсон жестко контролировал издержки и старался устанавливать максимальные тарифы – самые высокие в Англии. Неоправданная экономия вела к авариям: например, на одной линии она произошла из-за того, что машинистом был нанят подслеповатый старик. Но бизнес Хадсона генерировал хороший денежный поток, что позволяло ему обходить конкурентов при поглощениях и предлагать более высокие цены, а также платить высокие дивиденды акционерам. В случае York&North Midland Хадсон начал платить дивиденды в размере 10% (на собственный капитал) еще до того, как дорога была построена, что подхлестнуло котировки, даже несмотря на то, что акционеры знали о факте выплаты дивидендов из капитала. Посмотрите, как разительно отличается динамика выплаты дивидендов Хадсоном и другими компаниями (в приведенной выше таблице компания Хадсона выделена полужирным шрифтом). И кстати, вы можете заметить, что те, кто вложился в Хадсона в самом начале, полностью вернули свои деньги только за счет дивидендов. В октябре 1844 года Хадсону удалось собрать с акционеров York&North Midland по подписке 2,5 млн фунтов при полном отсутствии информации о том, на что пойдут деньги. Это несколько удивило даже самого Хадсона («Я получил свои деньги, не сказав ни одной живой душе, как я их потрачу!» – прокомментировал он такой энтузиазм инвесторов). Железные дороги стали новой религией, а Хадсон – ее мессией. В мае 1845 года, то есть буквально за несколько месяцев до коллапса, Хадсон умудрился выпустить акций на 10 млн фунтов. Никакого государственного планирования железнодорожной сети не существовало. Реализовать проект по строительству дороги можно было сравнительно просто – стоило только учредить компанию, организовать из числа энтузиастов «местный комитет», который поддержал бы идею разместить акции, нанять инженера для плана прокладки пути и получить от парламента соответствующее разрешение. В этом разрешении указывался размер капитала, который компания могла привлечь с разбивкой на собственный капитал и долговое финансирование [Smith 1848, p. 19]. При покупке акций достаточно было уплатить лишь первоначальный взнос в размере 10% и получить на руки скрип. Остальные деньги вносились частями по мере продвижения строительства. Скрипы, как и в случае латиноамериканских бумаг, свободно обращались. Некоторые компании выпускали скрипы еще до получения от парламента разрешения на строительство. Почему же не существовало регулирования? Сначала государственные мужи искренне верили в то, что любой может пустить поезд по существующей дороге, достаточно только уплатить определенную сумму ее владельцу. По этой логике на заре отрасли железные дороги монополиями не считались. Однако в середине 1840-х годов стало понятно, что они все же представляют собой монополии на конкретных направлениях. В 1844 году было подано 66 заявок в парламент на строительство новых дорог и назрел вопрос государственного регулирования стихийного процесса. Однако Хадсону удалось лоббировать принятие «беззубого» законодательства, по сути дела не ограничивающего инвесторов. Что было сделать легко, так как многие парламентарии плотно увязли в акциях железнодорожных компаний, а также были членами советов директоров этих компаний. В ответ сторонники регулирования лишь повысили депозит, который уплачивался в начале реализации нового проекта, с 5 до 10%. Это должно было приостановить вал бессмысленных проектов. Кстати, участие английской высокопоставленной знати в железнодорожных проектах прекрасно описано в романе известного английского писателя XIX века Энтони Троллопа (Anthony Trollope) «Как мы сейчас живем» («The Way We Live Now»), опубликованном в 1873 году. Его главный герой Огюст Мельмот хоть и собирательный образ, но в основном списан с Хадсона. Мельмот – один из инициаторов строительства железной дороги из Солт-Лейк-Сити на западе США до порта Веракрус в Мексике. Компания еще не создана, а акции номиналом 100 фунтов уже можно продать за 112. Напоминаю, что поскольку они оплачивались частями, то прибыль на вложенный капитал колоссальная. Мельмот продает часть свого пакета, некоторые другие участники – тоже, и об этом узнают баронет Карбьюри и лорд Ниддердейл, приглашенные в компанию из-за своих родословных. Ниддердейл решает, что и ему пора «зафиксировать прибыль», и, ничтоже сумняшеся, обращается к Мельмоту с вопросом о том, можно ли ему продать часть акций. «Нет», – отвечает тот. И объясняет отказ так: вы за них ничего не платили, поэтому решения здесь принимаю я. Акции за вами забронированы, но на вас не оформлены. Вы сможете продать их «позднее», а пока должны побыть членом совета директоров [Trollope 2004, chapter 12]. Как выражался Фамусов, «подит-ка послужи!». А мания только начиналась. 1844 год был очень удачным для экономики Англии. Обильные урожаи вызвали падение цен на зерно. Цены на железнодорожное строительство падали. Несмотря на это, из-за обилия заказов три ведущие строительные компании процветали и платили дивиденды около 10%, интерес публики к железным дорогам был как никогда высок. Всего осенью 1844 года для рассмотрения в парламентскую сессию 1845 года было предложено 220 проектов, а к маю их число достигло 240 [Lewin 1968, р. 4, 16]. В газетах печатались инвестиционные проспекты, которые обычно нахваливали проект, отмечали, какие уважаемые люди входят в «местный комитет» и обещали дивиденды не ниже 10%. Артур Смит утверждает, что в 1844–1845 годах единственная мысль мучила директоров компаний: как предложить проект, который лишь выглядит разумным. Ибо конечной целью был не проект сам по себе, а размещение акций компании [Smith 1848, p. 14]. Мания отличалась особой силой в провинции. К этому году Лондон уже был связан железнодорожным сообщением со всеми крупными городами. Новые биржи были открыты в Эдинбурге, Глазго, Бирмингеме, Бристоле и более мелких городах. В одном только Лидсе имелось целых три биржи, на которых велась игра на железнодорожные акции. Спекуляция была особенно сильна на севере страны. Она подстегивалась тем, что местные банки начали выдавать кредиты под залог железнодорожных акций. (Банки, кредитующие под залог акций, назывались биржевыми. Кредит составлял до 80% рыночной стоимости[62].) Схема манипуляции рынком была довольно проста. Если инициаторы проекта видели, что выпуск акций пользуется успехом, то размещали лишь маленькую часть его, а остальное придерживали для себя и друзей. Это помогало загнать в угол тех, кто продавал вкороткую. Если акции шли вверх, то инициаторы избавлялись от своей доли или ее части. Для многих «промоутеров» железных дорог это было конечной целью всего мероприятия. Пик спекуляции пришелся на конец лета 1845 года. Рост котировок на отдельные скрипы составлял 500%, а процентные ставки по кредитам под залог железнодорожных бумаг достигли 80% – явный признак того, что банки ожидали падения котировок (такую же картину по процентным ставкам мы увидим в 1929 году в США). То, что надувается пузырь, было понятно. На правительственном уровне обсуждалось, нужно ли ограничить спекуляцию. Еще в 1844 году был законодательно ограничен выпуск банкнот Банком Англии[63]. Но на этом остановились. Обсуждалось также повышение процентной ставки, но и эта идея не прошла. Правительство испугалось введения жестких ограничительных мер, так как они могли привести к панике. То же самое мы будем наблюдать и на протяжении XX века – например, реакция японского правительства на пузырь 1980-х годов и американских финансовых властей на интернет-бум была аналогичной. Ситуацию, складывавшуюся в 1845 году на рынке ценных бумаг железнодорожных компаний, можно считать экономически абсурдной. Скрипы в основном котировались с премией, несмотря на то что зачастую на одном направлении конкурировали за деньги инвесторов до 10 бумажных проектов! Таким образом, цены оторвались от экономических реалий и зависели теперь исключительно от энтузиазма инвесторов. В «Таймс» появилась статья, весьма иронично описывавшая настроения инвесторов. В ней утверждалось, что все инвесторы верят, что крах рано или поздно произойдет, но каждый думает, что ему лично его удастся избежать, «ни один не верит, что он не успеет на последний поезд со станции Паника». Это все равно что сказать, будто все люди смертны, кроме меня, – проводит аналогию автор статьи. «Таймс» полагала, что спекулянты скорее наивны, чем циничны. Это была первая публикация такого рода. До этого все газеты и журналы, включая саму «Таймс» и уважаемый «Экономист», воздерживались от публикаций подобного рода. Молчали и о коррупции в этой сфере. Этой публикацией как будто прорвало плотину. И понеслось. Вспомнили о том, что к 1845 году новых проектов скопилось на 8 тыс. миль – это в 20 раз больше, чем протяженность страны с севера на юг, и в 4 раза больше существовавшей сети, которая, как считали в 1840 году, полностью закрывает потребности. А прожекты продолжали появляться примерно по дюжине в неделю. Железные дороги должны были охватить весь мир – от Ирландии до Британской Гвианы. (Герой книги Троллопа забрался, как мы помним, в Мексику.) Согласно одному источнику, количество новых проектов на сентябрь составило 450 штук. В Railway Times новые инвестиционные проспекты занимали 80 страниц. В октябре было объявлено о еще 50 новых проектах. К октябрю 1845 года всего было зарегистрировано 1428 компаний. Всего хотели собрать около 700 млн фунтов. Реально же было привлечено 48 млн фунтов [Smith 1848, р. 20]. Согласно другому источнику, ссылающемуся на данные «Справочника для акционеров железнодорожных компаний» («Railway Shareholder’s Manual») издания 1847 года, число зарегистрированных компаний составляло 1118, включая несколько линий за пределами Великобритании; общая протяженность линий по заявленным проектам должна была достигнуть 20,7 тыс. миль, а совокупные инвестиции – 350 млн фунтов [Lewin 1968, р. 116]. Заговорили о том, что для реализации всех планов потребуется капитал в таком объеме, который просто не существует. Новые проекты требовали как минимум 560 млн фунтов стерлингов, обязательства по старым составляли около 600 млн фунтов, в то время как весь национальный продукт оценивался примерно в 550 млн фунтов и страна могла безболезненно тратить на железные дороги не более 30 млн фунтов в год. Инвестирование сотен миллионов в железные дороги обескровило бы все другие отрасли, оставив их без капитала. На рынок все чаще стала просачиваться информация и о мошенничестве инициаторов проектов. Так, в Лидсе стало известно о том, что в одном проекте было продано акций в 10 раз больше, чем всего было разрешено выпустить. В обращении находились и до сих пор торговались с премией (!) скрипы одной из компаний, проект которой по строительству железной дороги был отвергнут и которая подлежала ликвидации. В октябре цены начали снижаться, так как спекулянты вынужденно ликвидировали одни позиции, чтобы довносить капитал по другим: как уже говорилось, акционеры должны были вкладывать капитал по мере того, как продвигалось строительство. Банк Англии поднял процентную ставку всего на полпроцента (с 2,5 до 3%), но это было последней каплей. «Рынок развернулся от ни с чем не сравнимой бодрости до почти безнадежной депрессии – от неестественного и нестабильного роста к максимальной подозрительности и недоверию», – писала одна из газет. Встал рынок акций даже тех компаний, которые исправно платили дивиденды. Акции Great Western (линия из Паддингтона в Бристоль) упали на 40%. Взорвался пузырь бумажного богатства. Согласно распространенному мнению, схлопывание пузыря на рынке железнодорожных акций привело к экономической депрессии 1847 года, однако известный исследователь железнодорожной лихорадки XX века Генри Левин не согласен с этим мнением [Lewin 1968, р. 282]. Организаторы выпусков принуждали акционеров, купивших скрипы, выполнять свои обязательства. Связано это было с тем, что если проект останавливался, то инициаторы были ответственны за все его расходы[64]. В 1846 году размер таких требований довносить капитал (capital calls) составил 40 млн фунтов. Кроме того, до краха пузыря, когда скрипы торговались с премией, подписчики получали только часть акций, на которые оставляли заявки; теперь же заявки удовлетворяли на 100% и заставляли довольно быстро вносить все 100%. Капитал утекал в железные дороги из других отраслей экономики, а также с рынка труда: те спекулянты, которые продолжали вносить деньги, сокращали личное потребление и отказывались от слуг. Экономическую ситуацию усугубил неурожай 1846 года. Плюс произошло одноразовое сокращение запасов продукции по всей стране, из-за того что она теперь доставлялась по железной дороге быстрее. Это вызвало падение спроса. За 1846 год рыночная стоимость скрипов упала на 60 млн фунтов. О затихании инвестиционной мании свидетельствует и следующая «производственная» статистика. В 1846 году парламент «по инерции» принял 270 указов, разрешавших строительство более 5000 миль железнодорожной сети с общим объемом капиталовложений в 130 млн фунтов, но это было удовлетворением старых заявок, поданных до октября 1845 года, когда рынок рухнул, либо разрешением на строительство ответвлений от существующих дорог. Для сравнения: в 1847 году было санкционировано строительство 1415 миль железнодорожного полотна, в 1848-м – 373 миль, в 1849 и 1850 годах – 16 и 7 соответственно [Lewin 1968, р. 283, 370]. В начале 1847 года Банк Англии повысил ставку до 4%. Требования довносить капитал (capital calls) продолжали составлять 5 млн фунтов в месяц. 1847 год, наоборот, был урожайным, цены на зерно упали. Разорились около 40 ведущих купеческих домов. К октябрю 1987 года Банк Англии перестал выдавать кредиты под залог любых ценных бумаг, так как его золотые запасы стали угрожающе снижаться. Началось бегство инвесторов из госбумаг. За неделю обанкротились три банка. Резервы Банка Англии продолжали снижаться. Большинство политиков того времени и современных ученых связывают кризис 1847 года с перетоком капитала практически из всех отраслей экономики в строительство железных дорог. К ноябрю 1847-го в железнодорожное строительство реально было привлечено 150 млн фунтов при разрешенных расходах в 375 млн фунтов [Smith 1848, p. 31]. В 1848 году акции железнодорожных компаний продолжали снижаться. Еще одним толчком послужил разоблачительный памфлет о деятельности Хадсона, в котором он обвинялся в выплате дивидендов не из прибыли и обещании высоких дивидендов тем, кто сдавал ему линии в аренду (до 50% в год от оплаченного капитала). Это внесло свой вклад во вздутие цен на активы. К августу общее снижение цен на железнодорожные акции достигло 230 млн фунтов, что сопоставимо со всем национальным продуктом страны. Акции компании Хадсона York&North Midland c пика упали на 2/3 и торговались ниже оплаченного капитала. Акции Great Western упали на 72% и торговались по номиналу. Связано это и с падением прибыльности железнодорожных компаний – из-за конкуренции снижалась плата за проезд. Еще одной серьезной проблемой было превышение запланированных капитальных вложений, иногда в 2–3 раза, а также наличие существенных капитальных затрат уже после окончания строительства дороги [Smith 1848, p. 16, 22]. Стало появляться все больше разоблачительных статей о деятельности Хадсона. Он, оказывается, не только платил дивиденды не из прибыли, но и зарабатывал на перепродаже по ценам выше рыночных акций одной компании другой, где он служил председателем совета директоров. В 1849 году была создана комиссия, расследовавшая его деятельность. Хадсона обвинили в фальсификации отчетности, инсайдерской торговле акциями перед поглощениями компаний, получении прибыли от перепродажи металла контролируемым им компаниям, утаивании денег, выделенных компаниями на покупку земли, незаконном выпуске для себя лично акций и перепродаже их с прибылью на рынке, создании секретного фонда для взяток парламенту, использовании денег, привлеченных компаниями, для покупки личного дома в Лондоне. Всего Хадсон присвоил 600 тыс. фунтов. Выплаты дивидендов из капитала составили около 1 млн фунтов. В уголовных преступлениях его не обвинили, но деньги, выведенные из компаний, все же пришлось вернуть. Хадсон перебрался на континент, где скрывался от кредиторов. В 1865 году он наконец был арестован за долги. Когда в 1871 году Хадсон умер, его состояние было оценено… в 200 фунтов. Не могу не удержаться, чтобы не процитировать здесь отрывок из письма Хадсона в свою защиту. Моя первая книга называлась «Действуют ли менеджеры в интересах акционеров?», и в ней я говорила об агентских проблемах, то есть о конфликте интересов между собственниками и менеджерами компаний или внутри собственника-менеджера, если это одно и то же лицо. Одним из классических вариантов агентских издержек является организация менеджером публичной компании другой, небольшой частной, которая продает товар или оказывает услуги этой публичной компании. Такие сделки на современном юридическом языке называются сделками с заинтересованностью. Их-то и комментирует Хадсон. Его зашита представляется мне интересной. Он пишет: «…Я всегда считал своим долгом прилагать все свои усилия для соблюдения интересов Компании. Я надеюсь и верю, что я сделал это. Но я никогда не считал нужным в силу позиции, занимаемой мною в Компании, ограничивать себя в том, чтобы вступать с Компанией или другими лицами в частные взаимоотношения… Я никогда не считал себя трастовым управляющим, который в принципе не может вступать в подобные сделки, и, по правде говоря, я никогда не сомневался в том, брать ли мне на себя личную ответственность за то, чего могут требовать интересы Компании; и, я полагаю, меня можно было бы простить за то, что я обращаю на это ваше внимание в момент, когда меня обвиняют в том, что, будучи по сути трастовым управляющим, я сделал на Компании прибыль для себя. Вспомните, что в период больших трудностей я взял на себя ответственность предоставить персональную гарантию, необходимую для того, чтобы завершить привлечение денег, необходимых для продления железнодорожной линии на север от Ньюкастла… По этой причине для меня представляется невозможным согласиться с решением комитета, которое мне кажется неверным по отношению ко мне. Если они считают, что я являлся по сути трастовым управляющим, то пусть так оно и будет, но без того, чтобы я возвращал разницу в процентах… У меня и мысли не было о том, что то, что я делал, может заслуживать порицания» [Lewin 1968, р. 360–362]. Кстати, Левин действительно признает, что Хадсон зачастую нес большие финансовые риски, чем другие акционеры. Некоторые современники видели в Хадсоне виновника лихорадки и считали его обвинение восстановлением справедливости. Другие думали, что он стал козлом отпущения. Во время мании мухлевали все (выпуск фальшивых акций от имени компании, в которой он председательствовал, осуществил даже некий член парламента); но в то время как цены росли, и инвесторы, и правительство закрывали на мошенничество глаза; а когда цены начали падать, потребовалась жертва, на которую можно было бы свалить кризис. В 1849 году правительству пришлось принять так называемый «Указ по прекращению строительства железных дорог» («Railway Abandonment Act»), который представлял собой что-то вроде закона о банкротстве для железнодорожных компаний. Согласно этому указу, по представлении не менее 2/3 акционеров компании специальная правительственная комиссия могла разрешить компании приостановить строительство ветки, а также отказаться от взятых ранее обязательств по выкупу земли, в некоторых случаях – после уплаты частичной компенсации собственнику земли [Lewin 1968, р. 372]. Этим не преминули воспользоваться. К 1856 году из 9792 миль, разрешенных к строительству в 1844–1850 годах, было построено всего лишь 5597 миль, или 57% от запланированных. Кто-то использовал указ, кто-то еще не успел собрать и вложить деньги, когда ситуация на рынках ухудшилась, и не стал ничего делать, и лицензии на строительство попросту истекли. В других европейских странах железнодорожных маний не было по причине того, что государство проводило более активную политику. Так, в 1844 году в Пруссии, где тоже началась спекуляция, моментально запретили и опционы, и фьючерсы (то есть покупки с расчетом в будущем). Во Франции решения относительно прокладки путей принимали военные инженеры, а уж потом проект выставлялся на тендер частных инвесторов. В Бельгии дороги строило само государство. В Англии же вера в свободное предпринимательство привела не только к краху фондового рынка и экономическому кризису, но и к созданию железнодорожной сети очень странной конфигурации: из Ливерпуля в Лидс вели три конкурирующие дороги, три ветки существовало и между Лондоном и Петерборо. К январю 1850 года цены акций с пикового уровня упали на 85% и их общая капитализация составляла примерно 50% от собранного капитала. Выручка с одной мили упала до 1/3 докризисного уровня. Дивиденды в среднем составляли 2%, причем часть компаний их вообще не платила. Большая часть неудачных проектов была «добита» с изобретением автомобиля в 1890-х годах. Но у мании были и положительные результаты. К 1855 году Англия обладала самой плотной сеткой железных дорог в мире – в семь раз плотнее, чем Франция или Германия. Это привело к существенному удешевлению перевозки. Кроме того, считается, что в 1844–1845 годах, когда строительство было в самом разгаре, существовал высокий спрос на рабочие руки. Поэтому мания перераспределила доходы от спекулянтов – богатых и представителей среднего класса – к самым бедным и нуждающимся. * * *На фоне железнодорожной мании происходит действие двух романов Чарльза Диккенса – «Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт» и «Крошка Доррит». В «Домби и сыне» мистер Домби, потерявший жену, отдает своего сына няньке, которая живет в пригороде Лондона, в местечке с живописным названием Сады Стегса. Когда же его туда отвозят, то героям открывается такой пейзаж[65]: «Как раз в те времена первый из великих подземных толчков потряс весь район до самого центра. Следы его были заметны всюду. Дома были разрушены; улицы проложены и заграждены; вырыты глубокие ямы и рвы; земля и глина навалены огромными кучами; здания, подрытые и расшатанные, подперты большими бревнами. Здесь повозки, опрокинутые и нагроможденные одна на другую, лежали как попало у подошвы крутого искусственного холма; там драгоценное железо мокло и ржавело в чем-то, что случайно превратилось в пруд. Всюду были мосты, которые никуда не вели; широкие проспекты, которые были совершенно непроходимы; трубы, подобно вавилонским башням, наполовину недостроенные; временные деревянные сооружения и заборы в самых неожиданных местах; остовы ободранных жилищ, обломки незаконченных стен и арок, груды материала для лесов, нагроможденные кирпичи, гигантские подъемные краны и треножники, широко расставившие ноги над пустотой. Здесь были сотни, тысячи незавершенных вещей всех видов и форм, нелепо сдвинутых с места, перевернутых вверх дном, зарывающихся в землю, стремящихся к небу, гниющих в воде и непонятных, как сновидение. Горячие источники и огненные извержения, обычные спутники землетрясения, дополняли эту хаотическую картину. Кипящая вода свистела и вздымалась паром среди полуразрушенных стен, из развалин вырывался ослепительный блеск и рев пламени, а горы золы властно загромождали проходы и в корне изменяли законы и обычаи местности. Короче, прокладывалась еще не законченная и не открытая железная дорога и из самых недр этого страшного беспорядка тихо уползала вдаль по великой стезе цивилизации и прогресса. Но окрестное население все еще не решалось признать железную дорогу. Двое-трое дерзких спекулянтов наметили улицы, и один даже начал строиться, но приостановил среди грязи и золы, чтобы еще об этом подумать. Новехонькая таверна, благоухающая свежей известкой и клеем и обращенная фасадом к пустырю, изобразила на своей вывеске железнодорожный герб; быть может, это было безрассудное предприятие, но в ту пору оно возлагало надежды на продажу спиртных напитков рабочим. Так “Приют землекопов” возник из пивной; а старинная “Торговля ветчиной и говядиной” превратилась в “Железнодорожную харчевню” с подачею жареной свинины – по корыстным мотивам такого же непосредственного и отлично понятного людям свойства. Содержатели номеров были расположены к тому же; и по тем же причинам на них не следовало полагаться. Общее доверие прививалось очень туго. Возле самой железной дороги оставались грязные пустыри, хлевы, навозные и мусорные кучи, канавы, сады, беседки и площадки для выбивания ковров. Маленькие могильные холмики из устричных раковин в сезон устриц или из скорлупы омара в сезон омаров, из битой посуды и увядших капустных листьев в любой сезон вырастали на ее насыпи. Столбы, перила, старые надписи, предостерегающие нарушителей чужого права, задворки бедных домишек и островки чахлой растительности взирали на нее с презрением. Никто ничего от нее не выгадывал и не рассчитывал выгадать. Если бы жалкий пустырь, находившийся по соседству с ней, мог смеяться, он высмеивал бы ее с презрением, как это делали многие жалкие ее соседи. Сады Стегса отличались крайней недоверчивостью. Это был небольшой ряд домов с маленькими убогими участками земли, огороженными старыми дверьми, бочарными досками, кусками брезента и хворостом; жестяные чайники без дна и отслужившие свою службу каминные решетки затыкали дыры. Здесь “садовники Стегса” выращивали красные бобы, держали кур и кроликов, возводили дрянные беседки (одной из них служила старая лодка), сушили белье и курили трубки. Иные придерживались того мнения, что Сады Стегса были названы в честь умершего капиталиста, некоего мистера Стегса, который застроил это место для собственного удовольствия. Другие, по природе своей тяготевшие к деревне, утверждали, что название это ведет начало от тех идиллических времен, когда рогатые животные, известные под названием оленей (stag – олень, а также биржевой спекулянт. – Прим. переводчика), искали приюта в тенистых окрестностях. Как бы там ни было, местные жители почитали Сады Стегса священной рощей, которую не уничтожат железные дороги; и были они так уверены в ее способности пережить все эти нелепые изобретения, что трубочист на углу, который, как было известно, руководил местной политикой Садов, обещал во всеуслышание приказать в день открытия железной дороги – если она когда-нибудь откроется – двум из своих мальчишек, чтобы те вскарабкались по дымоходам его жилища с наказом приветствовать неудачу насмешливыми возгласами из дымовых труб». Проходит немного времени. Может быть, два-три года. Вдруг по сюжету оказывается, что срочно нужно найти бывшую няню сына. Представители мистера Домби снова спешат в этот район. На этот раз перед ними открывается такая картина: «Но Садов Стегса не было. Это место исчезло с лица земли. Где находились некогда старые подгнившие беседки, ныне возвышались дворцы, и гранитные колонны непомерной толщины поднимались у входа в железнодорожный мир. Жалкий пустырь, где в былые времена громоздились кучи отбросов, был поглощен и уничтожен; и место этого грязного пустыря заняли ряды торговых складов, переполненных дорогими товарами и ценными продуктами. Прежние закоулки были теперь запружены пешеходами и всевозможными экипажами; новые улицы, которые прежде уныло обрывались, упершись в грязь и колесные колеи, образовали теперь самостоятельные города, рождающие благотворный комфорт и удобства, о которых никто не помышлял, покуда они не возникли. Мосты, которые прежде никуда не вели, приводили теперь к виллам, садам, церквам и прекрасным местам для прогулок. Остовы домов и начала новых улиц развили скорость пара и ворвались в предместья чудовищным поездом. Что касается окрестного населения, которое не решалось признать железную дорогу в первые дни ее бытия, то оно поумнело и раскаялось, как поступил бы в таком случае любой христианин, и теперь хвасталось своим могущественным и благоденствующим родственником. Железнодорожные рисунки на тканях у торговцев мануфактурой и железнодорожные журналы в витринах газетчиков. Железнодорожные отели, кофейни, меблированные комнаты, пансионы; железнодорожные планы, карты, виды, обертки, бутылки, коробки для сандвичей и расписания; железнодорожные стоянки для наемных карет и кэбов; железнодорожные омнибусы, железнодорожные улицы и здания, железнодорожные прихлебатели, паразиты и льстецы в неисчислимом количестве. Было даже железнодорожное время, соблюдаемое часами, словно само солнце сдалось. Среди побежденных находился главный трубочист, бывший “невер” Садов Стегса, который жил теперь в оштукатуренном трехэтажном доме и объявлял о себе на покрытой лаком доске с золотыми завитушками как о подрядчике по очистке железнодорожных дымоходов с помощью машин. К центру и из центра этого великого преображенного мира день и ночь стремительно неслись и снова возвращались пульсирующие потоки – подобно живой крови. Толпы людей и горы товаров, отправлявшиеся и прибывавшие десятки раз на протяжении суток, вызывали здесь брожение, которое не прекращалось. Даже дома, казалось, были склонны упаковаться и предпринять путешествие. Достойные восхищения члены парламента, которые лет двадцать тому назад потешались над нелепыми железнодорожными теориями инженеров и устраивали им всевозможные каверзы при перекрестном допросе, уезжали теперь с часами в руках на север и предварительно посылали по электрическому телеграфу предупреждение о своем приезде. День и ночь победоносные паровозы грохотали вдали или плавно приближались к концу своего путешествия и вползали, подобно укрощенным драконам, в отведенные для них уголки, размеры которых были выверены до одного дюйма; они стояли там, шипя и вздрагивая, сотрясая стены, словно были преисполнены тайного сознания могущественных сил, в них еще не открытых, и великих целей, еще не достигнутых. Но Сады Стегса были выкорчеваны окончательно». Железные дороги победили. Кстати, у одной из героинь этого романа муж умер от разрыва сердца «при выкачивании воды из Перуанских копей». Как комментирует Диккенс, «миссис Токс высказалась о покойном мистере Пипчине так, словно он умер у ручки насоса, а не вложил деньги в предприятие, которое обанкротилось». В «Крошке Доррит» железные дороги вообще не упоминаются, но главный герой – мистер Мердл – списан с Хадсона. В романе мы застаем Мердла на вершине успеха. Он отказывается от предложенного баронетства, ибо не согласен на меньшее, чем титул пэра Англии. «Либо пэр, либо просто Мердл», – говорит он. К нему то и дело обращаются за советом, как вложить деньги, и он, разумеется, рекомендует собственные предприятия, причем обдирает даже своих близких родственников, коим ему приходится просящий его помощи в распоряжении капиталом мистер Доррит[66]: «– Для лица, так сказать, со стороны, – заметил мистер Мердл, – сейчас довольно трудно получить акции какого либо солидного предприятия – я, разумеется, говорю о своих предприятиях… – Разумеется, разумеется! – вскричал мистер Доррит тоном, исключающим предположение, что могут быть и другие солидные предприятия. – …иначе, как по цене, намного превышающей номинал. С порядочным хвостиком, как у нас говорят. Мистер Доррит дал волю своему веселью. – Ха-ха-ха! С порядочным хвостиком. Прелестно. Удивительно меткое выражение! – Однако, – продолжал мистер Мердл, – я обычно сохраняю за собой право предоставлять в отдельных случаях известные преимущества – льготы, как некоторым угодно это называть, – рассматривая такое право как своего рода вознаграждение за мои труды и хлопоты. – И предприимчивость, и смелость мысли, – с энтузиазмом подсказал мистер Доррит. Мистер Мердл сделал судорожное глотательное движение, точно проталкивая в себя комплимент, как пилюлю, и затем повторил: – Своего рода вознаграждение. Если хотите, я подумаю о том, как употребить это право (к сожалению, ограниченное, по причине людской зависти) в ваших интересах. – Вы очень добры, – сказал мистер Доррит. – Вы чересчур добры! – Само собой разумеется, – сказал мистер Мердл, – деловые взаимоотношения требуют от участников безукоризненной, кристальной честности, полной откровенности и безоглядного доверия во всем; иначе нельзя делать дела. Столь благородные чувства вызвали горячее одобрение мистера Доррита. – Таким образом, – сказал мистер Мердл, – речь может идти лишь о некоторой скидке. – Понимаю вас. Об определенной скидке». Главного героя книги – честного предпринимателя Артура Кленнэма – в авантюру втягивает его знакомый Панкс, который все хорошо «просчитал». Диккенс философствует на его счет: «При каких обстоятельствах мистер Панкс подхватил заразу, было так же трудно объяснить, как если бы речь шла о самой обыкновенной лихорадке. Такие болезни сходны с некоторыми телесными недугами; людской порок способствует их зарождению, людское невежество дает им разрастись в эпидемию, жертвами которой становятся люди, чуждые и пороку, и невежеству. Подобным человеком был для Кленнэма мистер Панкс, и потому, где бы ни заразился он сам, зараза, исходя от него, становилась еще опаснее. – И вы, Панкс, в самом деле поместили свою тысячу фунтов подобным образом? – Кленнэм уже употреблял выражение своего собеседника. – Именно, сэр, – задорно отвечал мистер Панкс, выпуская новое облако дыма. – А будь у меня десять тысяч, поместил бы десять». Аргументация Панкса типичная: «Почему вся нажива должна доставаться разным хапугам, плутам и мошенникам? Почему вся нажива должна доставаться моему хозяину и ему подобным? А ведь так оно всегда и выходит, из-за вас (это он обращается к Кленнэму, который поначалу отказывается играть на бирже. – Е.Ч.). Не из-за вас лично, а из-за таких, как вы. Вы сами знаете, что я прав. А я вижу это каждый день, каждый час. Ничего другого я не вижу в жизни. Моя обязанность состоит в том, чтобы видеть это. Потому я и говорю вам, – добавил Панкс внушительно. – Вступайте в игру и выигрывайте! – А что, если я вступлю и проиграю? – сказал Артур. – Не может этого быть, сэр, – возразил Панкс. – Я все подробно изучил. Имя, с которым везде считаются, – неограниченные возможности – колоссальный капитал – твердое положение – высокие связи – поддержка в правительстве. Нет, не может быть». В романе Мердл не скрывается за границей, а совершает самоубийство, вскрыв себе вены черепаховым ножичком, и с этого начинается крах его пирамиды. Сначала думают, что его хватил удар, но вскоре открывается вся правда: «…ко времени открытия биржи об ударе стали забывать, и с востока, с запада, с севера, с юга поползли зловещие слухи. Сперва их передавали шепотом, и они не шли дальше сомнений, так ли уж велико состояние мистера Мердла, как о том говорили; не отразится ли случившееся на свободном обращении акций; не приостановит ли чудо-банк платежи, хотя бы временно, на какой нибудь месяц. Но, нарастая с каждой минутой, слухи становились все более грозными. Этот человек возник из ничего; никто не мог объяснить, откуда и как он пришел к своей славе; он был, в сущности говоря, грубый невежда; он никому не смотрел прямо в глаза; совершенно непонятно, почему он пользовался доверием стольких людей; своего капитала у него не было никогда, предприятия его представляли собою чистейшие авантюры, а расходы были баснословны. С приближением сумерек слухи крепли, приобретали определенность». И мистер Доррит, и Артур Кленнем, и Панкс теряют все. Артур даже попадает в долговую тюрьму, так как он не может теперь рассчитаться по счетам, выставляемым его фирме. Ему остается только сожалеть о случившемся, еще чуть-чуть, буквально один день, и он бы проскочил и разбогател, думает Артур. «– И ведь как раз вчера, Панкс, – сказал Артур, – как раз вчера, в понедельник, я твердо решился продать все и развязаться с этим делом. – О себе я этого сказать не могу, сэр, – отвечал Панкс. – Но удивительно, от скольких людей я уже слышал, что они собирались продать вчера – не сегодня, не завтра, и не в другой любой из трехсот шестидесяти пяти дней, а именно вчера. Его сопенье и фырканье, всегда производившие комический эффект, на этот раз звучали трагически, как рыдания, и весь он, грязный, растерзанный, замызганный с головы до ног, мог сойти за живое воплощение Горя, если бы только грязь позволила разглядеть его черты. – Мистер Кленнэм, вы вложили в эти акции… все? – Нелегко было ему переступить через это многоточие, и еще трудней – произнести последнее слово. – Все». А что же Панкс? Он продолжает верить в правильность своих «расчетов». Вот его монолог в адрес возлюбленной Клэннема, Крошки Доррит: «– Нет, сударыня, я хочу сказать то, что сказал, – возразил Панкс, – ибо это я имел несчастье склонить его к столь неудачному помещению капитала (мистер Панкс упорно держался за свой термин и никогда не употреблял слова “спекуляция”). Я, впрочем, берусь доказать с цифрами в руках, – добавил он озабоченно, – что по всем данным это было очень удачное помещение капитала. Я до сих пор каждый день проверяю свои расчеты и каждый день убеждаюсь в их правильности. Не время и не место вдаваться в это сейчас, – продолжал мистер Панкс, с вожделением поглядывая на свою шляпу, в которой лежала записная книжка с расчетами, – но цифры остаются цифрами, и они неопровержимы. Мистер Кленнэм должен был теперь разъезжать в собственной карете, а мне должно было очиститься от трех до пяти тысяч фунтов». Хороший писатель Диккенс и очень актуальный. Советую прочитать. |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
