|
||||
|
ЧАСТЬ 1 Глава 1. Сонатная форма и “мозговой центр” Мне доводится проводить множество конференций от Высшей школы бизнеса Скандинавии. Слушатели этих конференций – руководители всевозможных фирм Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, начиная с таких сверхгигантов, как Eriksson и Fortum и кончая небольшими фирмами, все сотрудники которых могут поместиться в небольшом конференционном зале. Представьте себе группу в тридцать-сорок человек, которая поселяется в одном из старинных замков Швеции или в суперсовременном комплексе на горе над норвежской столицей, или среди сказочных озер в бывшем помещичьем доме в Финляндии. В течение одной-двух недель им прочитываются лекции по экономике, конъюнктуре, психологии, происходит заседание “мозгового центра”, обсуждение тактики и стратегии, реорганизации и оптимизации производства и т.д. Но уже после второго дня работы участники конференции устают. Выясняется, что конъюнктура, к сожалению, не лучшая, мировые рынки, увы, не на подъеме. Да и “мозговой центр” не может похвастаться новыми открытиями. Но третий день конференции всегда мой. Я прихожу со своей скрипкой, своими музыкальными идеями, мыслями, парадоксами. Мы говорим об искусстве, открываем для себя тайны гениального творчества. Мы обсуждаем “эффект Моцарта”, говорим об “эффекте Бетховена”, слушаем музыку. Мы рассуждаем о творческих лабораториях гениев, о движущих силах гениального созидания в искусстве вообще и в музыке в частности. Мы даже сочиняем совместные мелодии, учимся медитировать, обращаясь к музыке раннего и позднего Средневековья, раскрываем глубинные принципы симфонизма. Следующий за нашим музыкальным днем, четвертый день, согласно тысячам описаний, собранных мной на сотнях конференций – день самый результативный. Открывается второе дыхание, “мозговой центр” работает на полных оборотах, физическое и душевное состояние и настроение участников на высоте. По очень строгой многобалльной системе “мой день” получает самый высший бал, значительно выше, чем даже выступления крупного экономиста или политолога. И я хорошо знаю, почему это так. Потому что, во-первых, вся подлинная музыка, о которой мы говорим и которую мы слушаем, – крупнейший источник энергии, питающей мозг, а, во-вторых, количество научных открытий в Музыке последних тысячелетий не меньше, чем в Науке. Возьмем, к примеру, одно из величайших научных открытий в музыке последних трехсот лет. Это – СОНАТНАЯ ФОРМА. Сонатная форма – музыкальная форма, в которой написаны несколько десятков тысяч музыкальных произведений, в том числе: все первые части всех симфоний Гайдна (их больше ста); все первые части всех симфоний Моцарта (их больше сорока); все первые части всех симфоний Бетховена, Шуберта, Брамса; все первые части всех сонат, квартетов, трио, написанных гениями за многие годы. И – что самое удивительное – величайшие творцы музыки XX века от Шостаковича и Прокофьева до Хиндемита, Стравинского и Шнитке, несмотря на все свои новаторства в музыкальном языке, сохранили, тем не менее, сонатную форму, которая и сегодня не исчерпала себя. Но почему же не исчерпала? Что в этой форме столь важного, вневременного, что она не устарела, пройдя через столько поколений создателей и слушателей? “Должен признаться, что в течение многих лет в своих попытках ввести моих слушателей как можно глубже в тайны музыкального восприятия я искал ответ на вопрос: как донести до них или, лучше сказать, привести слушателей к восприятию главной музыкальной формы, в которой создана величайшая европейская музыка последних трехсот лет, – той самой сонатной формы. Вообще-то, сонатная форма в музыке сродни форме романа или повести в литературе. В романе: Экспозиция, Завязка и Развязка, а в сонате или симфонии эти же три основных раздела называются Экспозиция, Разработка и Реприза. Но осмелюсь сказать, что знание трех разделов формы романа не столь важно, сколь знание трех разделов в музыкальном произведении. Ведь книга, состоящая из вполне конкретных слов, фраз, выражений, увлекает нас самим развитием и действиями полюбившихся нам героев литературного произведения. В музыкальном же произведении эти герои предельно абстрактны. Поэтому умение следить за “похождениями” героев в музыке связано в первую очередь со знанием музыкальной формы. И в самом деле, если появившиеся в экспозиции книги герои нас заинтересовали, то мы с удовольствием и интересом последуем за ними дальше в завязку, ибо нам интересно, какие отношения завяжутся между нашими героями в их столкновении, между ними и жизненными обстоятельствами, и тем более интересно, чем это столкновение закончится (развяжется). Тот же, кто познает и затем почувствует музыкальную форму, поймет, что слушать симфонию или сонату так же интересно и увлекательно, как читать самые интересные книги. Поскольку я и читатель книг, и слушатель музыки, то осмелюсь сказать, что “читать” музыку еще интереснее и увлекательнее, чем книгу. (Хорошо представляю себе, как не согласны непосвященные, а посвященные утвердительно кивают головами.) И я попытаюсь сейчас сделать первый шаг к тому, чтобы убедить вас в том, что музыка еще более информативна, чем литература. Только прошу непосвященных, читая дальше, перетерпеть несколько скучных предложений, но затем вы получите компенсацию за свои страдания (только обязательно прочитайте и эти предложения, пусть даже массируя сведенные от тоски скулы). Как я уже сказал, сонатная форма состоит из трех разделов: Экспозиция, Разработка и Реприза. (Есть еще один раздел – Кода, но об этом - несколько позднее.) Экспозиция же, в свою очередь, тоже состоит из разделов (терпите, непосвященные, через несколько предложений будет легче!). Называются они: Главная партия, Связующая партия (тема), Побочная партия и Заключительная партия. Это и есть герои нашего музыкального романа. В отличие от героев романов, в симфониях их всегда зовут одинаково. После того как мы познакомились с героями, наступает Разработка. В ней, как и в романе, наши герои вступают между собой в различные отношения. Но поскольку они не люди, а Образы, то они не просто сталкиваются между собой, а “разрабатываются”. Третий раздел называется Реприза, и в ней происходит кое-что столь уникальное, что рассказ об этом я оставляю на потом. И делаю это для того, чтобы все, у кого свело скулы от скуки, расслабились. Ибо сейчас я напишу такое, после чего все понятия СОНАТНОЙ ФОРМЫ встанут на свои места и в голове станет ясно и по полочкам разложено. Для того чтобы понять сонатную форму, нужно вспомнить или перечитать всего одну только сказку. Сказку эту знают все, кроме тех, кто не был когда-то ребенком. Ее автор – гениальный французский сказочник Шарль Перро. И называется она “Красная шапочка”. Вот именно в этой очаровательной сказке нашел я все сложнейшие схемы сонатной формы. Итак: Жила-была Красная Шапочка. Она в сонатной форме – Главная партия. У нее была Бабушка. Поскольку Бабушка не жила вместе с Красной Шапочкой, а жила в стороне, сбоку-припеку (чтобы добраться до нее, нужно было пройти через лес), то мы с полным основанием можем назвать Бабушку Побочной партией. Для того чтобы принести Бабушке пирожки, Красная Шапочка должна пройти по дороге от своего дома до Бабушкиного. Поэтому дорога, которая поведет Красную Шапочку к Бабушке, называется в сонатной форме Связующая партия. (нет ничего проще, ибо цель дороги – связующая). Прошу обратить внимание – Красная Шапочка еще не пошла к Бабушке, она только планирует поход. В результате, когда Шапочка придет к Бабушке (опять же, только в планах), должна произойти их встреча. Это и есть Заключительная партия. (Как завершение, заключение предстоящего (!) похода.) Итак, нам ясно что такое Экспозиция. Еще никто никуда не пошел. Экспонированы планы. Отчего возникли все проблемы сказки? Оттого что Красная Шапочка ДОЛЖНА ПОЙТИ К БАБУШКЕ. Итак, Бабушка – доминирующий мотив сказки. Хотя Шапочка и называется Главная партия, на самом деле главное - это ее поход к Бабушке. Если бы не было необходимости идти к Бабушке, то не было бы Разработки проекта “ПОХОД К БАБУШКЕ”. Главная партия пойдет по связующей дорожке к Побочной. А вот теперь нужно эти планы разработать. Необходимость пойти к Бабушке – это и есть сонатная форма. (А еще лучше можно сказать, что, когда проект отделен от реализации, возникает сонатная форма.) А далее следует Разработка. То есть нужно привести план похода в исполнение. Красная Шапочка запланировала все. Кроме Волка. Волк, встающий на пути Главной партии к Побочной, и создает драматизм развития. Пойдем дальше... Так вот, все чудо сонатной формы и заключается как раз в том, что Побочная партия сочиняется композитором в доминантовой тональности или в тональности максимально напряженной по отношению к Главной. Вторая тема Экспозиции потому и называется Связующей, что ее функция – перевести основную тональность Главной (Красную Шапочку) в доминанту Побочной. (То есть показать доминирующую идею Бабушки.) Затем происходит масса всем хорошо известных событий (это и есть Разработка), в результате которых и Красная Шапочка, и Бабушка оказываются в животе у Волка. Охотники распарывают волчий живот и освобождают обеих. Итак, где теперь Главная и Побочная партии? Ответ: рядом, вместе, или, как говорят на музыкальном языке, в одной тональности. Это и есть то, что в сонатной форме называется Репризой. Бабушка перестает быть доминантой, то есть целью, пунктом напряжения, стремления, а находится в тональности Красной Шапочки. И наконец, звучит Кода как знак объединения и победы над злыми силами (в нашем случае – злым Волком). 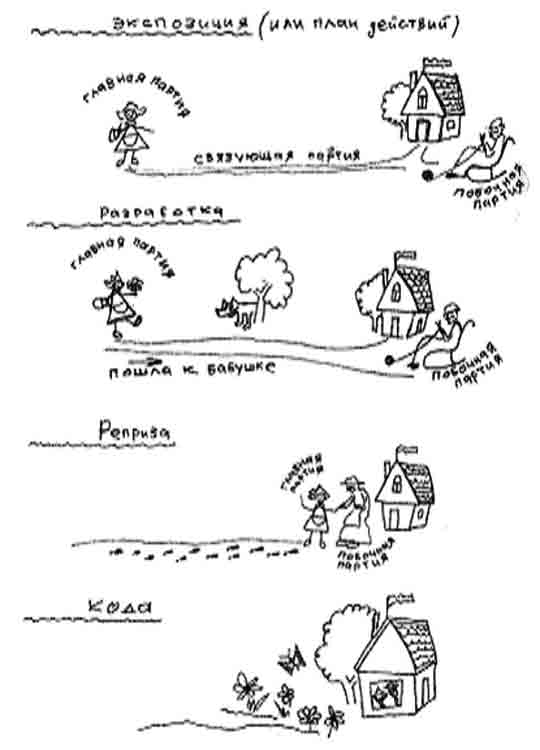 Я предлагаю любому, кто захочет, взять запись для начала ранней симфонии Моцарта и послушать ее первую часть. Вы услышите музыку совсем иначе. Вначале она будет очень устойчивой, полной решимости (Главная), затем музыка лишится своей устойчивости, начнет петлять, извиваться (Связующая), и вдруг снова стабилизируется! появится новая мелодия, как бы зовущая, пленяющая, приглашающая (Побочная). Она непосредственно переходит в Заключительную (решение принято). Разработка чем-то похожа на Связующую: та же неустойчивость. Разница лишь в том, что Разработка в отличие от Связующей – уже не проект движения, а его осуществление. А затем вернется Главная тема всей симфонии. Это и есть начало Репризы. В Репризе все будет так же, как и в Экспозиции. Разница лишь в том, что Главная и Побочная окажутся в одной и той же тональности. Вот и все сложности сонатной формы. Но теперь-то и начинаются чудеса, ибо в ней в такой, казалось бы, чисто музыкальной и столь мирной структуре заключена могучая формула не только музыкального, а научного мышления. Звучит эта формула так: ЕСЛИ ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ НЕ ДОМИНИРУЕТ – НЕЛЬЗЯ РАЗРАБОТАТЬ. ...И вновь вернемся на конференцию При чем тут конференция? И какое значение имеет сонатная форма для ее участников? А вот какое. Представим себе конференцию как сонатную форму. Участники конференции собрались для того, чтобы обсудить условия и принципы дальнейшей деятельности фирмы. Это – круг важнейших тем или, как она называется в сонатной форме, ГЛАВНАЯ ПАРТИЯ. Участникам конференции читают лекции по их специальности. Крупнейшие ученые своими идеями активизируют мыслительные возможности директоров и крупных специалистов. Но процесс активизации идет с трудом. Ибо если участники конференции и раньше знали, что экономическая ситуация в мире не оптимальна, то теперь они знают куда больше. Оказывается, ситуация еще хуже, чем они предполагали, и, более того, в ближайшие годы она будет еще сложнее. Если директора и раньше понимали или, скорее, чувствовали, что политическая ситуация оставляет желать много лучшего, то теперь они знают точно: ситуация взрывоопасна. В результате после первых двух дней настроение у участников конференции не лучшее. Головная боль, элементы депрессии. На третий день начинаем разговор об искусстве, о музыке. Звучит скрипка, фортепиано. Это и есть ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ конференции то есть группа идей, на первый взгляд, не входящих в число ее необходимых тем. Но вот выясняется, что с участниками конференции происходит что-то невероятное: они начинают улыбаться, радостно аплодировать, словно проснувшись после глубокого сна. И не только просыпаются, но и с каждой минутой нашего общения все больше и больше проникаются неожиданным для себя ощущением важности происходящего, вовлекаются в круг иных мыслей, иных ценностей; их творческая активность резко повышается.  И это значит, что ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ в системе и процессе мышления выполняет ту же функцию, что и в музыкальной сонатной форме, то есть НАЧИНАЕТ ДОМИНИРОВАТЬ. Но ведь это и есть главное условие в структуре классической сонатной формы (сонатного аллегро), ибо (повторяю предыдущее в сжатом виде) побочные партии многочисленных сонат и симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена написаны в тональностях доминанты по отношению к тональности главной. И вся экспозиция, или первый раздел, сонатной формы заканчивается на доминанте. Часто сонатную форму еще называют сонатное аллегро. (Это потому, что абсолютное большинство первых частей симфоний и сонат, трио и квартетов написаны в темпе Аллегро, что по-итальянски означает “Скоро” или “Весело”. Затем идет следующий раздел сонатного аллегро – Разработка. В чем же смысл разработки? Это, выражаясь языком конференции, “мозговая атака”, цель которой – перевести доминирующий антитезис – тональность побочной партии – в тональность главной. (А если опять к сказке - то Красная Шапочка и Бабушка должны оказаться рядом.) Или, иными словами, подчеркнуть одинаковую важность главной и побочной партий. Вернуться к главной на новом уровне мышления. Подтверждается основной тезис сонатной формы: невозможность разрабатывать без доминирующей побочной. И это значит, что в репризе, то есть при возвращении участников конференции к своим “главным” проблемам, побочная партия (или наш музыкальный день) уже не будет восприниматься, как что-то прошедшее, пусть даже приятное. Нет, она примет равное участие в разработке и решении всех основных проблем. И более того, последующие дни оказываются по своему качественному содержанию совсем иными, чем дни, предшествовавшие музыкальному дню. Их наполненность, гармоничность, праздничность могут просто поразить стороннего наблюдателя. И к тому же последующие дни - самые результативные. Почему? Глава 2. Был ли глухим Бетховен?
Альберт Эйнштейн как-то высказал совершенно уникальную мысль, глубина которой, как и глубина его теории относительности, воспринимается не сразу. Она вынесена в эпиграф перед главой, но я так люблю ее, что не упущу возможности еще раз повторить эту мысль. Вот она: “Бог изощрен, но не злонамерен”. Эта мысль очень нужна философам, психологам, очень важна для искусствоведов. Но еще больше она необходима впавшим в депрессию или просто не верящим в свои силы людям. Ибо, изучая историю искусства, задумываешься о жесточайшей несправедливости Судьбы (скажем так) по отношению к величайшим творцам планеты. Нужно ли было Судьбе устроить так, чтобы Иоганн Себастьян Бах (или, как его впоследствии назовут, Пятый апостол Иисуса Христа) всю свою жизнь метался по затхлым провинциальным городкам Германии, беспрерывно доказывая всяким светским и церковным бюрократам, что он неплохой музыкант и очень старательный работник. А когда Бах получил наконец относительно приличную должность кантора церкви Святого Фомы в большом городе Лейпциге, то не за свои творческие заслуги, а только потому, что “сам” Георг Филипп Телеманн от этой должности отказался. Нужно ли было, чтобы великий композитор-романтик Роберт Шуман страдал тяжелейшей психической болезнью, отягощенной суицидальным синдромом и манией преследования. Обязательно ли, чтобы композитор, больше всех повлиявший на последующее за ним развитие музыки, Модест Мусоргский, заболел тяжелейшей формой алкоголизма. Нужно ли, чтобы Вольфганг Амадеус (амас деус – тот, кого любит Бог)... впрочем, о Моцарте – следующая глава. Наконец, нужно ли, чтобы гениальный композитор Людвиг ван Бетховен был глухим? Не художник, не архитектор, не поэт, а именно композитор. То есть Тот, у кого тончайший музыкальный СЛУХ – второе по степени необходимости качество после ИСКРЫ БОЖЬЕЙ. И если эта искра столь ярка и столь горяча, как у Бетховена, то к чему она, если нет СЛУХА. Какая трагическая изощренность! Но почему же гениальный мыслитель А. Эйнштейн утверждает, что при всей изощренности у Бога нет злонамеренности? Разве величайший композитор без слуха – не изощренное зло намеренности? И если да, то в чем тогда смысл этой намеренности. Так послушайте же бетховенскую Двадцать Девятую фортепианную сонату – “Hammarklavir”. Эту сонату ее автор сочинил, будучи абсолютно глухим! Музыку, которую невозможно даже сравнить со всем, что на планете существует под грифом “соната”. Когда речь заходит о Двадцать Девятой, то сравнивать нужно уже не с музыкой в ее цеховом понимании. Нет, мысль здесь обращается к таким вершинным творениям человеческого духа, как “Божественная комедия” Данте или фрески Микеланджело в Ватикане. Но если говорить все же о музыке, то обо всех сорока восьми прелюдиях и фугах баховского “Хорошо темперированного клавира” вместе взятых. И эта соната написана глухим??? Побеседуйте с врачами-специалистами, и они расскажут вам ЧТО происходит у человека даже с самими представлениями о звуке после нескольких лет глухоты. Послушайте поздние бетховенские квартеты, его Большую фугу, наконец, Ариетту – последнюю часть последней Тридцать Второй фортепианной сонаты Бетховена. И вы почувствуете, что ЭТУ МУЗЫКУ мог написать только человек с ПРЕДЕЛЬНО ОБОСТРЕННЫМ СЛУХОМ. Так, может быть, Бетховен не был глух? Да, конечно же, не был. И все-таки... был. Просто все здесь зависит от точки отсчета. В земном понимании с точки зрения чисто материальных представлений Людвиг ван Бетховен действительно оглох. Бетховен стал глух к земной болтовне, к земным мелочам.  Но ему открылись звуковые миры иного масштаба – Вселенские. Можно сказать, что бетховенская глухота – своего рода эксперимент, который проведен на подлинно научном уровне (Божественно-изощренном!) Часто для того чтобы понять глубину и уникальность в одной сфере Духа, необходимо обратиться к другой сфере духовной культуры. Вот фрагмент одного из величайших творений русской поэзии – стихотворения А.С. Пушкина “Пророк”: Духовной жаждою томим, Не это ли случилось с Бетховеном? Помните? Он, Бетховен, жаловался на непрерывный шум и звон в ушах. Но обратите внимание: когда ангел коснулся ушей Пророка, то Пророк видимые образы услышал звуками, то есть содроганье, полет, подводные движения, процесс роста – все это стало музыкой. Слушая все более позднюю музыку Бетховена, можно сделать вывод о том, что чем хуже Бетховен слышал, тем глубже и значительнее была создаваемая им музыка. Но пожалуй, впереди самый главный вывод, который поможет вытащить человека из депрессии. Пусть он прозвучит вначале несколько банально: НЕТ ПРЕДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ. Бетховенская трагедия глухоты в исторической перспективе оказалась великим творческим стимулом. И это значит, что, если человек гениален, то именно неприятности и лишения могут оказаться лишь катализатором творческой деятельности. Ведь, кажется, что может быть страшнее для композитора, чем глухота. А теперь давайте рассуждать. Что было бы, если бы Бетховен не оглох? Могу смело предоставить вам список имен композиторов, в числе которых находилось бы имя не глухого Бетховена (исходя из уровня музыки, написанной им до появления первых признаков глухоты): Керубини, Клементи, Кунау, Сальери, Мегюль, Госсек, Диттерсдорф и т. д. Убежден, что даже профессиональные музыканты в лучшем случае только слышали имена этих композиторов. Впрочем, те, кто играли, могут сказать, что их музыка очень прилична. Кстати, Бетховен был учеником Сальери и посвятил ему три своих первых скрипичных сонаты. Бетховен так доверял Сальери, что учился у него целых восемь (!) лет. Сонаты, посвященные Сальери, демонстрируют, что Сальери был замечательнейшим педагогом, а Бетховен – столь же блестящим учеником. Эти сонаты – очень хорошая музыка, но и сонаты Клементи тоже чудо как хороши! Ну что ж, порассуждав подобным образом... вернемся на конференцию и... ...теперь нам довольно просто ответить на вопрос, почему четвертый и пятый дни конференции оказались результативными. Во-первых, потому что побочная партия (наш третий день) оказалась, как и положено, доминирующей. Во-вторых, потому что наш разговор касался, казалось, неразрешимой проблемы (глухота – не плюс для возможности сочинять музыку), но которая разрешается самым невероятным образом: если человек талантлив (а руководители крупнейших предприятий разных стран не могут не быть талантливыми), то проблемы и сложности – это не что иное, как мощнейший катализатор деятельности таланта. Я называю это эффектом Бетховена. Применяя его к участникам нашей конференции, можно сказать, что проблемы плохой конъюнктуры могут только раззадорить талант. И в-третьих, мы слушали музыку. И не просто слушали, но были настроены на самое заинтересованное слушание, самое глубокое восприятие. Интерес участников конференции был вовсе не развлекательного характера (как, скажем, просто что-то узнать о милой приятной музыке, отвлечься, развлечься). Это не было целью. Цель же заключалась в том, чтобы проникнуть в самую сущность музыки, в музыкальные аорты и капилляры. Ведь суть подлинной музыки, в отличие от бытовой, ее кроветворность, ее желание общаться на высочайшем универсальном уровне с теми, кто духовно способен подняться на этот уровень. А посему четвертый день конференции – день преодоления слабой конъюнктуры. Как Бетховен, преодолевший глухоту. Теперь ясно что это такое: Доминирующая побочная партия или, как говорят музыканты, побочная партия в доминанте? Глава 3. А как же крестьяне? Перечитал написаное и даже вздрогнул: Бетховен, шефы мировых фирм, кроветворность – какие Вселенские дали! Мы, кажется, взлетели туда, откуда Земля не больше, чем шарик для игры в пинг-понг и мне явно пора поменять стиль. И даже получен сигнал – шепнуло что-то снизу и почуялся запах свежевспаханной земли: “А как же крестьяне? У которых – ни фирм, ни смокингов, ни замков?”. О нынешних русских крестьянах не берусь говорить, не задумываясь – давно с ними не общался, а вот о крестьянах, живших в Германии XVII-XVIII веков, попробую. Мы, которые не крестьяне, любим порассуждать о Бахе – о его величии, о его сверхгениальности, о его глубине, о его философичности. И все правда: и глубина, и философичность, сколько ни рассуждай – никогда не нарассуждаешься вдосталь. Он, Бах, всегда будет глубже всех рассуждений. Вот только вопрос один, непрошенный, мешает осознать всю баховскую глубину: он, Иоганн Себастьян, для кого писал свою музыку? Для философов? Для астрофизиков? Для теологов? Для искусствоведов? Увы!!! Нет, нет и нет!!! Бах писал эту Надмирно-Вселенскую музыку для своих прихожан. Для жителей маленьких затхлых провинций. То есть для тех же бюргеров, над которыми издевались все кому не лень. Начиная от вымышленного (Иоганном Вольфгангом Гёте) Мефистофеля и, кончая вполне реальным Робертом Шуманом и столь же реальным Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом. И филистерами этих несчастных бюргеров дразнили, и даже золотыми горшочками с постоянно готовой пищей (как вершиной их жизненных устремлений) одаривали, и котами Муррами обзывали, и мещанами, и обывателями. Так неужели же для них Иоганн Себастьян Бах писал свою музыку? Глубочайшую, философскую? Да, конечно же, для них, родимых! Для них, да к тому же еще и для крестьян, которые съезжались по праздникам в город на литургию. Это они, крестьяне с бюргерами, приходили в церковь Святого Фомы и слушали эту оч-ч-ч-ень сложную и глубоко философскую музыку. Музыку И. С. Баха. А другой музыки не было: Телеманн-то ведь от должности кантора церкви Святого Фомы отказался! А если бы не отказался, была бы музыка попроще. Вот Бах после многолетнего скитания по провинциальным городкам и получил это место. И даже, судя по всему, обрадовался. Поэтому и вынуждены были крестьяне с бюргерами слушать то, что есть. А как же в этом случае быть с глубиной? Ведь получается, что крестьян, да и бюргеров, музыка Баха вполне устраивала. Во всяком случае, жалоб от большинства прихожан нет. Отдельные недовольства, правда, были. Со стороны церковного начальства, например. Но массовых не было. Иначе не проработал бы Бах целых четверть века на этой работе. Его обязательно бы съели. Не знаю как крестьяне, но бюргеры наверняка бы съели и даже не подавились. Но ведь этого не произошло! Значит, музыка Баха им нравилась! Мы сегодня говорим о том, что к пониманию музыки Баха нужно идти медленно и последовательно. А как шли к Баху бюргеры с крестьянами 300 лет назад? Медленно или последовательно? (Перехожу к другому стилю: ...меня вдохновляет Шекспир с его невероятными переходами от скабрезно-прозаических шуток к высокой поэзии, Гётевский “Фауст” в замечательном переводе Пастернака, философские откровения которого – на уровне подслушивания у Бога, а частушки-скороговорки-припевки - словно из Рождественского подарочного календаря; да и сам Бах, меняющий звуки Свистулек из маленькой коробочки внутри органа на двенадцатиметровые трубы...) Крестьяне, которые всю неделю тяжело и буднично работали, по мере приближения к концу недели испытывали праздничное чувство ожидания. Наконец, долгожданный праздник наступал. Крестьяне долго и тщательно наряжались, наряжали детей, садились в повозку и отправлялись в город, в церковь. Подъезжая к церкви, они видели ее могучую устремленность в небо. Затем они входили в церковь – этот невероятно огромный дом, в котором никто не живет. Крестьяне смотрели на Распятие и начинали думать о Том, Кто пожертвовал Собой ради них, о Вечности, о Жизни и Смерти. И в этот момент они поднимались над бытом, над крестьянством, над суетным распорядком, над бюргерством, над Золотым горшком. Они становились частью этой гигантской Вселенской безграничности, того измерения, в котором является и в котором дышит музыка И. С. Баха. Они попадали в область свертывания Вечности (образ Николая Кузанского – гениального философа и математика, стоящего у первого портала, у истоков мышления Ренессанса. Ему посвящена отдельная глава книги.) А, как сказал Николай Кузанский, “образ свертывания всегда больше образа развертывания Вечности”. Это одна из очень глубоких мыслей в истории мировой философии. Но вот они, крестьяне и бюргеры, ничего подобного сформулировать не могли, ибо не читали Кузанского и вообще не были знакомы ни с философией Возрождения, и ни с какой другой философией вообще. Но они что-то чувствовали вместе с Бахом, ибо Бах своей музыкой говорил им об их человеческих и Духовных корнях. Крестьяне и бюргеры не столько знали, сколько интуитивно ощущали баховскую силу духа, его веру, его гигантскую энергию, совсем непохожую на все виды энергии им известные. И Бах в своей непонятности и одновременно доступности (он – там, высоко, у органа, он играет в нашей церкви) был равен Богу (там, впереди – Его, Господа, изображение на кресте). Крестьяне не могли жаловаться на Баха (за то, что его музыка не вполне ясна), как и не могли жаловаться на Бога (за то, что Его деятельность не всегда логична): в прошлом году из-за засухи весь урожай погиб – еле выжили), ибо они, крестьяне, сами – часть Бога и Баха, урожая и засухи... (Меняю регистр...) И, это значит, что тот самый Бах, музыка которого сегодня – одна из абсолютных вершин проявлений человеческого духа, планетарной мысли, в те времена и для тех членов его прихода была постоянным участником их жизни. Это значит, что нормальное мышление того времени вполне могло включать в себя музыку Баха, как норму. И здесь есть немало причин для серьезных рассуждений. Например, прогрессирует или регрессирует человеческая Духовность? Или насколько ближе (или дальше) мы сегодня к нашей космической первооснове? И каким образом великая музыка может помочь в процессе поддержания духовности? Глава 4. Первый разговор о Моцарте (Моцарт и Смерть)
 Пушкин, разумеется, не читал ни письма Моцарта к отцу, фрагмент из которого я процитировал в первом эпиграфе к этой главе, и никаких писем Моцарта вообще, ибо они тогда не были изданы. В те годы еще никто не говорил о музыке Моцарта иначе, чем сказал о ней русский критик Улыбышев: “Вечный свет музыки имя тебе – Моцарт!” Но откуда Пушкин знал о Моцарте как о композиторе “гробового видения”? Правда, можно задать еще тысячи подобного рода вопросов относительно пушкинского знания. Откуда, например, он знал о том, что “Гений – парадоксов друг”? Ведь это же тема докторской диссертации середины XX века! “О, сколько нам открытий чудных Вот и весь стих. Утверждаете, что он не закончен? Как стих – возможно. Но как сконцентрированная до размера в пять строк докторская диссертация закончен вполне. А откуда он, Пушкин, знал, что главная проблема демократии это - “оспоривать налоги” или что свободной печатью воспользуются для того, чтобы “морочить олухов”? Ведь тогда еще не было современных Западных демократий (социал-демократий), правительства которых заменят полиции тайные полициями налоговыми. Не было тогда и свободной печати, которая когда-нибудь понадобится сугубо для того, чтобы влезать в чужие спальни, да еще подсчитывать рейтинги шутовствующих политиков или поп-идолов демократично-оболваненной толпы: “...Я не ропщу о том, что отказали боги((Из Пиндемонти)) Я убежден, что Пушкин – один из тех, кто тогда уже знал то, что нам еще только предстоит узнать в будущем. Нам до сих пор еще, ох, как многое непонятно в его “Пиковой даме”, “Медном всаднике”, “Маленьких трагедиях”... Но вернемся к пушкинскому знанию о моцартовском “гробовом видении”. Ко мне это знание пришло только после длительного и скрупулезного изучения всех писем Моцарта вкупе с многолетним изучением Тайных знаков моцартовского музыкального письма. Вот, к примеру, уникальный знак. Почему последняя часть последней симфонии Моцарта “Юпитер” начинается с четырех простейших звуков: до-ре-фа-ми. Это что, случайный выбор? Нет! Но как только задумываешься об этом и понимаешь почему, волосы встают дыбом. Когда Моцарту было восемь лет и он писал свою первую симфонию, то после веселой, подлинно детской, первой части, начинает звучать странная и непостижимая для столь раннего возраста музыка. Музыка тайны, я бы сказал, таинства, что-то из будущего, вагнеровско-веберовско-малерское; немецко-австрийские романтические леса. Мистические валторны во второй части интонируют тот же мотив, только не в до-мажоре, как в конце жизни в “Юпитере”, а в ми-бемоль мажоре. То ли вариант вагнеровского лейтмотива Грааля, то ли сцена ковки дьявольских пуль из романтической и несколько жутковатой оперы Вебера “Волшебный стрелок”, то ли знание ребенка-Моцарта о краткости предстоящей ему жизни. Перенесение мотива из первой симфонии в последнюю – акт для творца непростой – необходимо какое-то особое знание, чувствование или предчувствие. Когда же Моцарт испытал ощущение приближающейся смерти? Может быть, страх смерти пришел к нему, когда он получил заказ написать Реквием, или на полтора года раньше, когда он создавал Сорок Первую (последнюю) симфонию “Юпитер”? Или еще раньше, когда он сочинял свой оперный реквием “Дон Жуан”? ДУМАЮ, НАМНОГО РАНЬШЕ. Во всяком случае, уверен, что, когда восьмилетний Моцарт создавал свою первую симфонию, страх смерти у него уже полностью сформировался. Этот страх преследовал Моцарта всю его короткую жизнь. Более того, страх смерти – основная движущая сила моцартовского творчества. У Моцарта очень мало музыки, где так или иначе не появляется образ Смерти. Почти в каждом его произведении Смерть – это всего несколько тактов, несколько звуков, несколько движений, несколько секунд. А затем Моцарт использует все свои силы, чтобы избежать Смерти, чтобы отшутиться, отвлечься, облегченно вздохнуть. Я убежден, что невероятная гармоничность моцартовской музыки – подлинный разговор с Богом. “Я буду писать для Тебя такую музыку, – словно говорит Моцарт Богу, - что, услыхав ее, Ты не сможешь, ты не решишься лишить моей музыки Твой Мир”. Вся этика Моцартовской музыки зиждется на том, что Гармония должна победить Смерть. Чем слабее здоровье Моцарта, тем интенсивнее его музыкальные Приношения. В конце жизни это уже не приношения, а непосредственное сотрудничество с Богом – музыкальный аналог структур ВСЕЛЕННОЙ. Финал симфонии “Юпитер” воспринимается как опыт построения в музыке параллельных миров или хотя бы прояснение идеи Божественного Бессмертия. ОТВЛЕЧЕНИЕ (О СМЕРТИ). Мы, люди, живущие на этой планете, в придачу к Разуму получили один страшный подарок – знание о Смерти. Осознание Смерти касается не только восприятия нами самих себя как субъектов Смерти – оно куда шире. Это знание о смерти всего (помните у Экзюпери “твоя роза умрет, потому что цветы эфемерны”). Если только подумать об этом очень глубоко, то можно сойти с ума, ибо все: от прекрасного цветка до гигантских звезд приговорено к смерти изначально. И осознать это дано только человеку. Мы в разные времена пытаемся интеллектуально приблизить к себе то собак, то дельфинов, то свиней, то лошадей, то обезьян. Как собратьев по Разуму. Но для того чтобы считаться разумными, они должны получить только одно знание – знание о Смерти. Ведь прежде всего именно это наше знание и выделяет нас из всего живого. И в этом невыносимом знании – наша трагедия. Но мы получили и защиту от этого ужасного знания. (Даже несколько вариантов защиты.) Первое – это религия. Сколько бы атеисты ни старались, им не удастся даже миллионами различных доказательств вытравить из человека веру в Бессмертие Души, ибо живая Душа отказывается признать возможность своего несуществования. Атеистические и материалистические системы погибают не столько по экономическим причинам, сколько потому, что они узаконивают “конечную цель”. Самый близкий вариант подобного узаконивания многим еще хорошо памятен: “Наша конечная цель – коммунизм”. Второй вариант защиты – умение забывать о смерти в процессе жизни (хотя, скажем точнее, не столько забывать, сколько вытеснять в подсознание). Страх смерти приходит ко всем пяти-шестилетним при первой же попытке осмыслить смерть любимой бабушки, дедушки или даже просто соседа, который раньше каждый день улыбался малышу. И вдруг соседа больше нет. Но что же это значит – НЕТ? Где он? Помните как мы, еще совсем маленькие, ночью, даже после очень веселого дня, получив предсонный поцелуй и оставшись одни в комнате, покрывались потом при появлении мысли о смерти? С ней никак невозможно было совладать. Взрослея, мы вытесняем мысль о смерти в подсознание, мы не планируем смерть. Даже когда нам девяносто, мы обсуждаем, как нам провести лето. Таким образом, страх смерти у малыша – это обязательная, но проходящая болезнь наподобие других обязательных, но проходящих детских болезней. ВЕРНЕМСЯ К МОЦАРТУ Однако может случиться (а в случае с Моцартом случилось), что память его исключительного, уникального детства не только сохранилась, но и острейшим образом сопутствовала Моцарту в течение всей его короткой жизни (вместе с детскими страхами). И вся музыка Моцарта – это феноменальный отсвет его Детства. (Да и детства как состояния гениальности Человека вообще.) Приведу несколько примеров: ПервыйАбсолютное большинство мелодий Моцарта двойственно. Одну и ту же мелодию можно воспринять как смех и слезы одновременно или поочередно в разные моменты слушания. Эффект музыки Моцарта сродни эффекту леонардовской Джоконды, лицо которой постоянно меняет свое выражение в зависимости от освещения, времени года, настроения смотрящего. О первой мелодии Сороковой симфонии Моцарта можно сказать, что мелодия эта имеет запах весны или привкус смерти, что она по-детски трогательна или обладает мудростью подведения жизненного итога. Но таких мелодий у Моцарта множество. Объяснение этого эффекта моцартовской музыки лежит в структурах поведения ребенка. И поэтому я хочу привести несколько примеров теснейшей связи музыки Моцарта и особенностей поведения маленького ребенка. ВторойПредставьте себе трехлетнего малыша, который играет со своим любимым медвежонком. Сколько взрослому нужно времени, чтобы безмятежно играющий малыш заплакал? Пять секунд! Подойдите к ребенку, заберите у него игрушку и скажите, что больше малыш мишку никогда не увидит. Откуда только взялись слезы, неужели они находились так близко? Малыш горько плачет. Сколько теперь нужно времени, чтобы плачущий малыш опять начал улыбаться? Думаю, все те же пять секунд. Верните игрушку, скажите, что вы пошутили, что мишка только на секунду спрятался. И добавьте, что вы купили для малыша и мишки санки и сейчас все вместе отправляетесь кататься на этих санках. Радостный, улыбающийся малыш бежит в прихожую надевать ботиночки. Но посмотрите в этот момент на малыша: на его улыбающемся лице – невысохшие слезы. Вот это сочетание улыбки и слез – и есть дух мелодий Моцарта. У маленького ребенка смех и слезы всегда рядом. Этот мгновенный переход крохи от слез к радости – вовсе не признак ограниченности или глупости, но явный фактор гениальности. ТретийГавот-рондо из балета “Безделушки”. В крохотном Гавоте, который звучит всего полторы минуты, Моцарт использует семь (!!!) различных мелодий. Возникает совершенно взрослый вопрос: ЗАЧЕМ? Зачем такое расточительство? Представьте себе, что у какого-нибудь солидного композитора в его творческом портфеле хранятся целых семь мелодий. | Что подобному композитору следует делать, чтобы распорядиться мелодиями по-хозяйски? Вполне понятно: или написать целую сонату, распределив эти мелодии по частям и разделам, и ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ за большую сонату (а не за миниатюру, как неприспособленный рассуждать об экономике Моцарт), или сочинить семь миниатюр и ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ за семь небольших произведений (а не за одно с семью мелодиями, как глупый, неприспособленный к жизни Моцарт). Моцарт же просто-напросто расточитель – семь мелодий (и каких мелодий!!!) в одной полутораминутной пьесе. Но все дело в том, что Моцарт не может по-другому, ибо и здесь замешано Детство. И это Детство диктует Моцарту законы творческого мышления. Придите в гости в семью, где живет маленький ребенок трехлетнего возраста. Существует два варианта познакомиться с малышом, который видит вас в первый раз. Один из вариантов – броситься к малышу, обнять, поцеловать или (еще хуже) схватить на руки. Ужасно! Незнакомое взрослое чудовище напало на крохотного ребенка и хочет его, маленького, пахнущего молочком, задушить! Малыш вырывается, выскальзывает и, если ему удастся спастись, вряд ли подойдет к вам в течение всего времени вашего визита. Но есть и другой способ познакомиться. Вы не кричите, восхищаясь малышом, не обнимаете его, даже не подходите к нему, а, поздоровавшись с ним, начинаете спокойно общаться с его родителями. А малыш стоит неподалеку и наблюдает за вами. И вдруг происходит что-то невероятное! Малыш, которого вы не целовали, не обнимали, словом, не выказывали ни малейшего благорасположения, неожиданно убегает в свою комнату и... выносит к вашим ногам все свои игрушки.  Это значит, малыш вас полюбил и хочет с вами играть. И не только играть, но и поделиться с вами всем, что у него есть. Ребенку, как и всякому гению, нужны не внешние признаки добра, а внутренние. Пока вы разговаривали с его родителями, он вас изучил, почувствовал ваше излучение, вашу ауру. И понял, что может вам доверять. Это типичный творческий принцип Моцарта. Моцарт, как и ребенок, полон чувства невероятной любви, и, когда он сочиняет музыку, то отдает вам все свои мелодии, как ребенок – игрушки. Не утаивая, не рассуждая, не просчитывая. ОТВЛЕЧЕНИЕ (ДЛЯ БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ)И здесь же я хочу сделать всем представительницам прекрасного пола одно очень важное предложение. Если вы хотите, чтобы следующее поколение было более музыкальным, более творческим, более гармоничным, то прислушайтесь к этому предложению. Я провел достаточное количество экспериментов, чтобы говорить об этом вполне уверенно. Как только женщина почувствует, что она беременна, это значит наступило время немедленно начинать слушать музыку Моцарта! Каждый день! Когда мама ощутила первые движения своего малыша, то слушание должно стать интенсивнее. В последний же месяц беременности, “посоветовавшись” с ребенком, который таинственным образом даст это понять, мама должна выбрать одну мелодию и привезти ее запись с собой в родильный дом. В момент появления ребенка акушерка включает запись. Почему это необходимо? А вот почему! Ребенку очень хорошо живется в материнском животе: не нужно самому дышать, самому питаться – и еда, и воздух поступают как по волшебству. Ребенок, словно космонавт, находится в космическом пространстве, и даже поза его напоминает позу космонавта (думаю, это не случайно!!!) Наконец, наступает момент выхода в жизнь... Выход! ...и бедный малыш в одно мгновение попадает в мир, где все чужое. Ему и холодно, и жарко, он висит над пропастью, вокруг него – страшные чудовища, яркий свет раздражает и пугает, и даже мама, которая была такой чудесной изнутри, снаружи выглядит совершенно по-другому! Все это невероятный шок для крохи! И ребенок кричит! Он в принципе делает совершенно правильно. Малыш должен, ну просто обязан закричать, чтобы начать дышать самостоятельно. Но затем!!! Почему ребенок продолжает кричать? Ведь он уже дышит! Самое время радоваться и приветствовать всех улыбкой: А вот и я! Долго вы меня ждали на вашей Планете? А ребенок кричит! Почему? Да потому что шок. И все вокруг – Чужое! Чужое!! Чужое!!! И вдруг в тот момент, когда ребенок закричал, акушерка нажимает на кнопку. ЗВУЧИТ МУЗЫКА МОЦАРТА! Все проведенные мною опыты показывают, что здесь происходит чудо. Ребенок не только мгновенно перестает кричать, но, словно, удивлен: мол, чего кричал-то, это тот же мир. У меня не хватит слов, чтобы описать его глаза! Ребенок узнает Моцарта! Происходит великая встреча на Земле. Это встреча Моцарта и Ребенка. Моцарт принимает на себя заботу о Душе Ребенка! Этот акт, словно акт крещения. Моцарт и ребенок познают друг друга. Их Гармония, их энергетика взаимно перекрещиваются. И дальше Моцарт будет сопровождать ребенка в его земной жизни. Но почему именно Моцарт, а не Бах, не Чайковский и не Брамс? Да потому что именно Моцарт на нашей Планете Земля обладает совершенной памятью Детства, он идентичен ребенку, его музыка – квинтэссенция детской гениальности. И здесь я должен объяснить, почему я пишу о детской гениальности. НЕБОЛЬШОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ О ГениальностиЯ глубоко убежден, что человеческий детеныш входит в наш Мир гением. Гениальность должна быть присуща Человеку изначально. Как с точки зрения этики, так и Божественной логики (хотя это в принципе одно и то же). Другое дело, что мы в своей издревле присущей нам стадности подсознательно воспринимаем гениальность как болезнь и очень умело излечиваем ребенка. Мы вставляем его в ряд, тщательно подстригая духовно, подрезая психически, ибо Гений – человек в обществе ужасно неудобный, непредсказуемый. А ведь обществу и его “первичной ячейке” – семье – нужны удобные дети. Вот мы и рождаем Гениев, а затем переделываем их в посредственности. Посредственности, вырастая, проведут естественнейшим образом подобную же процедуру со своими детьми. ВОЗВРАЩЕНИЕ К МОЦАРТУ В этом смысле Моцарт – исключение лишь постольку, поскольку его не смогли (или не захотели) вылечить. У меня есть несколько предположений относительно того, как в случае Моцарта удалось сохранить его гениальность. Отец Моцарта – Леопольд – подлинно великий педагог, он сумел не только не погасить, но, и всемерно развить гениальность сына. Кстати, ни один сын в истории культуры не написал своему отцу столько писем, сколько Вольфганг Амадей – Леопольду. И была это для Моцарта не просто сыновняя обязанность, а глубокая человеческая и творческая потребность. Атмосфера музыки, разговоров о ней, концертов в доме Моцарта и в самом Зальцбурге – все это было настолько само собой разумеющимся, что сочинение и исполнение музыки для малыша-Моцарта было такой же естественной формой деятельности, как для других детей игра с игрушками. Необычайная моцартовская чувствительность, обостренная реактивность, невероятная восприимчивость мира позволяют воспринять эту атмосферу музыки как норму. Понять эту норму мне помогает замечательная мысль Томаса Манна о культуре, высказанная им в романе “Доктор Фаустус”: “Мне кажется, наивность, бессознательность, самоочевидность являются неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой”. Среди важнейших причин сохранения моцартовской гениальности есть и еще одна, которая при поверхностном рассмотрении может показаться незначительной, но многие специалисты-педагоги меня поймут. И причина эта еще раз подтверждает правоту Томаса Манна о “наивности, бессознательности и самоочевидности” подлинной культуры. Старшая сестра маленького Моцарта Наннерль тоже была чудо-ребенком, и Леопольд Моцарт начал заниматься музыкой вначале с ней (и весьма успешно!) И когда маленькая сестренка играла с папой на клавесине, то еще меньший (трехлетний) Моцарт бегал вокруг них и кричал от вопиющей несправедливости. Как это так!!!  Папа играет с его сестрой в музыкальные игрушки, а его, маленького, обидели! И поэтому, когда папа Леопольд начинает заниматься с Вольферляйном (по-немецки – маленький Вольфганг), то для трехлетнего Моцарта начало занятий – всего лишь момент восстановления справедливости. Вот это – наличие всех трех признаков культуры по Томасу Манну: “наивность, бессознательность, самоочевидность” идеальнейшим образом присутствовали в жизни Моцарта. Четвертый примерЕще один важнейший признак гениальности. Мама выходит с малышом из дома. Раннее утро. Мама должна отвести ребенка в детский сад, а затем успеть добраться до работы. Мама спешит. И вдруг ее малыш бежит в противоположную сторону и обнимает маленькую березку: – Мама, смотри, березка! Мама растеряна: у них совсем нет времени, а ребенок бежит в противоположную сторону, к березке, которую он видит каждый день. Но все чудо в том, что ребенок видит эту березку каждый день по-новому. Каждую игрушку – по-новому, каждое движение, слово обретают бесконечное число значений. В детстве в Петербурге я любил наблюдать за реакцией туристов, которые, идя по Малой Морской улице, впервые видят Исаакиевский собор. На меня Исаакий произвел в детстве такое впечатление, что мне хочется повторить это состояние, вернуть или сохранить это впечатление навсегда. Именно поэтому, наблюдая за туристами, я всегда переживал их чувство радости, видя, как они восторгаются, удивляются, испытывают потрясение. Наблюдать было особенно интересно, когда один пожилой экскурсовод вел туристов так, чтобы Исаакий открылся не постепенно, а мгновенно. Не знаю, кто из нас – я или экскурсовод – больше радовался эффекту потрясения, когда некоторые туристы даже вскрикивали от восторга, оказавшись перед этим грандиозным сооружением. Но вот однажды случилось что-то странное. Я как всегда стоял в том самом месте, где туристы должны в одно мгновение увидеть это грандиозное творение архитектуры. Экскурсовод торжественным голосом произнес: – Перед вами – Исаакиевский собор! – Да-да, – спокойно сказали туристы. – Исаакиевский собор. Я бросился к экскурсоводу: узнать, что случилось с группой, почему они не восторгаются, не кричат от восхищения. И выяснилось, что эта группа уже видела Исаакий вчера. Сегодня же они проходят мимо него к другой экскурсионной цели. Там они, видимо, и будут кричать от восторга. А Исаакием они, согласно экскурсионному плану, восторгались и кричали. Но только вчера! “Нормальный” взрослый человек обычно говорит и рассуждает так: – Это я видел, об этом я слышал. Вы дайте мне новое, покажите мне то, чего я не видел. Тогда я удивлюсь, тогда я и буду восторгаться. Таким образом, взрослый всего-навсего коллекционер. Гений и ребенок в стадии гениальности, в отличие от взрослого, не коллекционируют мир, но каждый раз воспринимают одно и то же по-новому. Тогда-то и рождается то, что Шопенгауэр называет “подлинным созерцанием, свойственным гению”. Моцартовская способность бесконечно удивляться, по-детски смотреть на мир, очень хорошо отражается в его музыке. Ибо каждое его произведение – совершенно новый взгляд на одно и то же. Любители музыки хорошо это знают. Глава 5. ...Самая крохотная – величиной всего лишь с нашу планету Когда читаешь газеты, смотришь телевидение, невольно задумываешься о том, ЧТО мы натворили с самими собой и с нашей Планетой, и удивляешься только одному: как получилось, что мы еще не надоели Управлению нашей Галактики или (я с этой иерархией не знаком) Управлению Вселенной. То неимоверное количество зла, которое мы выделили во Вселенную, те беконечные преступления против Слова, Смысла и Гармонии, которые мы совершили на доверенной нам Планете, не может оправдать ни один Высший Суд. Мы не столько строим, сколько восстанавливаем разрушенное в очередных войнах. Ни один вид на планете не уничтожает столь планомерно самих себя, как это делаем мы, люди. И даже когда мы поняли, что живем на крохотной планетке, как на острове посреди безбрежного Океана Вселенной, то вместо того чтобы обняться, сплотиться, объединиться, мы разъединились. По каким угодно признакам: расовым, национальным, социальным, политическим, религиозным. В разные времена убивали друг друга. Вначале из-за чувства голода, затем – жажды. Затем убивали тех, кто христиане, затем, тех, кто нехристиане затем тех, кто немусульмане, затем тех, кто некоммунисты, затем тех, кто нефашисты, затем тех, у кого черная кожа, затем тех, у кого кожа белая, затем тех, кто не с нами, затем тех, кто против нас, затем тех... кто и с нами и за нас... И так – до бесконечности. И все-таки мы продолжаем существовать, продолжаем совершать преступления – одно страшнее другого. Мы словно ничему не научились, так ничего и не поняли. Я думаю, причина того, что мы не приговорены Судом к высшей мере, в том, что у нас просто-напросто есть очень хорошие адвокаты. Их имена некоторым хорошо известны: Шекспир, Микеланджело, Леонардо, Данте, Рембранд, Гёте. Но осмелюсь предположить, что председателями коллегии адвокатов являются два музыкальных гения: И.С. Бах и В.А. Моцарт. Баховская музыка рождается вверху, как вспышки сверхновых, и ниспадает на нас, как дождь, как метеоритный поток или солнечные лучи сквозь тучи. Моцартовская музыка рождается на земле или даже под землей (как корневая система) и прорастает, стремясь вверх, как растения; лопается, как почки, раскрывается, как цветы. И каждая почка опять движется как бы снизу вверх. И вот где-то над нами встречается баховское (сверху вниз) и моцартовское (снизу вверх) и образуют защитную оболочку. Она-то и защищает нас (мягко сказать) грешных от гнева Управления Вселенной. То, что мы об этом не догадываемся или в это не верим, как сейчас модно говорить, – наши проблемы... (локальные? Галактические? Одним словом, местные). Глава 6. Моцарт и Сальери...
Почему-то никто из пушкинистов ни словом не обмолвился о самой главной причине, по которой (пушкинский!) Сальери отравил Моцарта. Для того чтобы эту причину выявить, нужно сравнить между собой две фразы, вынесенные в эпиграф. Уже во второй строке “Маленькой трагедии” Сальери говорит об этом так прямо, что даже не читая трагедию дальше, можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с человеком, находящимся в состоянии крайнего душевного напряжения. Ведь фраза “правды нет и выше” означает то, что он, Сальери, потерял Бога. Представьте себе идеального читателя, который впервые открывает “Маленькую трагедию” Пушкина под названием “Моцарт и Сальери” и с удивлением обнаруживает, что если первое имя в заглавии пушкинской трагедии ему о многом говорит, то второе – почти ни о чем. И вот наш (напомню, идеальный) читатель раскрывает музыкальную энциклопедию, чтобы узнать, кто он, второй участник трагедии, имя которого написано рядом с именем великого Моцарта. Итак, Антонио Сальери: “...скрипач, клавесинист, органист, композитор... сочинил 41 (!!!) оперу, которые ставились во всех оперных театрах Европы... великий реформатор оперы... гениальный кавалер Глюк (один из величайших реформаторов оперы) считал его своим лучшим последователем, педагог, в числе шестидесяти (!) учеников которого Бетховен (!!!), Шуберт (!!!) Лист (!!!), влюбленный в своего учителя Фр. Шуберт сочинил для него юбилейную кантату, потрясенный его педагогическим талантом Л. Бетховен посвящает ему три первые сонаты для скрипки и фортепиано. В своей музыке Сальери драматичен, трагичен, комичен (градации творчества: от заупокойной мессы “Реквием” до миниатюр под названием “Музыкальные и гармонические шутки”)... организатор специальных благотворительных концертов, все доходы от которых поступали вдовам и сиротам умерших музыкантов Вены... занимал крупнейшие музыкальные посты, которые только существовали в то время в Вене,... друг великого комедиографа Бомарше...” и т.д. и т.п. “Вот это личность!”, – прочитав все это, думает наш идеальный читатель! Теперь, когда я столько узнал об этом, без сомнения, выдающемся человеке, еще более интересно будет читать об общении двух гениев. Сколько добра о святом искусстве нам предстоит познать! Сколько музыкальных и литературных потрясений нам предстоит испытать! Открываем книгу: “Сальери: Вот это да!!! Учитель Шуберта, благотворитель, Мастер, композитор, итальянец-католик утверждает, что он... потерял Бога. Ай да Пушкин!!! Потеряв же Бога, нужно либо искать Его, либо жить без Бога. И жить со всеми вытекающими из этого последствиями, (пушкинский!) Сальери стал искать своего Бога. И... нашел!!! ...После того как Моцарт сыграл Сальери только что написанную им музыку и спросил у него: “Что ж, хорошо?” Сальери произнес фразу, свидетельствующую не только о его потрясении музыкой, но указывающую на то, что Сальери – на пути к потерянному им ранее Богу: “Какая глубина! (1) (Цифры, естественно, мои. Антонио Сальери подсознательно указывает на триединство – Отец, Сын и Дух. Ибо глубина – это Бог-Отец, смелость – Бог-сын – Иисус, осмелившийся воплотиться на злобной Земле в человеческом облике, а стройность – разумеется, Бог-Дух). Прямо на наших глазах происходит чудо! Потерявший Бога (пушкинский!) Сальери его находит. И этот Бог – Моцарт. Что же ответит на это Моцарт? Расцелует Сальери? Или скажет, например, так: “О, Сальери! Я недостоин сих похвал!” или, к примеру, такое: “Что слышу я! О, друг Сальери! Как я желал бы Музыкой оправдать твое доверье!” Или просто подойдет к Сальери, обнимет его, и, может быть даже расплачется. Нет! Не подойдет и даже не поблагодарит (Иначе это был бы не Моцарт и не Пушкин. А Пушкин чувствует Моцарта как самого себя. Ибо абсолютно родственные души) Наоборот, произнесет слова, которые мгновенно расставят все точки над “i” и заставят А. Сальери немедленно принять решение об убийстве Моцарта: “Моцарт: “Сальери: Ситуация уникальна! Моцарт провоцирует Сальери. Причем так резко и дерзко, что у Сальери не остается ни одного шанса избежать необходимости отравить Моцарта. Он, Сальери, накормит и напоит голодное “божество”, он отомстит Моцарту за то, что Моцарт “недостоин сам себя” (слова Сальери). Пусть миру останется божественная музыка, но не этот, абсолютно не похожий на свою музыку, шут... Но сколько же крупных заблуждений царит вокруг “Маленькой трагедии” об отравлении! Разберемся в нескольких важнейших... Заблуждение первое: Антонио Сальери – посредственность.Говорить так – значит не верить Моцарту. Ибо Моцарт, рассуждая о приятеле Сальери великом французском комедиографе Бомарше, говорит буквально следующее: “Он же гений, Как ты да я”. Называя Сальери гением, Моцарт не лукавит, не заискивает перед Сальери, ему это незачем, да и не в его стиле. Моцарт в этом убежден (от себя добавлю, что это совершенно справедливо, ибо личностей такого огромного масштаба в музыкальной культуре Европы очень немного). Пушкинский Сальери, безусловно, тоже гений. Доказательством этого служит его первый монолог, где он невероятно современно, глубоко и точно описывает творческий импульс, процесс, психологию творческой личности, идеи самоотречения во имя достижения высших целей. Под этим монологом вполне могут подписаться величайшие представители науки и искусства всех времен. В XX веке много говорят о психологии творчества. Одной из слагаемых гениальной личности является так называемая легкость генерирования идей, то есть способность отказаться от скомпрометированной идеи, с каким бы трудом она ни была выношена раньше. Величайший пример подобного проявления гениальности у Сальери – в его первом монологе: “...Когда великий Глюк В образе Сальери перед нами предстает человек самого высочайшего уровня. Ибо, согласитесь, очень немногие способны, как Сальери, встретив подлинного новатора, отречься от всего в своем собственном творчестве и начать сначала, пойти за ним! Итак, Антонио Сальери стал поклонником и последователем великого оперного реформатора Кристофа Виллибальда Глюка. Но через несколько строк идет еще более потрясающая информация: Сальери называет имя итальянского композитора Пиччини, который: “Пленить умел слух диких парижан”. И опять то же слово – слово, которым Сальери характеризует Глюка. Неужели у Пушкина и у его героя Сальери столь беден словарный запас, если Глюк “открыл пленительные тайны”, а Пиччини тоже “пленить умел”. Но ведь это же интереснейший намек Пушкина на самую бескровную войну в истории Европы – войну глюкистов и пиччинистов. Музыкальную войну между сторонниками музыкальной реформы Глюка с его антично-строгой, порой даже суровой музыкой и поклонниками итальянца Никколо Пиччини, который, приехав из Неаполя в Париж, поразил Европу мягкой лирической пластичностью своих мелодий. Но зачем Пушкину нужно, чтобы А. Сальери упоминал так много имен в столь крохотной пьесе? У Пушкина ничто не бывает случайно. Просто отношение Сальери к войне глюкистов и пиччинистов – это пребывание “над схваткой”. Сальери так любит музыку, что не может находится на чьей-либо стороне. Он на стороне самой музыки, он восприимчив к любым позициям, если выигрывает музыка. Представляете себе, о какого масштаба личности идет речь у Пушкина? И этот человек – посредственность? Заблуждение второе: Сальери сердится на Моцарта только потому, что Моцарт привел к нему слепого нищего скрипача, который своей плохой игрой портит моцартовскую же музыку.Здесь мне предстоит приложить немало усилий, чтобы доказать, что и здесь не все так просто. Потому что после того, как слепой скрипач закончил пародировать музыку Моцарта, Сальери не хочет реагировать, как Моцарт, то есть смеяться: “(Старик играет... С самим Рафаэлем Санти и с самим Данте Алигьери! Для итальянца Сальери, образованнейшего человека, нет и ничего не может быть выше этих имен двух величайших итальянцев в истории искусства. Но, следовательно, в своем утверждении я не прав. Сальери действительно негодует по поводу плохой игры скрипача. Ведь речь идет о творении искусства соизмеримого с живописью Рафаэля Санти и поэзией Данте Алигьери, которых нельзя ни “пачкать”, ни “бесчестить пародией”. ...Но я ведь не отрицаю, что и поэтому тоже. Я просто считаю, что у Сальери есть еще куда более серьезная причина для негодования. И лежит эта причина не столько в том, КАК старик играет, но еще больше в том, ЧТО он играет и ЧТО с легкой руки Моцарта ему ДОЗВОЛЕНО пародировать. Ведь не случайно несколько позднее Сальери скажет Моцарту: “Ты, Моцарт, недостоин сам себя”. Чтобы понять, что имеет в виду Сальери, послушаем Моцарта: “Проходя перед трактиром, вдруг, Что же это за музыку разыгрывал слепой скрипач в трактире? Voi che sapete (вы, кто знаете) – это первая из двух арий Керубино в опере Моцарта “Женитьба Фигаро”. Керубино пятнадцать лет. Он – паж Графа Альмавивы – влюблен во всех прелестниц замка. Этот мальчишка настолько полон любви ко всем женщинам, что ни о чем другом говорить (петь) просто не может. Тем, кто хорошо знает эту оперу, покажется, что я преувеличиваю, но я просто убежден, что тайный главный герой оперы Моцарта “Женитьба Фигаро” – Керубино. У него, как и у официального главного героя, Фигаро, две арии. Но если обе арии Керубино посвящены главной теме его жизни – любви (в том числе ария voi che sapete, которую пародирует нищий в трактире), то Фигаро “вынужден потратить” одну из двух своих арий на Керубино. Ведь ему нужно успокоить несчастного мальчишку, которого граф застал в спальне графини, и которого он хочет выгнать из замка и отправить служить в свою гвардию. Помните? “Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный...” И это даже не ария, а, я бы сказал, прелестнейшая музыкальная “дразнилка”. Но Керубино – главный герой оперы не потому только, что так хочется пишущему эти строки, а потому, что он, вообще – самый любимый оперный герой Моцарта. Скажу больше: Керубино – моцартовский двойник. Он, как и его автор, постоянно находится в состоянии вечной влюбленности во всех и вся. Он, как и Моцарт, не знает ни минуты покоя. У него, Керубино, промежуток между смехом и слезами не больше, чем в музыке Моцарта. Наконец, он подросток, то есть находится в самом непредсказуемом возрасте – переходном. Керубино непредсказуем, как и сам Моцарт. Когда Моцарт привел нищего старика-скрипача играть для Сальери пародию на чудеснейшую арию Керубино, Моцарту оставалось жить (согласно пушкинской версии) несколько часов. И Моцарт уже пишет Реквием. Значит, к тому времени уже создана Сороковая симфония, где в качестве главной партии первой части – минорный вариант первой арии Керубино. В конце жизни Моцарту, как никогда, нужен этот чудный, словно само воплощение жизни, мальчишка. Ведь Керубино – его Ангел-хранитель. Сальери знает о музыке Моцарта все, и когда Моцарт, забавляясь, позволяет слепому скрипачу пародировать то, что, с точки зрения Сальери, для самого Моцарта является святым, Сальери не до смеха. Доказательством того, что Пушкин понимал эту проблему, служат следующие слова из второго монолога Сальери (после того как решение отравить Моцарта им уже принято): “Что пользы в нем? Как некий Херувим Он несколько занес нам песен райских...” Вот он где, пушкинский тайный знак. Он, Пушкин, устами Сальери идентифицирует Моцарта с его героем. Ведь Херувим – это Керубино по-итальянски. Итальянец Сальери никак не может забыть и простить Моцарту то, что тот издевался над собственной святыней, наплевал в собственную купель, позволив нищему слепцу из трактира пародировать то, что для Моцарта должно быть свято. А ведь эта ария Керубино неимоверно глубока и очень интимна. А что касается музыкознания и классического психоанализа, то исследование каждой музыкальной и поэтической фразы арии подростка-Керубино – настоящий материал для докторской диссертации. Как для музыковеда, так и для ученого-психолога. Сальери – гениальный музыкант, психолог и хорошо все это чувствует. Кроме того, можно себе представить, что Сальери не раз слушал эту арию, сидя в ложе Королевской оперы, и он, безусловно, шокирован подобным шутовским поведением Моцарта: “Ты, Моцарт, недостоин сам себя”. (Вот он – главный постулат обвинения, – в нем в полном объеме заложен и дух грядущего наказания.) Заблуждение третье: Сальери отравил Моцарта из зависти.Пушкин вначале тоже так думал, поэтому первоначальные наброски назвал: “Зависть”. Но по мере того как замысел “Маленькой трагедии” все больше прояснялся, Пушкин понял, что не зависть Сальери к Моцарту – основание для убийства последнего. Иначе весь смысл трагедии сводился бы к банальнейшей ситуации: бездарный Сальери из зависти убил гениального Моцарта. Но тогда это был бы уже не Пушкин, а автор пьесы для провинциального театра. Или что-нибудь в духе современной “мыльной оперы” для очередного телесериала. А ведь “Моцарт и Сальери” – одна из грандиознейших мировых идей на уровне не только литературы, но и научной психологии; в том числе, как мы уже замечали раньше, психологии творчества. Конечно, Сальери завидует Моцарту, но его чувство зависти никак не является основанием для убийства Моцарта. Помню, как на репетициях этой пьесы в старинном и очень шармовом театре в центре шведской столицы в районе романтического Вазастана исполнитель роли А. Сальери – блестящий актер и режиссер Юрий Ледерман кричал: “Отменяем премьеру – у меня, как у Сальери, нет достаточных оснований убить Моцарта!” И правда, чем больше углубляешься в пьесу, тем меньше подлинных оснований для убийства. Конечно же, основания есть, но они куда более глубоко запрятаны на психологическом уровне, чем об этом пишут многие исследователи. Премьера в стокгольмском театре состоялась только, когда мы нашли эти подлинные основания для убийства. Ибо главных причин убийства две – политическая и психологическая. И тогда перед нами – подлинно современный театр. Для того чтобы это понять, сравните стиль речи Сальери – выдающегося музыкального деятеля и Моцарта – “рядового музыканта”: Сальери: Моцарт: Сальери: Моцарт: Моцарт: Сальери: Моцарт: Сальери: Можно приводить бесконечное число примеров, но уже ясно, что разница в менталитете Моцарта и Сальери катастрофически огромна. Они словно представляют разные галактики. Стиль Сальери – это стиль выдающегося деятеля, руководящего работника, который даже наедине с собой говорит так, как будто выступает перед широкой общественностью. Речь Моцарта – само естество. Сальери – великий музыкальный жрец, первосвященник, посвященный. Моцарт же во всех внешних проявлениях – рядовой музыкант. Но весь ужас Сальери в том, что именно моцартовская музыка – есть музыка высшего начала, божественного озарения. И, что еще ужасней, лучше всех это дано понять именно Сальери. Получается, все, что принес в жертву музыке Антонио Сальери – самоотречение, бессонные ночи, отказ от радостей жизни, отказ даже от любви – оказалось необходимым не для того, чтобы самому создать великую музыку, но только воспользовавшись всеми своими знаниями, оценить подлинное величие музыки другого композитора. Здесь я хочу процитировать блестящую мысль режиссера Юрия Ледермана. Когда мы размышляли на тему о том, кто такая Изора (“Вот яд – последний дар моей Изоры”), и откуда у Пушкина взялось это имя, Ледерман сказал: “Важно – не кто такая Изора. Важно еще одно противопоставление. У Моцарта – дар любви – его мальчишка, с которым он “играл на полу”, а у Сальери дар любви – яд”. Но в лице Моцарта одинокий, “осьмнадцать лет” носящий с собой яд Сальери не просто обретает потеряного им ранее Бога. Он предлагает Богу сотрудничество: “Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь; И здесь Моцарт произносит самоубийственную для него фразу: “Ба! Право? Может быть... Но божество мое проголодалось”. Именно в эту секунду (и ни секундой раньше) Сальери принимает спонтанное решение отравить Моцарта: “Послушай: отобедаем мы вместе И только после того как Моцарт уходит, Сальери разрабатывает для себя моральное оправдание или, лучше сказать, основание для убийства Моцарта. Решение принято неожиданно и к тому же Сальери – не профессиональный убийца, а посему убийство нужно оправдать не личными причинами, но, как это делает всякий политик, общественной необходимостью. Сальери говорит: “...я избран, И здесь – гениальное пушкинское открытие. Сальери – один из величайших эгоцентристов в истории литературы В первом монологе, который звучит на сцене не более пяти минут, Антонио Сальери 29 раз использует все формы личного местоимения. Но он же перестает быть эгоцентристом в своем втором монологе. Здесь появляется местоимение третьего лица множественного числа. Вместо “Я” – “МЫ”. И происходит эта замена на множественное число именно там, где Сальери обосновывает осознанную им общественную необходимость убить Моцарта: “...я избран, Этот гениальный Пушкиным выверенный повтор словно попытка Сальери убедить самого себя: “...МЫ ВСЕ, мы все... И дальше: “...ЧТО БУДЕТ С НАМИ...” И далее: “Наследника нам не оставит он” И далее: “Он несколько занес нам песен райских, Решение убить Моцарта обоснованно. И главная причина того, что Моцарта необходимо уничтожить, выявляется пушкинским Сальери подсознательно гораздо раньше, чем она приходит в его голову в форме конкретного решения. Обвинительный приговор еще без объявления меры наказания звучит в этой, как я думаю, ключевой фразе всей трагедии. Сальери: Как избавиться от этой нелепости? Как привести в гармонию дух Моцарта и его тело? Сальери принимает решение: отделить безобразное моцартовское тело от его великого духа. Тело Моцарта должно умереть, а его дух – остаться. То есть все земное поведение этого тела, его слова, поступки, шутки, шутовство никак не соответствуют рожденной моцартовским духом Музыке, ее божественности, ее эзотеричности, ее избранности. И сия нелепая, дикая ошибка должна быть исправлена. Сальери это понимает. Но он (повторяю) не убийца. Необходимо, чтобы все это шутовство дошло до края, до омерзительного моцартовского: “Божество мое проголодалось”, чтобы темпераментный итальянец “первосвященник от музыки” принял мгновенное и роковое решение: “отобедаем мы вместе”. Да еще – страх, что Моцарт может не прийти, ведь он, Моцарт – “Гуляка праздный Поэтому обязательный Сальери добавляет: “Я жду... Смотри ж”. И в этом “Я Жду смотри Ж” – звуковое доказательство того, что, как Сальери не хотел признать себя “змеей растоптанной”, пушкинская звукопись показывает, Сальери именно змей, приближающийся к совершению греха равновеликого первородному. Но уже не в роли соблазнителя, а в роли убийцы Бога. Заблуждение четвертое: “Моцарт и Сальери” – пьеса о трагедии В.А. Моцарта.Нет, нет, и еще раз нет!!! А если и да, то только в понимании режиссера театра оперетты. Эта пьеса – о трагедии Сальери. Моцарт написал свой “Реквием” и отправился в Вечность. А вот Сальери предстоит испить полную чашу страданий. И не потому только, что Моцарт поделился с Сальери мыслью о том, что “гений и злодейство – две вещи несовместные”. И даже, если последние слова всей пьесы звучат как запоздалое осознание Сальери того, что, совершив убийство, он навсегда вычеркивает себя из иерархии Гениев: “Но ужель он прав, то не это основная причина его трагедии. Эта фраза часто приводится в пушкиноведении как доказательство трагического осознания Сальери того факта, что после убийства он якобы лишился места на Олимпе. На мой взгляд, это доказательство далеко не самое главное. Существует еще один эпизод, куда более серьезный. Сразу же после того как Моцарт выпивает отравленное Сальери вино, последний произносит, пожалуй, самую невероятную, самую нелепую и странную фразу всей трагедии: “Сальери: Тот, кто хоть раз выступал на сцене, знает как сложно произнести одно и то же слово три раза подряд. Здесь же, в сцене отравления, звучащее из уст Сальери обращенное к Моцарту троекратное “постой” воспринимается чуть ли не как театр абсурда. Сальери решился убить Моцарта, логически обосновал для себя необходимость этого убийства, когда замысел реально осуществлен, и Моцарт выпивает яд, вдруг ...ПОСТОЙ!!! Ведь именно это трижды повторенное слово – кульминация всей трагедии в целом и трагедии Сальери в частности. Но вот именно об этом моменте пушкинисты, словно сговорившись, молчат. Заметим, мысль Моцарта, произнесенная им незадолго до того как он выпивает вино с ядом: “гений и злодейство – две вещи несовместные” не останавливает убийцу. Более того, мысль Моцарта о несовместимости гениальности со злодейством даже как бы подстегивает Сальери и вызывает у него чувство иронии и нетерпенья: “Моцарт: Что же произошло в те несколько секунд в течение которых Моцарт выпивает яд? Что совершило переворот в душе убийцы, когда он вместо радости от удачного осуществления (слава Богу, свершилось, справедливость восстановлена) вдруг кричит троекратное: “Постой!” А вот что случилось! Перед тем как выпить вино Моцарт, держа бокал в руке, произносит тост, который, как бомба, разрушает всю логику построенного Сальери замысла. Он, Сальери, собирался убить своего противостоятеля. Да чего там говорить – злейшего врага! А убивает подлинного союзника и брата. Ведь вот какой ужасный для Сальери тост произносит Моцарт. “Моцарт хочет выпить: за искренний союз, Вот это да!!! Именно в этот момент Сальери понимает – сейчас произойдет самое страшное: Моцарт выпьет яд и уйдет в Вечность. Сальери же останется в памяти человечества как убийца Моцарта!!! Сальери – человек образованный, он не может не знать, что такое слава Герострата. В одно мгновение Сальери осознает какую Глыбу Вечности он сейчас двигает к обрыву. В одно мгновенье все его жертвы, труды, бессонные ночи, отказ от жизненных радостей, отказ от любви, вся его слава композитора, все будет заменено одним определением: Антонио Сальери – убийца Моцарта. “Постой, постой, постой!..” – кричит Сальери, – И понимает, что, да! – выпил! свершилось! и сделать ничего уже нельзя! И в одно мгновенье осознав, что его троекратное “постой” может вызвать подозрение даже у простодушного Моцарта, спохватившись мгновенно, как бы взяв себя в руки, добавляет: “...без меня?” И словно в довершение сальериевского мучения, добрый друг и “единомышленник” Антонио Сальери – Вольфганг Амадеус Моцарт внезапно говорит Сальери то, что ему, Сальери, как раз-то и хотелось услышать: “Моцарт: Господи, господи, господи!!! – наконец-то!!! Сальери слышит именно то, что он мечтал услышать от Моцарта все эти годы. И никакая зависть не позволила бы Сальери отравить Моцарта. Но Моцарт уже выпил яд... Ах, если бы Моцарт сказал все это вовремя, а не после отравления... А ведь такое время было! Даже в пределах текста “Маленькой трагедии”. Читатель сам может произвести этот эксперимент. Давайте сделаем текстовую перестановку. Когда Антонио Сальери, услыхав гениальный набросок Моцарта, находит Бога: “Ты, Моцарт, Б о г, то, если бы Моцарт вместо своего издевательского и хулиганского: “Ба! Право? Может быть... Но божество мое проголодалось”. Ответил бы так: “Моцарт: Но есть в “Маленькой трагедии” и еще очень важный знак, свидетельствующий о том, что не Сальери уничтожил Моцарта, а наоборот: Моцарт не оставил Сальери ни одного шанса для того, чтобы жить дальше, находясь в гармонии с самим собой и в уверенности, что он, Сальери, выполнил свой долг. В предсмертном монологе Моцарт говорит: “Нас мало избранных, счастливцев праздных, Вот это да! Уже отравленный, Моцарт причисляет Сальери к самому священному кругу “жрецов, пренебрегающих презренной пользой”. И говорит он это после того, как Сальери в своем обвинительном монологе оправдывает убийство, которое ему предстоит совершить именно отсутствием “пользы” от того, что Моцарт существует:? “Что пользы, если Моцарт будет жив И вновь: “Что пользы в нем?” И поскольку Сальери не пренебрег “презренной пользой”, наоборот, оправдывал убийство “бесполезностью” Моцарта и “полезностью” своего преступления, он осужден отныне никогда не причислять себя к немногочисленным “избранным, счастливцам праздным”. И еще одна удивительная пушкинская деталь: Сальери осуждающе называет Моцарта “гулякой праздным”. Моцарт же радостно причисляет Сальери к своему уровню “счастливцев праздных”. Какая риторика! Но и какой приговор! А приговор этот произносит простодушный Моцарт. И тот факт, что Моцарт даже и не подозревает, что это приговор (ибо он действительно уверен, что Сальери, как и сам Моцарт, относится к “избранным счастливцам”), делает этот приговор куда страшнее, чем если бы Моцарт знал правду. Итак, пушкинский Сальери теперь не просто убийца, он – плебей, он – ничтожество. И как человек, и как творец. Имя Сальери навсегда входит в историю человечества. “Свершилось” то, о чем он мечтал всю свою жизнь. Бессмертие! Но какой ценой! Но, все же, сколько бы я не перечитывал “Маленькую трагедию”, для меня это непостижимо: осознать, что пушкинский Сальери – убийца. Ибо многое в образе пушкинского Сальери свидетельствует о том, что Антонио Сальери – не злодей, а прежде всего выдающийся мастер. Художник, знающий цену мастерству, творчеству, самопожертвованию. И кто, как не он, в этом мире до конца, по-настоящему понимает, кто такой Моцарт. И убил Сальери не кого-нибудь, а именно МОЦАРТА!!! Ибо все в пушкинской трагедии правда: и зависть Сальери по отношению к Моцарту, и сальериевское несогласие с моцартовским шутовством как формой поведения гения, и уверенность Сальери в его праве учить Моцарта нормам поведения. И сальериевская уверенность в том, что он, Сальери, – истина в последней инстанции (в том числе и в области всего, что касается понимания подлинного величия музыки Моцарта) И сальериевская вера в то, что, убив Моцарта, он спасает всех остальных. Но все это не вело ни к какому убийству. Слишком хорошо знает Сальери, что такое музыка Моцарта. И этот парадокс делает “Маленькую трагедию” Пушкина одной из самых трагедийных трагедий в истории мировой литературы. И здесь я обязан предложить или, лучше сказать, закрепить один из вариантов моей попытки ответа на мой же собственный вопрос: КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ? (Особенно, если учесть то, что мы знаем сегодня: реальный Сальери никогда не убивал Моцарта. Но ведь в этом случае вся пьеса Пушкина выглядит сегодня как клевета?!) Пушкинский Сальери никогда не отравил бы Моцарта, и никакая зависть не сыграла бы никакой мало-мальской роли. “Маленькая трагедия” прежде всего – ТРАГЕДИЯ САЛЬЕРИ, ибо, как и в шекспировских трагедиях, Лаэрт не должен был убить Гамлета, Ромео должен был подождать всего несколько секунд, чтобы обнять живую Джульетту. А правда о платке должна была раскрыться не через пять минут после того, как Отелло задушил Дездемону, а всего на пять с половиной минут раньше. Моцарт высказал важнейшую для того, чтобы не быть убитым Антонио Сальери, мысль уже тогда, когда яд был в его теле. Правда пришла слишком поздно. Но, чтобы не получилось, что это моя единственная, а точнее, окончательная версия, могу добавить, что я до сих пор не могу отдать предпочтение какой-нибудь из них. Я просто предлагаю их на ваше рассмотрение. Читайте и перечитывайте трагедию, слушайте музыку Моцарта и продолжайте исследования. Глава 7. “Наследника нам не оставит он” Очень странно в монологе Сальери, где он оправдывает необходимость уничтожения Моцарта, звучит мысль, выделенная в название этой главы. Почему одной из причин убийства является невозможность продолжать развитие музыки на уровне Моцарта? Почему Сальери опасается, что искусство “падет опять как он исчезнет”? Почему, согласно Сальери, Моцарт должен уйти “чем скорей, тем лучше”? Ведь искусство после Моцарта “падет” независимо от того, будет ли Моцарт жить долго или, благодаря “деятельности” Сальери, умрет молодым? Нет, согласно Сальери, Моцарт должен умереть “чем скорей, тем лучше”, чтобы не достигнуть такой высоты, после которой само занятие сочинением музыки на Земле станет бессмыслицей. “Что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты еще достигнет?” Самое парадоксальное, что в этом сальериевском утверждении есть глубоко творческая логика. А. С. Пушкин и здесь – на невероятной высоте прорицания и мышления. Ибо в истории человечества был эпизод, когда один гений, живя в два раза дольше Моцарта, поднял музыку на такую недосягаемую высоту, что этому виду искусства грозила катастрофа. Поскольку продолжать после него было некуда и некому. И пришлось приложить немало усилий, чтобы этой катастрофы избежать. Пришлось сделать так, чтобы этого гения попросту забыли. Причем забыли надолго, на сто лет. И музыка стала развиваться без учета его существования. И только когда утвердились новые стили, новые принципы композиции, его искусство вернулось на планету из забытья. Она ошарашила, потрясла, но не разрушила, а лишь обогатила существовавшие к тому времени на нашей планете музыкальные стили. Речь идет об Иоганне Себастьяне Бахе. В истории музыки однажды действительно произошла одна очень мистическая история: больше трехсот лет назад появился гений, который не только опередил все развитие музыки на тысячи (!!!) лет, можно сказать, что он ухитрился опередить развитие человеческой мысли далеко за пределами музыки. То есть независимо от того, в каких бы сферах культуры или науки эта мысль не развивалась. Тем, кто очень глубоко (насколько это возможно) чувствует и знает музыку Баха, порой вообще приходят в голову мысли, которые не знающим или не чувствующим его музыку могут показаться абсурдными или в лучшем случае непонятными. Например, мысль о том, что Бах – человек Будущего. И он на несколько тысячелетий раньше времени показал нам необъятные возможности человеческого мозга и объемы его деятельности в далеком будущем. Или мысль о том, что Бах задолго до Эйнштейна, на глубоко интуитивном уровне, осознал в своей музыке теорию относительности. Или что музыка Баха приоткрывает тайну и природу существования Бога куда сильнее, чем это могут сделать все богословы вместе взятые. Что философия Баха, проявившаяся или зашифрованная им в его музыке, превосходит по глубине постижения все философские постулаты. Или даже вообще, что музыка Баха – единственное подлинное доказательство существования Бога. Или что вся история цивилизации – это только предикт к существованию Баха, после него же история музыки, как и вообще история человечества, пошла по наклонной или кривой. Все это звучит как бы нелепо для кого угодно, но не для глубоких знатоков и ценителей Баха. Ибо его музыка, действительно, открывает такие глубины бытия и поднимает такие пласты знаний и чувствований, после которых очень трудно воспринимать иные формы мышления, музыки, философии, литературы. Тот, кто намерен просто посмеяться над всеми этими высказываниями, попробуйте вместо этого проникнуть во Вселенскую ауру баховской музыки, и если вам это удастся, может случиться, что вам будет совсем не до смеха. А если изучить биографию и к тому же генеалогию Баха, то можно, по крайней мере, говорить об уникальном генетическом эксперименте, результат которого – Иоганн Себастьян Бах. Задолго до Баха жил в Германии булочник по имени Вейт Бах. Он был к тому же городским трубачом. Есть отзывы, что очень хорошим. И этот трубач женился на дочери музыкантов. Своих детей он, разумеется, учил музыке. Дети вырастали, становились музыкантами и женились на дочерях музыкантов, которые рождали детей, уже, безусловно, музыкальных. Этих детей, естественно, тоже учили музыке, а вырастая, молодые музыканты, конечно же, женились на дочерях музыкантов. И так – много поколений подряд. Наконец, гигантское накопление музыкальной энергии преображается в подарок всей планете, имя которому Иоганн Себастьян Бах. У Баха было две жены (первая рано умерла), обе подлинно музыкальные, бесконечно любившие музыку. Они в разные годы родили Баху двадцать детей. Но поскольку детская смертность тогда была очень высока, то детей осталось только тринадцать. Пятеро стали выдающимися композиторами. Конечно, уже не уровня отца, ибо этого уровня достичь невозможно и сегодня. Иоганн Себастьян сам учил своих детей. И ему, как видим, удалось добиться желаемого. Вклад детей Баха в музыкальную культуру необычайно велик. Но в жизни Баха-отца произошла одна странность. Мы часто слишком легко, не углубляясь, говорим об этом. ИМЯ И МУЗЫКА ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ БЫЛИ ЗАБЫТЫ. И это забытье продолжалось сто лет. Возникает естественный вопрос – ПОЧЕМУ? Как такое могло случится? Ведь воспитанные на его музыке, его примером, его уроками выдающиеся композиторы – сыновья Баха продолжали жить после отца. Более того, они добились ведущего положения в различных княжествах Германии, стали законодателями музыкальных вкусов последующей за отцом эпохи. И что, разве сыновья Баха не сделали все возможное, чтобы гениальная музыка их отца исполнялась, слушалась, и, вообще, заняла подобающее ей место в музыкальной культуре Европы? Не только ничего не сделали, а наоборот. То есть сделали все, чтобы музыка отца была забыта, причем забыта основательно. Папа был объявлен “скучным, несовременным, хорошим органистом, но не заслуживающим особого внимания композитором”. И оттого что подобное говорилось детьми Баха, его лучшими учениками, занявшими почетные места на европейском музыкальном Олимпе, эффект был именно таким, которого можно было исторически ожидать. Им, детям, удалось-таки “выбросить” папу и его музыку из истории музыкальной культуры своего времени. Великим представителем музыкальной культуры времени Баха остался Георг Филипп Телеманн. Бах же был представлен как выдающийся органист, но не очень значительный сочинитель скучноватой и чрезмерно рассудительной церковной музыки времен Телеманна. Общественной значимости после смерти ее создателя музыка Баха-отца не обрела, но все же стала предметом изучения некоторых музыкальных исследователей послебаховского времени. Судя по всему, некоторые более глубокие исследователи, знакомясь с музыкой И. С. Баха испытали потрясение, но оставили его при себе. Не желали быть белыми воронами среди общепринятого тогда цвета нормальных черных птиц. И конечно же, возникает вопрос (думаю, вопрос этот уже висит на кончике языка у читателя): ДА КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ? Эти сыновья Баха с ума сошли что ли? А может быть, они просто негодяи? А быть может, или даже скорее всего бездари, так и не понявшие, кем был их отец? А может, завистники, как Сальери? Нет, не завистники, и не бездари. Не сошли с ума. Они поняли что-то очень важное в этой жизни. То, что понял пушкинский Сальери. Именно его мысль, мысль, высказанная Сальери в “Маленькой трагедии”, может объяснить нам поведение сыновей Себастьяна Баха после смерти отца. Помните? Главной причиной в необходимости уничтожить Моцарта Сальери называет невозможность продолжить его традицию, ибо для этого нужно, чтобы родился еще один Моцарт. “Наследника нам не оставит он”. Дети И. С. Баха были талантливы. Очень талантливы. (Да просто достаточно послушать их выдающуюся музыку.) Они были настолько талантливы и так глубоко понимали музыку отца, что осознали одну вещь, поняли именно то, чего так опасался А. Сальери в отношении Моцарта. И. С. Бах не оставил наследника. Ни один из его выдающихся сыновей не является в этом смысле наследником, ибо не в состоянии продолжать традиции отца. И не только сыновья. Никто не может, и никогда не сможет. Уже через много лет после Баха другой, пожалуй, единственный в истории музыки гений, который приближается к нему по грандиозности (пожалуй, даже и равный ему) Людвиг Ван Бетховен, познакомившись (только для себя) и осознав баховскую музыку, произнесет самое глубокое из всего, что сказано о Бахе: “Не ручьем, а океаном должен он зваться!” (игра слов: Бах по-немецки – ручей). Из океана ничего не вытекает, в него все впадает, океан –могучая законченная структура. Именно это поняли и сыновья Баха. Они осознали, что в эту сторону продолжения и пути нет. И я прекрасно понимаю, что у Бетховена не было возможности познакомиться со всей музыкой Баха (вся музыка не найдена и сейчас). Иначе Бетховен мог бы сказать, что Бах – и Ручей, и Океан. Знакомство с музыкой Баха вырвало целый год из жизни Моцарта. Он, Моцарт, написал за этот год немало бездарной (!!!) музыки, пытаясь подражать великому Себастьяну. (Здесь я испугался слова “бездарный”, оно с трудом воспринимается рядом с абсолютным символом гениальности – именем Моцарта. Скажем” лучше: неинтересной музыки.) Ибо Моцарт с его невиданной гениальностью должен был испытать потрясение, когда он играл для себя баховскую музыку. Тогда-то ему и показалось, что он может продолжать сочинять как баховский наследник. Но, увы!!! Роберт Шуман, познакомившись с музыкой Баха, сказал: “Все мы – пигмеи перед ним”. И, как это сейчас странно не прозвучит, выходит, что дети И. С. Баха были реально озабочены той же проблемой, которую высказал пушкинский Сальери. Получается, что и это высказывание Сальери – не просто злоба завистника, а интереснейшая и серьезная проблема. Вот сыновья Баха и сделали свое благое дело для человечества. Для того чтобы начать новую волну музыкального развития, необходимо было сделать вид, что папы как бы не существовало. Только в этом случае и появилась возможность пойти по другой дорожке, исследовать иные музыкальные пути. И только через несколько поколений, пройдя по прекрасным дорогам венских классиков, познав сказочные сады романтиков, мир узнал о Бахе, музыка которого обрушилась на человечество во всем своем величии. Но она уже не смогла ничему и никому помешать. И вот результат: через много лет после смерти И. С. Баха на концерте, в котором звучала музыка любимого сына Баха Иоганна Христиана, в числе прочих слушателей сидел крохотный мальчишка. Потрясенный музыкой до глубины души он звонким голосом закричал: “Вот именно так надо писать музыку!” Этим восторженным малышом был Вольфганг Амадеус Моцарт. Глава 8. Патриотическая Живя на Западе и читая много западных книг о музыке, киплю благородным возмущением от вопиющей несправедливости. Композиторов Могучей кучки, словно сговорившись, называют русскими националистами. Борюсь, как могу, но... один в поле не воин. Все силы русского музыкознаник должны восстать против подобного определения. (Меняю стиль от возмущения.) Ибо определение сие ими, коварными западниками, дано не из музыки композиторов-кучкистов исходя, а сугубо из их, наших музыкальных гениев, порой слишком запальчивых высказываний. Отрицали, видите ли, западное музыкальное образование в виде консерваторий, обзывали Рубинштейна то Тупинштейном, то Дубинштейном, а то и Нудинштейном. Было, не спорим. Мусоргский Чайковского даже “попкой” и “квашней” обзывал. Иногда помягче: “сахарином” или “патокой”. И все за музыку его прозападную. Да чего там говорить: Мусоргский с Балакиревым порой такое в переписке загибали, что и не все сегодняшние красно-коричневые осмелились бы. И немцы у них плохие, и французы (особливо их Дебюсси), да и братьям-славянам досталось (Сметана, скажем, по-ихнему толкованию “испростоквашил” музыку). А уж об евреях-то и говорить нечего – русскому человеку от евреев – прямые убытки. Вот так почитаешь все это да и впрямь поверишь, что порченные они, композиторы, матерые. Дескать, национализмом дюже загноились. Только ведь умные люди говорят, что артиста сугубо на сцене смотреть надо, по сцене и судить. А что артист этот делает опосля того, как Сто раз Гамлетом на сцене умер, Сто раз мир с головы на ноги переворачивал, да не перевернул; какой он, родименький, дома или там в гостинице, какой самогон хлещет, или кого в постель тащит, то вроде не дурного и не постороннего ума дело судить. Надоело ему, актеру, сто раз в год над Офелией плакать, вот и хочется ему в жизни и подругу повеселей, и друзей поприличней, чем Розенкранц с Гильденстерном. Чтоб не на смерть его в аглицкие земли возили, а на похмелку в соседний магазин. Сие в психологии называется компенсацией. Компенсация нужна актеру нашему, Гамлету разнесчастному. Вот так и композиторов-кучкистов русских определять надобно – не по тому, что они, сердешные, в письмах друг другу изливали (а не читай чужих писем, Запад, сами же рассуждаете о тайне переписки!), а по тому, что они в музыке насочиняли. А в музыке своей они даже на понюшку табаку не националисты. Как называется лучшее произведение “националиста” Балакирева? Да “Исламей”. Тьфу ты! И название какое-то нерусское, а музыка – даже страшно подумать – фантазия на восточные темы. Вот те и националист!!! А националист Кюи, вообще понаписал столько всего, а ничегошеньки в веках не осталось. Нет, вру, осталось – скрипачи очень любят играть его (чур, антисемиты, в обморок не падать!!!) “Еврейскую мелодию”. Вот, значит, и еще одного националиста нашли. А уж музыкантам, да и простым музыкальным любителям Запада, про Римского-Корсакова как русского националиста и вообще стыдно заикаться, ибо грешок у них, западных, есть – больно они его “Шахерезаду” любят. Как увидят в афишах стокгольмских или амстердамских про сказки арабско-корсаковские, так и кресла уютные у телевизоров голливудских своих бросают. Уж больно мелодии там, в этой коварной “Шахерезаде”, красивые да и гармонии не хуже: слушать – любота! И, вообще, ежели подумать, то получается: и наши композиторы, да и вроде как не наши вовсе. Какие-то и впрямь исламские или иудейские (прости, Господи!) музыкальные сочинители. Хотя так говорить тоже грешно – у Римского-то-Корсакова “Испанское каприччио” ну здорово звучит – самое что ни на есть испанское. А в его опере “Садко” (только, не ругайтесь: за правду-то грех ругать!) самые удачные и любимые широкими народными кругами три номера: Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя да Веденецкого (так на Руси называли когда-то итальянский город Венецию.) И ежели бы только на Западе любимые, то еще ладно – можно им диверсию приписать: выбирают, мол, специально. Так ведь на самой Руси-матушке любимые. Да и слава Богу, на дворе – не 1937 год: за космополитизм не расстреляют и в Соловки не сошлют. А когда народ просвещенный “Князя Игоря” Бородина слушает, то не только арией русского князя, но и чуждыми половецкими плясками заслушивается. И отдельно в концертах играют, как великую симфоническую музыку. А слушает народ-то как! Любо-дорого посмотреть! А балетмейстеры в театрах друг с другом сражаются – кто “восточнее” поставит! А костюмы-то какие шьют словно не в степи восточный народ танцует, а в гареме у нефтяного магната! Да ведь и Бородин-то наш до сих пор не своим именем зовется. Ему бы по отцу зваться (прошли те времена ненастные, когда боялись правду говорить), а не по крепостному Порфирию Бородину, к которому гений наш российский никакого отношения не имел, но на которого был записан при рождении. Ну, тогда по отцу-то нельзя было, потому что незаконный сын. Теперь можно! Давайте и назовем: Александр Лукич Гедиани – сын князя грузинского Луки Степановича Гедиани. А глаза-то какие миндалевидные у сына! И смотреть долго не надо – прям грузинская царская кровь! Так чего-же тогда, спрашивается, русские-то музыки сочинители-националисты так испаниями да италиями с индиями увлекались. А ежели оперы писали, то из давних времен. Или вообще сказки. Да потому, что не националисты они русские, а русские же романтики. А как ты есть романтик, то следуй всеобщему закону романтиков – беги от действительности, как Лист бежал, как Берлиоз, как Шуман, куда угодно беги: в прошлое, в сказку, в далекие экзотические страны. Лишь бы не в гоголевско-салтыковско-щедринско-достоевской России оставаться. И бежали, да еще как. Я нарочно Мусоргского не трогаю: ему, гению нашему сердешному, компании подходящей и на Руси нет. Потому он, как и Бах, – не барокко, а Космос; как и Шостакович – не неоклассик, а всемирный Борец со Злом. Вот и Мусоргский – не русский националист, не романтик, а – вне всяких стилей. Он вообще, горемыка наш гениальный, в спиртном-то и завяз, и умер с перепоев. (Но это цена, которую сверхгении платят за право не вписываться ни в какие рамки.) Он, Мусоргский, вообще, может, и понял, кто он. Но вот вслух признаться бы не смог; потому даже друзья его по “кучке” хоть талант “Мусорянина” и признавали, но чаще идиотом звали. И то: всю почти музыку будущего предвосхитил, ни Шостакович без него, ни Равель, ни Прокофьев, ни, опять же, Шниттке. ни “пятерка” французская. У французов этих из XX века он, Мусорянин наш, главным образцом был. А как не сказать о Равеле французском. Он так в Мусорянина влюбился, что музыкальный подвиг совершил – для оркестра все “Картинки” его переложил. А что он, Модест-горемыка, в своих письмах писал: “Мели Емеля – твоя неделя”. Его дело. Он письма эти не для печати иностранной писал, а для друга закадычного. И давайте, господа, не будем вмешиваться в частную, можно сказать, переписку. Потому как грех это великий. Глава 9. О драме моего детства (нелюбовь и примирение) Мне в детстве не повезло: я очень рано познал нелюбовь. Маму любил, папу любил, друзей любил. А невзлюбил лишь советскую власть. Уж как она навязывалась, как себя любить заставляла: и кнутом, и пряником. И влюбила-таки в себя многих-многих (а, может, притворялись?). Но мне не повезло – не удалось этой власти обрести мою взаимность. И виноват в этом Федор Михайлович Достоевский. А, может, не он. Может, сам я виноват: не по годам рано им увлекся. Читать его начал, когда мне было только 12 лет. Рано, конечно, теперь понимаю, но ничего уж не поделаешь. Прочитал я его, Достоевского, “Преступление и наказание” и... невзлюбил советскую власть. Все думали, что я перерасту эту нелюбовь свою (даже вкусы, а не только взгляды, меняются: в детстве в рот не могут взять маслины, а потом – не оторваться). Но я своей нелюбви не перерос. Слава Богу, дожил до того, что она, эта власть проклятая, сама себя изжила. Но какое же отношение “Преступление и наказание” имело к моей нелюбви и к этой власти? А вот какое. Прочитав роман два раза подряд, я пришел к убеждению, что вместе с еще 250 миллионами живу в одном из двух возможных государств Родиона Романовича Раскольникова. Это он ведь обосновал ту двуединую идеологию, которую можно (нужно!) назвать фашистско-коммунистической. Каким образом? А вот каким! Раскольников планирует убийство старухи-процентщицы, чтобы после убийства забрать у нее деньги и разделить их между бедными. Но поскольку Раскольников, как и Сальери, – не профессиональный убийца, а философ, то для совершения убийства ему нужно найти правовое или философское обоснование, которое позволит ему, во-первых, убить, а, во-вторых, оправдать убийство. Вот его рассуждение и оправдание: “...по моему разумению человечество делится на две категории – истинно люди и существа, необходимые лишь для размножения”. Так вот, согласно Раскольнико|ву, “истинно люди” для достижения высших целей имеют право преступить через кровь. То есть законы пишутся для “размноженцев”, коих большинство; подлинно люди не признают этих законов, ибо им дано познание законов “высших”. Чья это идеология? Конечно же, “сверхчеловеков” – на ней вся идеология фашизма держится, ибо эта идеология фашистских концлагерей, где “сверхчеловеки” распоряжаются судьбой “недочеловеков”. Если бы я, читая роман, перестал размышлять дальше, все, быть может, так и закончилось бы – лишний раз подтвержденной нелюбовью к фашизму. Но я продолжил дальнейшие размышления. Кто такая старуха-процентщица? Капиталист – владелец капитала. Что такое капитал, согласно Марксу? Стоимость, дающая прибавочную стоимость. Что совершает Раскольников, убив старуху? Революцию! Ликвидирует владельца, экспроприирует капитал... Знакомо? Конечно же, это путь ленинизма! Итак, идеология фашизма (в его крайней форме – гитлеризме) и коммунизма (в его крайней форме – ленинизме) произрастает из единого идеологического зерна, оба пути ведут к убийству, в обоих принципах мышления нарушена “только” одна-единственная заповедь: НЕУБИЙ! Все остальное – софистика.  Когда я это понял, трудно мне стало жить, признаваясь в любви (или хотя бы не признаваясь в ненависти) к системе, базирующейся на убийстве). Вспоминаю детство и краснею за некоторые эпизоды, когда вся моя нелюбовь к советской власти раскрывалась в общении с мамой и папой, ибо на кого еще можно было тогда обрушивать подобные идеологические выпады, не рискуя жизнью или хотя бы свободой. Каждый день, когда все собирались дома, я начинал свои антикоммунистические высказывания, смело приглашая моих любимых родителей к дискуссии. Моя бедная мама – убежденная коммунистка – сражалась со мной изо всех сил. Папа явно был на моей стороне, но он не хотел расстраивать маму, и цель у него была – успокоить обоих. И вот однажды пришла к нам в гости Ася Семеновна, очень близкий друг семьи. Настолько близкий, что мама не выдержала и пожаловалась ей на меня: “Не знаю, что с ним делать – несет сплошную антисоветчину – у меня уже сердце от этих разговоров болит”! Ася Семеновна увела меня в другую комнату и спросила, чем я недоволен. А недоволен я, как вы понимаете, был советской властью. Я обрадовался и, четко аргументируя, изложил по пунктам причины моей нелюбви. Я был логичен, последователен, мудр и слегка язвителен. Никогда не забуду, что ответила на все мои доводы Ася Семеновна. Она произнесла буквально следующее: “Ах, Мишенька, дорогой, советская власть-шмоветская власть – это все ерунда, мелочь, пустяк. Лишь бы мамочка была здорова”. Это прозвучало так неожиданно, так естественно и так верно, что я опешил и впервые не нашелся, что ответить. Права была Ася Семеновна! Мамино здоровье важнее советской власти. Да и антисоветизм ее высказывания был куда сильнее моего: он был спонтанный и мудрый. Советская власть-шмоветская власть, любая власть должна отступить перед здоровьем моей мамы. И это уже не абстрактный гуманизм, а конкретный. Так вот и мучился я, болтаясь между двумя формами гуманизма. Но было в моей жизни еще одно чувство, которое если и не примирило меня с советской властью, то отбросило мою ненависть к ней на задними план. (Хотя я никогда не прощу этой власти среди многого прочего тысячи и тысячи часов моей жизни, бездарно потраченных на конспектирование классиков марксизма, еще тысячи бесценных часов юности, отданных этим диким комсомольско-профсоюзным собраниям, нечеловечески глупым лекциям по истории КПСС, научному коммунизму, марксистско-ленинской философии, пожизненному для меня запрету выезжать в другие страны). А примирило меня с жизнью в этой стране чувство гордости за ее уникальные традиции культуры прошлого, за удивительных людей-представителей старой русской интеллигенции (ничего подобного в мире больше нет), часть которых я еще, слава Богу, успел встретить; за величайшие в мире традиции гуманитарного образования, которые моя страна развивала вплоть до страшного большевистского переворота. Примерно в то же время когда я читал Достоевского, мне попалась на глаза маленькая книжечка о традициях русской культуры. (Сейчас уже не помню, сколько и какие там авторы, у меня ее давно кто-то зачитал). Но ясно помню потрясшую меня до глубины души историю времен русской дореволюционной гимназии. История следующая. Это было в 1913 году. Одиннадцатилетняя девочка, пансионерка Московской Ржевской гимназии приставала к своему дядюшке с просьбой показать, что написано на медальоне, который тот всегда носил на груди. Дядюшка снял медальон и протянул девочке. Девочка открыла крышку, а там ничего не написано. Кроме пяти нотных линеек и четырех нот: соль-диез – си – фа-диез – ми. Девочка помедлила мгновенье, а затем весело закричала: Дядюшка, я знаю, что здесь написано. Ноты на медальоне означают: “Я люблю Вас”.  И вот здесь возникает вопрос. Вы представляете себе, КАК УЧИЛИ ЭТУ ДЕВОЧКУ, если она, увидав четыре ноты, пропела их про себя, а пропев, узнала начало ариозо Ленского из оперы Чайковского “Евгений Онегин”. И начинается это ариозо – признание восемнадцатилетнего дворянина, поэта Владимира Ленского шестнадцатилетней дворянке Ольге Лариной словами “Я люблю Вас” и четырьмя нотами, которые девочка и увидала на дядюшкином медальоне. Оказалось, что этот медальон – столь оригинальное признание в любви, когда-то полученный девочкиным дядюшкой в подарок от своей невесты перед их свадьбой. Но вы подумайте, ведь девочке только 11 лет! Каким же образом ее успели ТАК НАУЧИТЬ. И не в специальной музыкальной школе, и не в музыкальном колледже, а в нормальной русской гимназии, да еще в начальных классах. Вопрос “как учили эту девочку” я уже задал, теперь задам еще один вопрос, ответ на который выходит за рамки рассуждений только об уровне образования, а касается вопросов генофонда. КАК нужно научить мальчика, чтобы он когда-нибудь подошел к такой девочке, заговорил с ней, заинтересовал ее как достойный собеседник, как личность, а со временем завоевал ее сердце? Здесь уже никакими модными штанами и престижными кроссовками делу не поможешь. Обучив девочку на таком уровне, ей как бы сделали прививку от бездуховности, от того потока примитивного однообразия, которое я условно называю “дискотечностью”. К этой девочке лишь бы какой мальчик не подойдет. Но если даже подойдет, то вряд ли найдет взаимопонимание. Ведь если мудро смотреть вперед, можно предположить, что эти дети в будущем поженятся, у них будут свои дети. И они должны, естественно, воспитать этих детей на соответствующем духовном уровне. Таким образом, речь здесь идет об УРОВНЕ КОНТАКТА, уровне духовного, культурного соответствия. Мальчик обязательно должен быть духовным партнером этой девочки, находиться на уровне этой девочки, ее духовных запросов и приоритетов. Следовательно, обучая девочку искусству, музыке, поэзии, уже в младших классах русской гимназии воспитывая (или, лучше сказать, формируя) духовную потребность, думали о генофонде, об интеллектуальном обществе будущего. Но существовал ли в русском обществе того времени мальчик – достойный партнер нашей маленькой гимназистки? Конечно, да! Вы не задумывались, почему все офицеры царской армии учились играть на рояле? Так ли это необходимо для боевой подготовки? Для боевой, быть может, и нет, а вот для генофонда – конечно же, да!!! Вдумайтесь, что это за образ – офицер, играющий на рояле? Да это же символ мужской гармонии – сочетание офицерства и музыки. С одной стороны, офицер – защитник, воин, а с другой – тонкий интерпретатор музыки Чайковского и Шопена.  У вас, читатель, голова не кружится от моих необузданных фантазий? А ведь я ничего не придумываю – читайте побольше русскую литературу того времени. А поэтические диспуты с сочинением и чтением собственных стихов прямо в казарме не хотите? А знание трех-четырех иностранных языков? Ура! Мы нашли нашей девочке партнера! И речь здесь идет о достойном партнерстве, поверьте. Высокое качество гуманитарного образования в России, начиная с 20-х годов XIX века и до начала 20-х годов века XX, породило невероятную потребность в культуре и подготовило культурный взрыв, подобного которому, думаю, история человечества до сих пор еще не знала. И большая часть того, что в мире известно и ценимо в русской культуре – именно эти сто лет невиданного расцвета литературы, поэзии, музыки, изобразительного искусства. Люди, ставшие участниками этого невероятного, не имеющего аналогий в истории культуры духовного и творческого взрыва, своим поведением, глубиной мышления, человечностью обозначили уникальнейшую группу русских людей, которую мы с гордостью именовали: РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Об этом чисто русском явлении нужно писать огромные, серьезные исследования, необходимо изучать этот феномен. И действительно: как СТРАНА, не знавшая античной эпохи, не прошедшая через средневековые университеты, оставшаяся в стороне от эпохи Возрождения, еще недавно чуть ли не насильственно толкаемая Петром Великим к необходимости подражать Западной Европе, которая до 1861 года была, по сути, рабовладельческой, неожиданно создает такие шедевры культуры, порождает таких высочайше европейски развитых людей, создает всемирного уровня литературу, музыку, философию. Ведь Пушкин и Лермонтов, Тютчев и Фет, Лесков и Гоголь, Тургенев и Гончаров, Толстой и Достоевский, Мусоргский и Чайковский, Чехов и Левитан, Репин и Серов, Суриков и Врубель, Скрябин и Рахманинов, Кандинский и Шагал, Стравинский и Бенуа и многие-многие другие – величайший подарок от России всей цивилизации. Но время их существования и Творчества – всего одно столетие (!!!). Вы только подумайте, какой духовный толчок для всей цивилизации за каких-нибудь сто лет! Представить себе интеллектуальную мысль Планеты без этих русских ста лет невозможно, это была бы катастрофа планетарного масштаба! Именно поэтому удивительный немецкий мыслитель Рудольф Штейнер в начале XX века призывает всю интеллектуальную Европу к путешествию на Восток. Страшное гитлеровское Drang nach Osten (путь на Восток) – это всего-навсего нагло украденный и искаженный призыв Штейнера. У Штейнера же это был духовный клич, призыв к путешествию всех интеллектуальных сил в Россию для того, чтобы оживить духовно отживающую старую и дряхлую европейскую цивилизацию. А если всерьез заняться изучением того, в какой степени Русская культура XIX века повлияла на культуру всего мира, то нельзя не возгордиться всерьез. И в самом деле, во французской музыке XX века шесть крупнейших композиторов объединились в группу, которую они сами назвали “Шестерка”. И когда у них спрашивали, почему они объединились в группу, то ответ был прост. Образцом для них послужила русская группа, которую в России называют “Могучая кучка” (с легкой руки Стасова, который написал однажды: “Маленькая, но уже могучая кучка русских музыкантов”). Он, Стасов, имел в виду группу композиторов, в которую входили Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков и Кюи. Но “Могучей кучкой” их называли только в России. На Западе же они получили официальное название “Пятерка”. Теперь ясно откуда “Шестерка” во Франции? Но еще раньше – еще интереснее. Есть понятие “импрессионизм”. Оно существует как в изобразительном искусстве, так и в музыке. Но если в живописи предшественниками импрессионистов можно считать французских художников середины XIX века – Барбизонцев (Камилл Коро, Франсуа Милле и др.), то самое сильное влияние на французских композиторов – импрессионистов, безусловно, оказали не французские предшественники, а... русские. Ибо без оркестра Римского-Корсакова нет ни оркестра Дебюсси, ни тем более оркестра Равеля. “Картинки с выставки” Мусоргского были образцом для музыкального мышления Равеля. Достаточно услышать сделанную им оркестровку этого фортепианного произведения Мусоргского, чтобы оценить всю степень поклонения Равеля Мусоргскому. Русские композиторы повлияли почти на всех крупнейших композиторов XX века, будь то французы, итальянцы или даже американцы (кумиром классика американской музыки и родоначальника симфоджаза Джорджа Гершвина как известно, были Чайковский и Рахманинов). Для того чтобы рассказать о влиянии Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского на все развитие симфонии XX века, необходимо написать огромную книгу. Что касается влияния русской литературы XIX века на ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, то здесь не нужно ничего доказывать. Нужно только почитать интервью с крупнейшими писателями XX века для того, чтобы понять: русская литература XIX века – явление Всемирное. Например, в течение 50-80 годов XX века расцвел латиноамериканский роман. Именно в странах Латинской Америки появились писатели, перехватившие у Европы пальму первенства и открывшие новые пути в литературе. Достаточно назвать имена Кортасара, Маркеса, Борхеса и знаток литературы сразу поймет, какого МАСШТАБА литературу я имею в виду. “Сто лет одиночества”, “Осень патриарха”, “Выигрыши”, “Преследователь” – книги золотого фонда мировой литературы. Но когда журналисты спрашивают у великих латиноамериканцев, кто для них высочайший пример литературы, кто повлиял на их мышление, то те не сговариваясь называют Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова и, конечно, Н.Гоголя. Я осмелюсь сказать, что без Гоголя не было бы не только латиноамериканского романа! но и такого мистического гения XX века, как Франц Кафка. Не верите? Приведу лишь один пример. У Кафки есть рассказ под названием “Превращение”. Служащий Грегор Замза просыпается утром и обнаруживает, что он превратился в какое-то невероятное насекомое похожее на сороконожку. А далее начинается эксперимент высочайшего психологического масштаба. Писатель произвел этот эксперимент не для того, чтобы эпатировать читателя. Вовсе нет! Он сделал это с целью изучить реакцию посредственного, маленького человека, маленького чиновника на подобное превращение. Сколько возможностей открывается перед писателем! Сколько экспериментов можно поставить, изучая взаимоотношения Грегора Замзы с его родными, коллегами. Какой авангард! Какая новизна в литературе! На самом же деле “Превращение” Кафки – лишь еще один шаг или, лучше сказать, продолжение исследования, которое почти за век до него произвел... Николай Васильевич Гоголь. И не где-нибудь, а в одной из новелл цикла “Петербургские повести”. В повести “Нос”. Майор Ковалев просыпается утром в своей постели, а на лице его вместо носа совершенно гладкое место. И ТОЧКА! Чувствуете, какой модернистский эксперимент? А в чем его суть? Да в том же, в чем суть будущих экспериментов Достоевского и Кафки, Джойса и Пруста, Булгакова и Кортасара. (У последнего в рассказе “Аксолотль” одинокий человек занимается только тем, что изо дня в день часами наблюдает за рыбкой в аквариуме и незаметно сам превращается в эту рыбу, которая теперь ждет появления перед аквариумом одинокого человека. Человек, ставший рыбой, плавает в аквариуме, а рыба, превратившись в человека, наблюдает за ним.) И первым в ряду писателей, поставивших самый сюрреалистический эксперимент, был именно Гоголь. Ведь как же реагирует майор Ковалев на свою беду? А вот как: “Конечно, я... впрочем, я майор (выделение всюду мое. – М.К.). Мне без носа ходить как-то неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить... притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие...” Вот где сюрреалистическое безумие! Оказывается, без носа не получить ни чина, ни ордена. Без носа нельзя к статской советнице. (Гениальность Гоголя столь велика, что, я думаю, последующие столетия развития литературы поставят Гоголя на место, где сегодня такие титаны, как Шекспир, Данте и Гёте. Мне думается, литературный мир еще не полностью дорос до безмерной глубины этого космического гения.) Я хочу процитировать еще несколько строчек, которые уже подлинный язык самой современной литературы. А еще лучше сказать, литературы будущего. Строки эти – в окончании повести “Нос”: “Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление ею в разных местах в виде статского советника, – как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне, казалось, дорого заплатить за объявление; это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже – как нос очутился в печенном хлебе и как сам Иван Яковлевич?... нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это... А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где же не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают”. Почему я выделил эти строки Как образец величайшей литературы, да еще литературы будущего? Я сейчас задам вам, дорогие читатели, только один вопрос: И прежде чем читать далее, попробуйте на него ответить. Итак: кто все это произносит? Перечитайте, пожалуйста, если нужно, еще несколько раз, и не переворачивая страницы произнесите (лучше вслух). Произнесли? Теперь переверните страницу и давайте порассуждаем. Уверен, что большинство из вас произнесли следующее: Автор или Гоголь. А вот и нет! То есть и да и нет. ДА в том смысле, что и автор тоже кое-что говорит. Но только меньшую часть. Еще один вопрос: Как вы думаете, кто кроме Гоголя участвует в заключительном размышлении? И сколько их, этих участников? Задал вопрос и подумал, что на него и я вряд ли сразу смогу ответить. Во всяком случае на вопрос: сколько рассуждающих. А впрочем попробуем посчитать: “Вот ведь какая история случилась в северной столице нашего обширного государства!”... Может быть, это говорит Гоголь? Здесь, скорее всего, он и закончил свой рассказ? Хотя для Гоголя, да и в контексте всего рассказа, эта фраза звучит чересчур иронично. Словно написана в другом стиле. Уж больно не вяжется история о пропавшем носе с высоким стилем “северной столицы... обширного государства”. И все же это, безусловно, автор. Автор, то есть Гоголь? Нет, конечно. Автор, явно не Гоголь. Он тоже персонаж. Гоголевский персонаж, который совершенно серьезно рассказывает историю пропавшего носа. А где же Гоголь? Он, конечно же, спрятался, чтобы не выдать своего истеричного хохота. Иначе рассказ бы не получился. Ведь для рассказчика вся эта история весьма серьезна. Ибо он – один из них. Из гоголевских персонажей. Кто же произносит вторую фразу? “Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного”. Это тоже рассказчик? Да нет же. Это – один из слушателей. Ибо рассказчик знает всю историю от начала до конца и не считает, что в ней “много неправдоподобного”. Он рассказывает историю пропавшего носа как подлинное событие. Так кто же это? Ясно. Эта фраза принадлежит слушателю, который, дослушав историю до конца, утверждает, что в ней много (!!!) “неправдоподобного”. Это очень рассудительный слушатель, вдумчивый и интеллигентный. Он не хочет обидеть рассказчика мыслью о том, что в рассказе все полнейшая чепуха. А кто следующий? “He говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника...” А это кто? Похоже на точку зрения какого-то чиновника из департамента. Не того ли, где служил Ковалев? А может быть, и из “другого ведомства”. “Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию подавать о носе”. Это, скорей всего, газетный экспедитор. И тут же, боясь, что его уличат в корысти, добавляет: “Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей”. Следующий голос безо всякой аргументации и рассуждений дает оценку поведению Ковалева: “Но неприлично, неловко, нехорошо.” Звучит довольно-таки либерально. А вот, вполне возможно, слово полицмейстера, занимающегося личным делом арестованного цирюльника Ивана Яковлевича: “И опять тоже – как нос очутился в печенном хлебе и как сам Иван Яковлевич?... нет, этого я не понимаю, решительно не понимаю”. Но все эти высказывания – мелочь, ничто по сравнению с дальнейшим. Ибо дальше разговор продолжается на ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ и становится совсем уже небезопасным для рассказчика. Попахивает Сибирью. Вначале еще не так страшно – всего лишь обсуждение в цензурном комитете: “Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты”. И вдруг дальше слышится мне высший державный голос: “Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы”. Уж не сам ли это царь-батюшка? Нет-нет-нет! Просто, у страха глаза велики. Наверное, это просто какой-нибудь министр или тайный советник. (А может, все-таки царь? Два раза про пользу отечеству в одном предложении.) Итак, сколько же мы насчитали? Пять, семь, восемь? “Да нет же, – скажет читатель. – Все эти подсчеты надуманы”. И будет абсолютно прав. Ибо количество участников финала – неисчислимо. Это модель гоголевской России, ее уродливых институтов. Эта модель породила Ковалева и всех участников этого дикого сна (Нос-Сон). А если я буду рассуждать на психологическом уровне, то перед нами – литература “потока сознания” – интереснейшего литературного явления, которое появится через сто лет после Гоголя. (Пруст, Джойс, Саррот и др.). То есть перед нами – один-единственный говорящий медиум, который на подсознательном уровне преображаясь в различных героев вскрывает пороки России гоголевской эпохи. Но самое невероятное впереди: После того как мы забрались на высший уровень обсуждения, появляется справившийся с истеричным смехом Гоголь, и, подделываясь под речь своих героев, (ну точно Акакий Акакиевич Башмачкин из “Шинели”) вытаскивает из русского языка такое, что... А впрочем перечитайте сами: “А, однако же, при всем при том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей?... А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то”. И как доказательство того, что я прав, говоря о многих участниках дискуссии – последняя фраза: “КТО ЧТО НИ ГОВОРИ, а подобные происшествия бывают на свете, редко, но бывают”. Вот какой уровень литературы. И есть ли уровень выше? Есть!!! И знаете у кого? У... Гоголя же. В его удивительной “Шинели”. Вы, наверное, испугались, что я буду пересказывать и рассуждать о “Шинели”? Нет. Ведь больше чем написано об этом произведении Гоголя уже трудно себе представить. И то, на что я хочу обратить ваше внимание – лишь несколько деталей, которые свидетельствуют о сверхгениальности Гоголя. “Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка”. Возникает вопрос: почему “покойница матушка”, а не роженица? Да наверное, все просто: к тому времени, когда нам рассказывают эту историю, прошло много лет, и матушка Акакия Акакиевича уже }1мерла. В русском языке допускается такой оборот, не часто, но допускается. Например,“покойница говорила”. Хотя в этом случае, когда женщина рожает, вряд ли стоит называть ее покойницей. Правда, чудачества Гоголя всем известны. Но вот далее: “Родительнице предоставили на выбор любое из трех (имен. – М.К.) какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. “Нет, – подумала покойница (выделение всюду мое. – М.К.), – имена-то все такие”. Ну не бред ли? Речь опять идет о покойнице, да которая еще к тому же и “подумала”! Смиримся по той же причине, ибо ко времени рассказа матушка мертва, а Гоголь – чудак. Читаем дальше: “Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте: вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. “Вот это наказанье, – проговорила старуха”. Что-о-о? Где старуха? Какая старуха? Она же только что родила ребенка? Может описка у Гоголя? Читаем дальше: “Еще переворотили страницу – вышли: Павенкахий и Вахтисий. “Ну уж я вижу, – сказала старуха, – что видно его такая судьба. Уж, если так, пусть лучше будет называться как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий”. Совсем с ума сошел Гоголь! Мало того что у новорожденного мать “старуха” и “покойница”, так и еще отец у него был. От кого же родился ребенок, и у кого родился ребенок? (Акакий Акакиевич). Это ли не театр абсурда? Он самый. Но и не только абсурда, но еще и символизма. Потому что объяснение двум покойникам есть. Нужно только внимательнее прочитать дальше. Акакий Акакиевич уже работает чиновником для письма в департаменте: “Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видимо, так и родился на свет совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове”. Вот он, гоголевский абсурдизм, переходящий в символизм. Акакий Акакиевич родился “в вицмундире и с лысиной на голове”. Он родился как персонаж. И когда он родился, отца уже давно не было, а мать была старухой. И персонаж этот – ключ ко всем будущим героям Достоевского, к театру абсурда, к латиноамериканскому роману, к экзистенциализму, к роману “потока сознания”. Мы немного поговорили об одном писателе, представляющем русскую литературу. Но вы хорошо знаете сколько великих писателей дала Планете наша русская культура. Она оказала воздействие на всю последующую музыку, театр, литературу, отношение к искусству. Она научила мир воспринимать искусство не как милое времяпровождение, но как грандиозную силу самосознания, как космичность и одновременно как величайшую пластику. Вот почему моя ненависть к советской власти в сочетании с моим преклонением перед русской культурой завязали очень сложный узел моего отношения к моей Родине. Глава 10. Поэзия: клятва и заклятие Поэзия, я буду клясться Перед вами начало стихотворения Бориса Пастернака. Эти пять строк – огромное и очень глубокое исследование о том, что такое поэзия. Вместо пяти поэтических строк можно было бы написать прозу, эссе, но тогда это займет несколько страниц. Правда, сколько бы мы ни работали, нам никогда до конца не выразить того, что вмещено в эти строки. Но попробуем, хоть немного. Первая страница была бы о клятве как таковой. “Клятва”, “заклятие”, “проклятье” – это однокоренные слова. “Пусть я буду проклят, если нарушу клятву”. Клятва – это очень серьезный шаг в жизни любого. Это когда цена – жизнь. Клятва – это заклинание для всех и для самого себя. Клятва – это когда жертвуют своими личными интересами и своей жизнью. Вторая страница была бы о клятве Поэта. Пастернак пишет, что он клянется поэзией. В подлинном смысле это значит, что поэзия – состояние между жизнью и смертью, предначертанность служению. Гений не имеет возможности выбора. Быть поэтом – обреченность, как говорят в некоторых религиях, – карма. Гейне сказал: “Если мир раскалывается надвое, то трещина пройдет через сердце поэта”. В этом нет преувеличения. Поэт – это не умелые рифмы: в мире есть шедевры верлибра (белого стиха – без рифм). Поэт – это не гений ямба или хорея: можно писать стихи свободного ритма. Третья страница была бы о Слове. Поэт – это человек обреченный словом. Слово – это нектар. Слово – это живая вода. Слово – это яд, оружие, воздух, музыка. Слово может взорваться и убить, Слово может ранить, оно может окрылить и возвеличить. Только тот, кто это понял, может написать так: Поэзия, я буду клясться Тобой И КОНЧУ, ПРОХРИПЕВ. Почему в окончании клятвы хрип? Потому что клятва – это иступленность, потому что связки не выдерживают напряжения, сдают, перестают подчиняться говорящему, они, как и все тело, после клятвы уже принадлежат не клявшемуся, но делу, во имя которого – клятва. Каковы же последние слова клятвы, произнесенные прохрипев: “Ты не осанка сладкогласца”. Четвертая страница – о мужестве поэта. Поэзия не дает осязаемых благ, положения, привилегий, и, что еще важнее, она не допускает позы (“осанки”), гордыни. И главное: поэзия не даст удобств, легкости проживания, богатства; поэтому дальше, На пятой странице – о времени и месте поэзии. Ты – лето с местом в третьем классе. Вот сильнейший образ для всех, кто хоть раз ехал летом в поезде в вагоне третьего класса, да еще в тяжелейшие двадцатые годы. Вместо сорока человек – двести – все, кому нужно ехать, дышать нечем, повернуться невозможно, плачущие дети; запах пота, мочи, портянок; проветрить нельзя: окна наглухо закрыты. Вот что такое поэзия, а не, как кажется некоторым, мягкий вагон с диванами, зеркалами и кондиционерами. И последнее сравнение: “Поэзия... То есть тебя не поют хором,– тобою задыхаются как в пригородном поезде. Вот я и предложил вам краткий конспект возможной статьи на пяти страницах вместо пяти поэтических строчек. Но как бы умело я ни написал статью, достаточно еще и еще раз перечитать начальные строки стихотворения Пастернака; и станет ясно во сколько световых лет расстояние между статьей и этими поэтическими строками. Попытки определить поэзию делались и делаются неоднократно от толстовского “поэзия – это выламывание языка” до мандельштамовского “орудийность и метаморфозность”. Признавая мандельштамовскую линию определения поэзии, я хочу предложить свой вариант. Поэзия – это эзотерическая форма существования мысли, где слово, переходя из речи в иное измерение, становится знаковым, многозначным и, чаще всего теряя свои привычные смысловые значения, обретает иные логические позиции. Пример: Один человек любил так сильно, что разлука с любимой даже на два-три дня казалась ему вечностью. Перед нами красивый и образный фрагмент речи. В этом фрагменте есть некоторая доля банальности, это трюизм, то есть затасканный от бесконечного употребления образ. (Гейне как-то сказал, что первый, кто сравнил женщину с цветком, был великий поэт, а тот, кто сделал это вторым, был великий болван.) И все же мы можем назвать этот фрагмент речи поэтичным, поскольку здесь присутствует метафора: два дня как вечность. Поэтичным, но не поэзией, ибо еще не перейдена та грань, которая разрушает привычную логику и понятийность. Здесь нет того, что Осип Мандельштам называет “орудийностью поэзии”. Скажем, два дня и вечность логически сопоставимы, так как и то и другое обозначает время. Вот как об этом сказано в поэзии: “Кто смеет молвить до свиданья Видите, что произошло? Разрушена земная логика, ибо на нашей Планете время и пространство в доэйнштейновском понимании – разные субстанции. Один из глубочайших русских поэтов (и не только русских) Федор Иванович Тютчев писал эти строки за сто лет до открытия Эйнштейном специальной и общей теории относительности. Но Тютчев был не просто поэтом, а еще и безумно влюбленным поэтом, и поэтому перепутал пространство и время. “Бездны двух или трех дней” существовать не может. Во всяком случае в нашем мире, который послушен геометрии Эвклида с его трехмерным пространством. Если вы не верите, что понятие “бездна времени” в русском языке появилось именно после этих строк Тютчева, то попробуйте перевести это словосочетание на любой другой цивилизованный язык. А затем употребите его в разговоре с любым иностранцем. Не забудьте только сразу предупредить иностранца о том, что вы пошутили, иначе вас сочтут не совсем ментально здоровым человеком. В русском же языке все будет в порядке, ибо эта фраза после Тютчева стала у нас идиомой. Но давайте подумаем, почему поэт так написал? Потому что уйти от любимой даже на два-три дня – это значит потерять опору, лишиться баланса, то есть провалиться в бездну. Отсюда еще одно невероятное слово: “смеет молвить”, то есть у поэта, который провалится в бездну, нет права “молвить до свиданья”, ибо свидание после падения бездну в земном значении абсолютно невозможно. Здесь есть и еще один важный оттенок: поэт настолько любит, что каждое расставание таит в себе Страх невстречи. А невстреча равносильна падению в бездну. А двойственность этой невероятной фразы “кто смеет”? Одно из значений – это: кто из нас, попавших в бездну, смеет… Второе же – жестче: кто смеет, вообще, молвить что-либо. Вот сколько всего таится только в двух строчках подлинной поэзии! ...Теперь перечтите эти две строки несколько раз и почувствуйте... Глава 11. “Что случится на моем веку” Гул затих. Я вышел на подмостки. Перед нами очень короткое стихотворение Бориса Пастернака – всего 16 строк. Мы попытаемся войти в него и почувствовать, какая бездна информации, мыслей, состояний, чувств скрыто в этих строках. Ребенок: “Я хочу быть артистом!” Родители: “Обязательно будешь!” Вопрос: “Почему большинство детей хотят быть артистами?” Ответ: “Потому что они маленькие и глупые”. Вопрос: “А почему родители их поддерживают?” Ответ: (первый вариант): “Родители не в состоянии объяснить детям, что артист – это человек, который пожертвовал своей жизнью”. Ответ: (второй вариант): “Потому что родители большие и глупые”. Прошу простить эту грубоватую шутку в конце, но, как говорят в народе: “В каждой шутке есть доля шутки”. Поэтому попробуем выяснить, почему быть артистом – это жертва, и о чем не знает мечтающий быть артистом малыш, и о чем не догадываются его родители. Актер, играющий роль Гамлета, стоит за сценой и ждет, пока затихнет гул зала. В течение трех часов сценического времени Гамлету предстоит в одиночку сражаться со Вселенской несправедливостью, а по окончании этих трех часов – умереть. Каждый раз, выходя на сцену, Актер знает, что Гамлет умрет. Гамлет этого не знает. Актер должен сражаться за жизнь Гамлета, за то, чтобы восстановить справедливости и скрыть от Гамлета внутри себя знание о его будущей смерти. Более того: каждый раз Актер должен верить, что Он и Гамлет внутри него восстановят справедливость и выживут. Актер и Гамлет становятся по сути одним лицом. Актер-Гамлет стоит за кулисами и ждет пока затихнет гул в зале. Гамлет-Актер выходит на сцену. Гамлет для того, чтобы вступить в борьбу и победить, а Актер для того, чтобы проиграть борьбу Гамлета и умереть. Гул затих. “Гул затих” – значит, наступило время Актеру-Гамлету сделать свой первый шаг на пути к смерти. “Гул затих” – звучит как приговор, как выстрел. Я вышел на подмостки. Кто он, этот “Я”? Кто вышел на подмостки? Стихотворение называется “Гамлет”. Значит, Гамлет вышел навстречу Смерти. Но ведь Гамлет вышел после затихшего в театральном зале гула, да еще вышел на подмостки (сцены). Значит, это Актер. Теперь перенесем акцент: Я вышел на подмостки. Я вышел – здесь это очень трагично (все-таки вышел!). Не пытался избежать, отказаться от этой страшной участи. Был гул в зале, зрители рассаживались по местам, разговаривали, шелестели программками, обсуждали, кто сегодня играет (умирает) Гамлета, кто играет (умирает) Офелию. Гул затих, значит время осмелиться выйти. ВЫШЕЛ!!! И что же будет делать? Говорить, танцевать, петь? Нет! Я ловлю в далеком отголоске Гениальный поворот стиха!!! Вышел и мгновенно попал в Вечность. Вы только подумайте, кто ловит в “далеком отголоске”? Актер? В этом случае для него “далекий отголосок” – время Гамлета. Ибо актер – наш современник. И он ловит в истории Гамлета аналогии со своим (то есть нашим) веком. А что же это за “далекий отголосок” для Гамлета? И здесь мы прикасаемся к великой силе выразительности поэзии вообще и поэта Бориса Пастернака в частности: На меня наставлен сумрак ночи Здесь, как это часто происходит в поэзии Пастернака, мы мгновенно попадаем в такое измерение, где театральные бинокли соизмеримы со звездами. С театральной точки зрения речь идет об известном каждому актеру эффекте: когда смотришь в зал со сцены – не видно ничего. Но зрители, глядящие на освещенную сцену через бинокли, видят каждую морщинку на лице актера. Они увидят вблизи гримасу Смерти, они будут обстоятельно наблюдать в бинокли трехчасовой путь Гамлета к Смерти. Но здесь есть и другой образ: Сцена – это наша Планета, а “тысяча биноклей на оси” – звезды – иные миры, наблюдающие за нашим миром, в котором происходит невероятная трагедия. Кто же в этом случае на сцене? Гамлет? Да! Актер? Конечно! Но и не только. Прочтите внимательно третью и четвертую строчки этого катрена, и перед вами появится образ Того, Кто в стихе именуется “далеким отголоском”. Того, кто однажды очень давно перед “наставленным сумраком ночи” уже просил своего Отца “пронести эту чашу мимо”. Вот он и появился, третий участник трагедии – Иисус Христос. Эпизод Нового завета, где Иисус из “сумрака ночи” Гефсиманского сада обращается к своему Отцу с неожиданной просьбой отменить все ужасы: мучения, предательство Петра, унижение, боль, бичевание, распятие. То есть отменить все, что ему предстоит. Это эпизод невероятной силы. Мне кажется, что по выразительности, по человечности, по трагичности вряд ли есть в мировой литературе эпизод глубже, сильнее, пронзительнее чем этот. Давайте разберемся почему. Вся идея христианства зиждется на жертве, на искуплении Сыном Божьим грехов человечества. Все к этому шло, все было логично и продумано до деталей. Дева Мария рождает Сына Божьего, то есть Богочеловека. Того, Кто обладает божественным знанием, но одновременно и человеческой нервной системой. Как Сын Божий, Иисус бессмертен, но как человек – смертен и даже испытывает страх смерти (“душа моя скорбит смертельно”). Этот страх смерти, который испытывает человек-Иисус чувствуется во многих евангельских эпизодах. Иисус начинает нервничать по мере приближения предательства и Смерти. Кульминация этого страха в эпизоде “моления о чаше”. Вчитайтесь внимательно в то, о чем говорит Иисус – “И отошед немного, пал на лицо Свое, молился и говорил – Да ведь это же ужасно! Представьте себе, что молитва сына обожгла бы сердце самого милосердного в мире Отца, и сказал бы Он: Да что же это я делаю?! Обрекаю на страшную смерть родного сына?! Все отменяю! Иди ко мне, родной! Не будет распятия, крови, боли – ничего этого не будет!!! Но ЧЕГО ЕЩЕ не будет? Представьте себе мысль Христа: если отец сжалится и жертва не состоится – значит, не будет Баха и Достоевского, Рембрандта и Гёте, фресок Микеланджело и Грегорианского хорала не станет Руанского собора и собора в Севилье не будет икон Рублева и храма Покрова на Нерли и... Не станет того грандиозного защитного фона над Планетой, который будучи вдохновлен христианством спасает нас от обвинений в тотальной бездуховности и бессмысленности нашего существования. Поэтому дальше Иисус говорит: “впрочем не как я хочу, но как ты”. Вот это и есть вторая половина фразы в “молении о чаше”. В Евангелии от Матфея между обращением сына к отцу о спасении и его отменой нет никаких пауз – только точка с запятой, но по сути между этими двумя половинками – пауза размером с цивилизацию. Итак: “Если только можно, Авва Отче, Но к кому обращается с подобной же просьбой Гамлет? Конечно же, к своему отцу и литературному создателю Шекспиру. Так вот о каком “далеком отголоске” говорит Гамлет! Правда, дальше идут иные|чем в Евангелии, слова, хотя я уверен, что Иисус подписался бы под каждым из них. Гамлет говорит отцу: “Я люблю твой замысел упрямый И дальше: “Но сейчас идет другая драма Что за нелепость!!! Что за неподходящее слово: уволь!!! Ни Христос, ни Гамлет не могли произнести подобного слова, ибо оно – из другого измерения, его может использовать человек из иного времени. Правильно! Он-то и появился – наш четвертый герой. Кто же он? Сам автор стихотворения – Борис Леонидович Пастернак из XX века, из коммунистической страны, где, как во времена Христа и как во времена Гамлета: “...продуман распорядок действий Христос был предан распятию, Гамлет был предан смерти, и Поэт говорит о себе: “Я один, все тонет в фарисействе. Он, Пастернак, тоже предан. Предан системой, друзьями, поклонниками, коллегами. Он изгнан из Союза писателей, ему боятся звонить, его шумно и публично осуждают его вчерашние друзья. И все из-за романа “Доктор Живаго” – одного из крупнейших романов XX века, который он написал в своей стране. Советская цензура запретила печатать роман, книга была предана анафеме. И Пастернак дал согласие напечатать его за границей, что в то время было равносильно самоубийству. Пастернака не сгноили в ГУЛАГе, не расстреляли, но практически уничтожили более изысканным способом – полным бойкотом, психологической травлей, лишением творческого статуса, непризнанием его как творческой личности. Итак, стихотворение Пастернака “Гамлет”, состоящее из шестнадцати строк, охватывает две тысячи лет развития человечества. В нем шесть участников: Актер, Гамлет, Христос, Пастернак, Шекспир и Бог-Отец. “Я один, все тонет в фарисействе”, – так может сказать каждый из них. Но они – Творцы, они сражаются со злом и идут на колоссальные жертвы во имя спасения Человечества. Вот что такое быть актером! Вот что значит быть человеком искусства! Об этом Борис Пастернак говорит еще прямее в своем стихотворении “О знал бы я, что так бывает”. Это – одно из глубочайших стихотворений о смысле культуры, о подлинности культуры, о жертвенности ее великих творцов. В нем человек искусства и, в частности, актер сравнивается с Гладиатором. Хотя слова “ГЛАДИАТОР” нет в стихе, оно подразумевается. Для подлинного актера искусство – не игра, как не игра бой гладиатора. Здесь у Пастернака старая истинность и вечность искусства начинается в Колизее. “Но старость – это Рим, который Может быть, никто еще в русской поэзии не сказал столь жестко и четко о сути искусства. Вот о чем я думаю, когда слышу о ребенке, мечтающем стать актером. Глава 12. “Но кто мы и откуда” Мы приходим в сей мир гениальными. Я в этом убежден. Посмотрите в глаза новорожденного – в них отражается Вселенная. Если бы новорожденный мог говорить, то мы получили бы ответы почти на все вопросы, на которые не можем ответить сами. В глазах новорожденного – отсвет происхождения. Но этот контакт нам не дан – приходится ждать, пока ребенок заговорит. И вот наконец! Но увы, ребенок учится земной речи через подражание, и шансов услышать ответ на главные вопросы бытия у нас уже нет. Пожалуй, самое сложное интеллектуальное действие на Земле – это разговор с трехлетним. Мы обязаны признаться, что чаще всего делать этого не умеем, ибо не обладаем достаточной глубиной мышления. Нам не хватает парадоксальности во взглядах. Нам не хватает самостоятельности, непредсказуемости. Ибо мы – “излеченные”. Нас удалось вылечить от гениальности. По-настоящему говорить с трехлетним может только взрослый гений, то есть тот, кого не удалось вылечить. Каждое рождение – это божественный шанс, но этот шанс удается осуществить в лучшем случае один раз на миллион. Ибо система не нуждается в гениях, она запустила механизм подавления гениальности. Вместо гения формируется то, что я называю “средний разумный тип”. То есть социальная особь, мыслящая стереотипно и полезно. Что означали в тоталитарной коммунистической системе этой точки зрения фразы: “Родился еще один советский человек” или “каждый советский человек”, или “все советские люди как один”? Да всего лишь то, что всякий человек, рожденный на этой земле, заносился в регистр, в котором априори существовали ответы на все вопросы, где человек немедленно и безоговорочно внедрялся в социум – ему при рождении указывался образ мысли, стиль поведения. Это – вариант грубого проявления механизма подавления личности, есть и более изощренные. Так, на Западе люди часто называются “Налогоплательщиками”, не только с финансовой, но и с других точек зрения. Скажем: “налогоплательщики недовольны качеством программ третьего канала телевидения”. И в этом – подсознательное, но весьма явное указание места индивидуума в обществе. Но рождается не советский человек, не налогоплательщик. Рождается новый Бах, Моцарт, Шекспир, Данте, которые старательно переделываются в налогоплательщиков, зомбируются в советских, лишаясь неповторимости и уникальности. Шанс упущен: Трехлетняя Эвелина, как всякий исследователь, вырвала у своей большой куклы руку и ногу, а также бесповоротно изучила ее глазное дно. Получив новую большую куклу, малышка радостно воскликнула: “Какая она... неполоманная!” Это – поэзия! Данечка – малыш трех с половиной лет, смотрел видеокассету, где снят его папа в таком же возрасте. На вопрос, где был сам Данечка, когда его папа был таким маленьким, малыш, ни на секунду не задумываясь, ответил: “На другой… кассете”. Это – философия. Этот же малыш очень удивлен некоторыми “странностями” языка. Почему, например, “купаться”, но не “плаваться”, “укрыться” одеялом, но не “уснуться”. Или почему майонез во все месяцы года называется “МАЙонез”, а автозаправка, даже если на машине нужно поворачивать налево, все равно называется “заправка”, а не “залевка”. Это – лингвистика. СказкаЖили-были дед и баба... И была у них Курочка Ряба... Все мамы рассказывают своим детям сказку про “Курочку Рябу”. Но ведь “Курочка Ряба” – не сказка, а ошибочно принятая за нее мудрая философская притча. Если с этим не согласиться, то смысл “Курочки” как сказки выглядит, по крайней мере, нелепо. И вправду, однажды в жизни свершилось чудо: курочка снесла не простое, а золотое яичко, то есть создала произведение искусства – слиток золота яйцеобразной формы, совершенной обработки (ну представьте себе, скажем, яйцо Фаберже!). А глупые дед и баба этого не поняли, не оценили и стали вести себя с золотым яйцом, как всю жизнь вели себя с простыми: стали бить, чтобы использовать в кулинарных целях.  Затем следует эпизод с мышкой, которая, махнув хвостиком, сделала то, чего не удалось сделать ни деду, ни бабе. Яичко упало и разбилось. Нелепость ситуации только подчеркивает тот факт, что весь эпизод с мышкой – лишь тест, проверка деда и бабы на реакцию. Разбилось, что будут делать теперь? Плакать!!! Но почему “плачет дед и плачет баба”? Может быть, они поняли, что свершилась трагедия – погибло творение искусства? Вовсе нет. Плачут потому, что они остались без яичницы!!! И вот тогда курочка произносит мораль притчи: “Не плачь, дед; не плачь, баба! Я снесу вам новое яичко – не золотое, а простое”. То есть вы получите то, что ожидаете, то, что заслуживаете. “Курочка Ряба” –это велика притча О ШАНСЕ. О том, что жизнь предоставляет нам возможность иного пути, иного измерения, но мы – зашорены, зомбированы, способны жить без чудес, без глубинного зрения и слуха. Не случайно именно маленькая девочка неполных семи лет, рано научившаяся читать и писать, сочинила письмо к Курочке Рябе. Я не помню его дословно, но мысль письма такова: “Дорогая Курочка Ряба! Очень прошу тебя – снеси мне золотое яичко. Я не буду его бить, я поставлю его на мою полочку и буду всем-всем показывать. Все станут любоваться и говорить: “Какая молодец, Курочка Ряба, какое прекрасное яичко она снесла!” Вот где конгениальность восприятия! Только у маленькой девочки художник оценен по достоинству. Глава 13. Об одном трагическом заблуждении Об этом я задумался по-настоящему, когда попал в Швецию. С одной стороны, благополучнейшая страна, высокий уровень жизни, у всех есть жилье, никто не голодает, достаточно чисто на улицах (если бы я писал это лет десять назад, то сказал бы просто “чисто”, без наречия “достаточно”, но в последние годы улицы Стокгольма стали несколько ближе к азиатско-африканским). Но в общем и целом – благополучная страна. И все же у меня постоянно рождалось ощущение, что чего-то не хватает. Как красивая и аппетитная на вид пища, которую всего лишь забыли посолить. Вначале я думал, что это мое личное ощущение, но, поговорив с другими приезжими соотечественниками, понял, что не я один ощущаю эту странность. Можно было сослаться на недостаток андреналина, который у советских людей выделялся постоянно в связи с необходимостью бороться за элементарное право жить в квартире, иметь телефон, не бояться говорить то, что думаешь, есть то, что хочешь. Шутка ли, андреналин выделялся даже в связи с покупкой туалетной бумаги. Помните? Гордые люди, обвешанные этой бумагой и, глядящие с высоты на несчастных, которые, пользуясь бумагой газетной, почти наверняка обрекали себя, по меньшей мере, на неприятные ощущения. А счастье достать книгу, за которой гонялся много лет! Опять андреналин. В Швеции же жить с этой точки зрения просто невозможно, ибо есть все, что хочется купить, и есть ДЕНЬГИ, на которые это можно купить. Не нужно стоять в очереди за билетами, достаточно позвонить и на следующий день получить эти билеты прямо в почтовый ящик. Причем независимо от того, билеты ли это в соседний город или в Австралию. Писать о сервисе, об удобствах, о легкости приготовления пищи (при желании ничего не стоит приготовить обед из трех блюд за считаные минуты) можно бесконечно. Но вот вопрос. Если действительно решить вопросы быта, питания, уничтожить даже сами проблемы, связанные с элементарным выживанием (причем независимо от того, работает человек или нет), многое ли изменится принципиально? То есть будет ли человек счастлив, использует ли он освободившееся время для духовного самосовершенствования, для познания глубин культуры, искусства, музыки, поэзии, литературы? Появится ли тот человек из великих утопий всех времен – венец планетарного творенья, для которого примат духовного над материальный станет основой основ, целью существования? Нет, нет и нет! Проблема туалетной бумаги остается, но выворачивается иной, не менее непристойной, стороной, и даже становится куда более многосложной, отнимающей у человека по сути не меньше времени, чем советская проблема ее доставания. Нужно сделать все возможное, чтобы ухитриться купить бумагу дешевле ведь, она может стоить от одной до десяти крон за упаковку.  Но вот беда! Бумага подешевле может оказаться не столь плотно свернутой в рулон, тогда выгоднее покупать бумагу чуть дороже, но более плотно свернутую, и будет больше бумаги за те же деньги. Но здесь возникает еще одна проблема. За те же деньги в разных магазинах можно купить бумагу разного качества, более или менее жесткую, следовательно, предпочитаем магазин, в котором продают менее жесткую. Но теперь надо узнать, нет ли такой бумаги за еще меньшие деньги, то есть нет ли в каком-нибудь магазине специального приглашения купить сразу двадцать рулонов подобной бумаги, но по оптовой цене. Есть такое приглашение! Вы мчите туда, на другой конец города, но по пути отвечаете на звонок вашего сотового телефона и в разговоре узнаете, что в каком-то магазине те же двадцать рулонов бумаги вы можете получить бесплатно. Но при условии, что купите других товаров на сумму не менее пятисот крон, и поскольку вам все равно предстоит покупать эти товары раньше или позже, то вы принимаете решение: изменить маршрут, купить товары и за это получить бесплатную бумагу. Вы мчитесь в этот магазин, но, приехав и посчитав, убеждаетесь, что остальные товары в этом магазине дороже, чем в вашем, и вы не выиграете, а даже проиграете на “бесплатной” бумаге. К тому же эти двадцать рулонов жестче, чем те, за которыми вы гнали. Но теперь вы отъехали так далеко от приглашавшего вас магазина, что, если поедете туда снова, то стоимость бензина будет уже намного превышать ту сумму денег, которую вы выиграете на дешевой бумаге. Вы попадаете в сложнейшую ситуацию, из которой очень трудно выпутаться. Вы досадуете, у вас может развиться депрессия. День безнадежно пропал. То, что я описал здесь, – гротескная модель поведения в утопии. Можно не поверить в реальность подобного поведения, если бы не одна совсем не смешная деталь: если повезет, можно сэкономить на покупке бумаги всего один доллар, а на следующий день столько же – на приобретении хлеба, то за год наберется больше трехсот сэкономленных долларов. А именно столько стоит поездка на остров Крит с двухнедельным проживанием в гостинице, включая самолет туда и обратно. Мы не будем здесь рассуждать: бумага ли слишком дорога или Крит слишком дешев, но в свете вышеизложенного проблема поиска бумаги и хлеба подешевле выглядит не столь уж комичной или нелепой. Естественно, речь здесь не идет о крупных бизнесменах или других, чей уровень доходов резко возвышаются над средним по стране уровнем. Речь идет о среднем шведе, или, как его называют здесь, “средний Свенссон”. А если все же удастся сэкономить время и купить бумагу сразу или (что еще лучше) материальное положение позволяет не искать бумагу подешевле? Чем займется человек у которого свой дом в двести квадратных метров, приличная машина, работа, гарантирующая безбедную жизнь, а в будущем – пенсию, которая вполне обеспечит беззаботную старость? Да ведь у этого счастливчика есть телевизор с десятками! а то и сотнями, каналов. У телевизора и проведет свое свободное время наш герой.  А теперь – антитезис. Мы очень много говорили и продолжаем говорить о великой русской культуре. И все это – правда. Но не вся правда. С одной стороны, действительно, Чайковский и Достоевский, Гоголь и Чехов, Пушкин и Пастернак, Мусоргский и Рахманинов, Шагал и Малевич, Булгаков, Лесков, Римский-Корсаков, Шостакович и т. д. Но с другой стороны, как эти великие, так и их потребители – всего лишь невероятно тонкий слой культуры. Как ни страшно это звучит, но речь может идти, скажем, не больше, чем о двух или трех процентах россиян, потребляющих подлинную культуру. Остальные девяносто семь (увы и ах!) – это поклонники попсы, всякого рода подделок, причем часто настолько низкопробных, что трудно поверить в то, что это можно воспринимать всерьез. Таким образом, если говорить о культуре в глубину, то два-три процента у нас – люди именно подлинной культуры. Но. как только мы затронем культуру в более массовом аспекте, то окажемся на одном из последних мест в мире. Причем чем дальше от Москвы, тем меньше культуры. В этом случае Западная культура куда более демократична и не центробежна. Два примера: 1998 год. Крохотный шведский городок Коппарберг с населением в пять тысяч человек. То, о чем я буду писать дальше, для русских, которые никуда не выезжали и с подобным не сталкивались, покажется сюрреализмом. Концерт местного симфонического оркестра и хоровой капеллы (!!!) В программе – Фортепианный концерт Моцарта ля-мажор и месса Шуберта. На сцене – сто тридцать человек, в зале – около пятисот. Если вычесть из общего числа населения города количество грудных детей, детей постарше, а также тех, кто вынужден остаться с детьми дома (ибо концерт вечерний), то можно примерно сказать, что каждый пятый житель города играл в оркестре, пел в хоре или находился среди слушателей в зале. Я сидел в зале, слушал и завидовал (как черной, так и белой завистью). Еще один эпизод. Один из моих первых концертов в Швеции. Мы едем все дальше и дальше от Стокгольма. Горы, долины, кое-где отдельные дома, редкие огоньки. Тихо, красиво и... пустынно. Приезжаем к месту концерта. Это большой старинный дом. Здесь на втором этаже и состоится концерт квартета. Вокруг – никаких населенных пунктов ни даже отдельных домов. С удивлением спрашиваю альтиста: “Откуда возьмется публика?” Насколько я заметил, последние двадцать километров пути было совсем пустынно вокруг. Но у альтиста другая забота – он опасается, что не хватит стульев. За полчаса до концерта еще никого нет... И вдруг, откуда ни возьмись, машины, масса машин! Фермеры, их жены, их дети. Полный зал. Стульев действительно не хватило. Но часть молодежи согласилась вытащить скамейки из сауны и усесться на них. В программе концерта был один из поздних бетховенских квартетов и Второй квартет Бородина. После концерта подходит ко мне старый-старый фермер, плачет и говорит о том, что он собирался уже умирать, так и не услыхав свой любимый квартет Бородина в живом звучании. И вот какое счастье привалило. А я подумал, доживу ли я до того, чтобы в моей стране поговорить с фермером о Втором квартете Бородина. И совсем уж расстроил меня неожиданно всплывший в памяти иной эпизод. Год 1982. Белорусский государственный академический симфонический оркестр приехал для проведения бесплатного симфонического концерта в район Белоруссии, где рядом друг с другом находятся два, по западным меркам, огромных города – Полоцк и Новополоцк. Вместе это примерно двести пятьдесят тысяч населения. Дело было в субботу вечером. Как вы думаете, сколько человек пришло в зал? Один!!! А сколько пришло бы в белорусском городке с пятью тысячами населения? Жаль, что здесь нельзя пользоваться отрицательными величинами. А ведь такое тоже есть в моей памяти (конечно, не отрицательная величина, но чисто эмоционально близко к этому). Помню три огромных автобуса с музыкантами на площади совсем маленького городка. Во все окна домов, окружающих площадь, выглядывали удивленные жители, поражаясь сотне странных музыкантов, проехавших по жутким дорогам сотни километров, чтобы полтора часа простоять на пыльной площади. Затем уехать назад, за те же далекие сотни километров. Так и не выступив. Ибо ни один человек не вышел из дома. Но смотрели в окна. Потому что ни разу не видели столько музыкантов сразу перед своими домами. 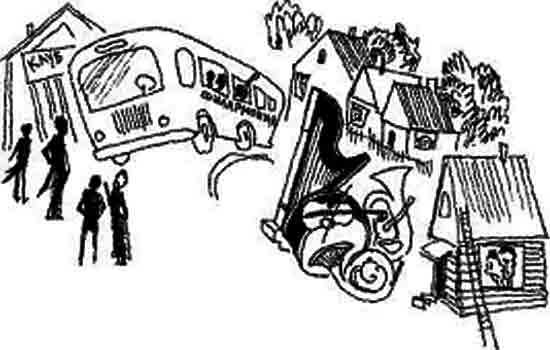 И здесь можно говорить уже об отрицательных величинах (ибо смотрели в окна). Многолетний ГУЛАГ сделал свое дело. Уничтожены целые поколения тех, кто пришел бы на подобные концерты и привел подготовленных для восприятия детей. Теперь вы понимаете, почему я иззавидовался, сидя концерте в крохотном шведском городке, равном по количеству жителей большой русской или белорусской деревне. Итак, рассказанное может, казалось бы, поставить точки над “i”, безоговорочно отдав культурный приоритет Западу. Нo вернемся к началу главы, где речь идет о недоумении приезжающих из нашей страны по поводу отсутствия чего-то очень важного. Чего же недостает? Отсутствует отношение к культуре как к чему-то большему чем развлечение. Главная формула Западного мира: “Культура – это аспект свободного времени, фактор досуга”. Культура становится своего рода пирожным к чаю или в лучшем случае обоями на стенах квартиры. Но чем же я все-таки недоволен? Полными залами на концертах классической музыки даже в самой глухой провинции? Наличием в Швеции школьных симфонических оркестров, в то время как в мою бытность в России их часто не существовало в больших городах с миллионным населением? Наверное, это мое странное недовольство можно понять, попытавшись порассуждать на тему: Что же это такое – культура?” Глава 14. Но что же это такое – культура? Но ведь должно быть совершенно ясно, что есть в нашей жизни несколько сфер, которые не имеют ничего общего со временем. Скажем, вера в Бога. Ну подумайте сами, можно ли верить в Бога после работы?! Если человек верит в Бога, то это вопрос не времени, а состояния. Тогда все, что бы человек ни делал, освящено этой верой. Человек работает и верит, отдыхает и верит, даже в обыденной речи такого человека ощущается его вера. Или любовь. Как вам понравилась бы в русском языке следующая фраза: “Я люблю ее в свободное время”? Только как фраза комедийная в лучшем случае. А в худшем случае фраза звучит как пошлость, ибо слово “люблю” в данном контексте заменяет понятие “заниматься любовью”. Ведь любовь – в основном значении этого понятия – явление вневременное, ибо, что бы любящий не делал, он – любит. Потому что любовь, как и вера, – категории не времени, а состояния. То же – культура. Но для того чтобы говорить о культуре, необходимо попытаться дать этому понятию определение. А это – самое сложное. Существует несколько сот (если не тысяч) определений понятия культуры. Хорошо это или плохо? “Плохо”, – скажет ученый. Ибо, чему нельзя дать точное определение, то есть ввести в понятийные рамки, не является объектом для научного рассуждения. “Хорошо”, – скажет человек искусства. Это значит, что культура сродни религии и, как нельзя дать определение Бога, так нельзя определить культуру какой бы то ни было формулой. И все же нам придется если не определить понятие культуры, то хотя бы ограничить рамки этого понятия. Мы исключим из него бытовую культуру. Если этого не сделать, то понятие “культура” в духовном смысле станет донельзя расплывчатым. К тому же мы заблудимся окончательно. Скажем, был ли Бетховен культурным человеком? В бытовом смысле – не очень. Расплескивал воду, когда мылся по утрам, мог принимать гостей в засаленном домашнем халате, был часто несдержан в общении. Но с точки зрения духовной культуры он, Бетховен, стоит на небывалой высоте, ибо написанная им музыка является высочайшим достижением духовной культуры человечества. Мы исключим из культуры понятие “массовая культура”, ибо она-то как раз – явление досуга и ставит своей целью развлечь на досуге, отвлечь массы от монотонного труда, перевести от конвейера производственного к конвейеру, скажем, музыкальному. Массовая культура не требует яркой индивидуальности воспринимающей личности, она, напротив, стремится нивелировать личность, ввести его в массу, в толпу, лишить индивидуума неповторимости. Не активность личности – цель массовой культуры, а, напротив, поглощение личности социумом. Личность, полностью и безальтернативно поглощенная массовой культурой, – личность легко манипулируемая, управляемая. Таким образом, можно сказать, что массовая культура – не только не часть культуры большой, но и ее антипод. Массовая культура – это абсолютная правота толпы. И здесь не могу не процитировать гениального Бердяева: “Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния сознания, что в мнении и воле большинства увидели источник и критерий правды и истины” Вот и выясняется: проще сказать, что НЕ культура, чем сформулировать культуру.
Мне очень нравится это определение культуры, данное одним из самых великих мыслителей на нашей Планете. И это, конечно же, никак не научное, но истинно поэтическое определение. Хотя я не прав. Оно – глубоко философское, а значит, все же научное. Но философия очень часто ближе к поэзии, чем к науке. Значит, все же поэтическое. Мне настолько нравится ницшеанское определение культуры, что именно оно вдохновило Шестую главу этой книги. Удивительно перекликается, но одновременно противостоит мысли Ницше идея русского философа князя Трубецкого: “Горит только то, что тленно. Противостоять всеобщему пожару и разрушению может только то, что стоит на незыблемой и вечной духовной основе”. И это – тоже о культуре. У меня есть собственное определение культуры, но оно уже совсем не научное. Это, скорее, пожелание. “Культура – это когда смерть Ромео и Джульетты волнует больше, чем храпящий за стенкой сосед”. Как я уже сказал, оно совсем не научное. И конечно, совсем уже не поэтическое. Но мне кажется, что-то в этом есть. Ибо наша жизнь существует в двух измерениях. Там, где преобладает бытовое измерение, нет предназначения, ибо оно – лишь набор более или менее приемлемых способов выживания, и все формы переживаний, стрессов и расстройств существуют на уровне обыденного сознания. (В моем определении храпящий за стенкой сосед – безусловное основание для переживаний.) Второе же измерение, на мой взгляд, есть подлинно человеческое, так как цель человека – победить ужас знания о смерти своей бессмертной сущностью. (Как Ромео и Джульетта, смерть которых не существует в духовном понимании, ибо их любовь пребывает вне времени.) Для тех, кто глубоко общается с великой музыкой, она – энергия, объединяющая нас с энергией Вселенной, наш подлинный язык. Поскольку он, язык этот, не связан с выживанием нас как земных тел, то он дает нам ощущение совершенных и бессмертных структур Вечности. Те, кто общается с поэзией на глубинном уровне, обретают иной уровень сознания и речи, где образы, формально взятые из бытовой речи, преображаются в символы, приближающие нас к языку вневременному. Приведу несколько примеров. Сравните две фразы: “Я скоро умру” и пушкинскую “Я скоро ВЕСЬ умру” (выделение мое. – М.К.) Разница между первой и второй фразой грандиозна. Первая – констатация факта, земная печаль по поводу предчувствия смерти. Пушкинское же ВЕСЬ в сочетании со словом УМРУ рождает сложнейшую ассоциативную связь. Во-первых, в этом ВЕСЬ УМРУ мысль о том, что в поэте что-то уже умерло раньше, что он проходит через много смертей. Во-вторых, мистическое ощущение бездонности и многосоставности. Я, которое – ВЕСЬ. В-третьих, поэту приходит в голову страшная мысль, что, возможно, смерть – это окончательно, и ничего другого ТАМ не будет. То есть смерть ВСЕГО – это смерть и души и тела. В-четвертых, Пушкин осознает, что он ВЕСЬ – это так много, бесконечно много, и с ним умрут ненаписанные стихи, невероятные мысли, безмерные чувства. В-пятых, скоро Пушкин напишет еще одно стихотворение, где он полемизирует с самим собой: “Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Но в этом четверостишии, ставшем хрестоматийным, есть один подвох, о котором, разумеется, не упоминает ни одна хрестоматия. Пушкин утверждает, что он не умрет ВЕСЬ только до тех пор, пока на земле существует хоть один поэт. И не лишь бы какой поэт, а именно “пиит”. Пушкин не случайно использует здесь архаическую форму слова “поэт”. Здесь опять тонкость. Не просто поэт должен остаться жить “в подлунном мире”, но поэт-хранитель, охранитель или, выражаясь языком Пастернака, “вечности заложник”. Еще один пример: Роман Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” внешне выглядит как детектив, ведь речь в нем идет об убийстве человека и о расследовании этого убийства. На самом же деле перед нами – одно из величественных творений человеческого Духа. Поскольку в первых же главах нам называют имя убийцы, традиционный жанр детектива отменяется. Ибо смысл подлинного детектива – держать нас в неведении о том, КТО УБИЛ, до самого конца произведения и этим подогревать наше чисто человеческое любопытство. Сообщив же имя убийцы в самом начале книги, Достоевский резко уменьшил количество читателей своего “детектива”. Вопрос же в романе Достоевского не “КТО УБИЛ?”, а “ПОЧЕМУ?”. Только после прочтения романа глубокий читатель поймет, что роман сей не об убийстве человека, но о принципах, путях и возможностях уничтожения ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. И что роман написан не о прошлом убийстве, но об убийстве будущего. Что эта книга не о том, как плохо быть убийцей, но о самоубийственной философии планетарного масштаба, о возможных путях Цивилизации. На самом деле перед нами не роман даже, а продолжение Священного Писания на новом этапе существования человечества. Предупреждение о возможных страшных завихрениях и последствиях перехода человечества из Гармонии в Хаос. Столь равнодушное отношение автора к интригующему сюжету в подлинном произведении литературы – не редкость. Вернемся к шекспировской трагедии “Ромео и Джульетта”, где Шекспир в первых же строках рассказывает о двух юных героях, которые полюбят друг друга и погибнут. Остается только позавидовать уровню посетителей шекспировского театра “Глобус” времен самого Шекспира, если великий англичанин не боялся уже в первых строчках пересказать все содержание пьесы. Значит, в шекспировские времена, в отличие от нынешних голливудских, зрители следили не столько за сюжетом (кто убъет, кто выживет и кто не выживет и т. д.), сколько за самим процессом развития трагедии. И прежде всего развития мысли. Для чего я поднял здесь вопросы о Достоевском и Пушкине, Шекспире и Ницше, князе Трубецком и Бетховене? Моя задача – показать: все, о чем мы говорили в этой главе, – стремление развенчать отношение к культуре как заполнению свободного времени, фактору досуга. На самом деле культура – определяющий вектор нашей жизни, показатель подлинных ценностей человеческого существования. Образно говоря, чтение тысяч и тысяч детективов – это фактор досуга. Чтение же романа Достоевского “Преступление и наказание” – это попытка познать смысл жизни. Пребывание на дискотеке – это заполнение свободного времени. Слушание же музыки Баха – общение с Вечностью, с Вселенной, которая ни много ни мало – наша Колыбель. А познание смысла жизни или общение со своими космическими корнями уж никак не может быть сведено к понятию свободного времени, ибо это ни что иное, как: ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, ВРЕМЯ НАПРЯЖЕННОЙ ДУХОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА. Отсюда трагедия любых, даже самых благополучных с точки зрения жизненного уровня, стран, превративших культуру в досуг, уничтоживших ее (культуры) космичность, ее глобальность и этим низведших человека в ранг налогоплательщика, потребителя товаров и услуг, строго ограниченных во времени и пространстве. В нашей же стране в отношении к великой культуре есть одна особенность: те, кто находятся в ее поле действия, воспринимают культуру как величайшую идею, у нас по-прежнему можно встретить людей, ради которых Штейнер призывал к пути на Восток. Правда, количество таких людей катастрофически уменьшается по причинам, которые мы затронем в следующей части книги. И если не остановить этот процесс, то России останется думать лишь о великом прошлом культуры. Со временем память обрастет легендами, мифологизируется. И миру останется только миф. Или мифы. Такие же, как после античных цивилизаций. Но конечно же, не случайно в античных гимназиях в числе всего только четырех предметов квадривиума были музыка и математика. И это уже не миф, ибо речь тогда впервые пошла о гармонически развитой личности. И не случайно остальные два – геометрия и риторика. О том, почему на заре цивилизации, да и во многих последующих социумах именно эти четыре предмета стали обязательными, нужно писать отдельную и очень серьезную книгу. Но даже сегодня, когда количество предметов необычайно велико стоит задуматься о необходимости вспомнить об опыте великих цивилизаций прошлого, и немедленно обратить внимание на эти четыре предмета. Я же посвящаю этому вопросу одну главу. Называется она: Глава 15. Величайший философ всех времен Кто же? Думаете, Сократ? Или Платон? Быть может, Аристотель или Спиноза? Кант? Гегель? О-о-о, как они велики! Каждый из них – целая Вселенная, полная мыслей-звезд. Но после знакомства с философией Николая Кузанского именно ему безоговорочно отдаю предпочтение перед всеми мыслителями всех времен. Ибо его концепция мироздания – не только самая современная, но выглядит еще и концепцией мышления человечества будущего. Его книги вызывают у меня ассоциации с музыкой Баха. Та же глубина и та же устремленность на много тысячелетий вперед, к человеку Нового Ренессанса. То есть к человеку, у которого научное и творческое мышление находятся на равных уровнях. Основная идея мышления Кузанского (1401–1461) в том, что Вселенная познается одновременно строжайшей математической логикой и мистическим незнанием. Даже само название его главной книги “О разумном незнании” (иногда переводится “Об ученом незнании”) уже воспринимается как поэзия. Кузанец (это его латинское имя) был теологом (одним из влиятельнейших епископов Римской католической церкви), математиком, философом и, безусловно, человеком искусства Возрождения. Все сферы его деятельности очень хорошо ощущаются, когда читаешь его книгу. Он искал: Вечность (как художник), Бога (как теолог) и Абсолютный Максимум (как математик). И все эти три понятия для него, по сути, одно и то же. Как невероятно, скажем, звучит его идея об АБСОЛЮТНОМ МАКСИМУМЕ. Представьте себе рассуждение подобного рода: Во Вселенной нет такого числа, которое нельзя было бы увеличить (1+1,10+1,100+1,1000+1, 1000000000000000000000000+1). Как бы велико оно ни было – его ВСЕГДА можно увеличить. Но как добиться Абсолютного Максимума, то есть, Вечности? И что же это такое – Вечность? И можно ли математически описать Вечность И вот здесь начинаются чудеса! “Для того чтобы это сделать, – говорит Николай Кузанский, – необходимо совершить КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК, то есть абстрактно оторваться от максимального числа, в частности, и области чисел вообще, и попасть в такое (опять же абстрактное) измерение, где ни прибавление, ни вычитание не способны что-либо изменить. Ибо Вечность плюс один или минус один, умноженная на два или деленная на два, пребудет Вечностью”. Таким образом, через абстракцию мы добрались до Абсолютного Максимума. Но он же (о, чудо мышления!) – одновременно и Абсолютный Минимум!!! Понимаете почему? Да ведь у него все качества Минимума. Ибо Вечность, деленная на два, будет Вечностью. Если половину Вечности разделить на два – будет все равно Вечность. Вечность, деленная бесконечное количество раз пребудет Вечностью! Таким образом, Вечность (или Абсолютный Максимум) не делится и не умножается. Так же как и Абсолютный Минимум. (Ведь если минимум можно уменьшить, то это уже не минимум.) И в конце концов теоретически мы можем оказаться в минимальном из возможных миров, который является одновременно макро– и микромиром. От Абсолютного Максимума, как и Минимума, нельзя ничего отнять, к ним нельзя ничего прибавить. То есть чисто теоретически это сделать можно, но ни Максимум, ни Минимум от этого не изменятся. Итак, перед нами – идея Бога. И одновременно современнейшая идея о макрокосме и микрокосме. И это полностью соответствует идее черных дыр и сингулярности – самых невероятных постэйнштейновских открытий нашего времени. Но я прошу вас вернуться к тому моменту, где заканчивается земная логика и включается абстракция. Что же это за расстояние между самым великим числом, которое всегда можно увеличить на единицу, и Абсолютным Максимумом? Что заполняет его? Кузанец называет пространство между нашим исчислимым миром и Вечностью – ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО, а переход из ограниченного мира в мир без границ – КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК. На мой взгляд, здесь гениальный математик и философ вплотную подошел к тому явлению, которое мы называем искусством. То есть я бы осмелился сформулировать это так: Великое искусство – это вечное стремление Человечества заполнить пространство между любым возможным на Земле конкретным и управляемым числом и совершенно неуправляемым Абсолютным Максимумом. Человечество в своих духовных, полученных из Вселенских источников, отправлениях всегда стремится постичь тайну этого пространства, ибо раскрытие тайны равносильно обретению Бессмертия. Кузанский пишет о том, что Бог и есть Абсолютный Максимум. Мы же на нашей Планете обладаем лишь такими величинами, которые можно преобразовывать. Таким образом, искусство – это вечное стремление выйти за пределы исчислимого пространства, приблизиться к истине. Этим же занимается наука, но она ограничена необходимостью прибавлять, отнимать, делить и умножать. Поэтому (почти) всякое научное открытие – лишь очередная ступень на лестнице познания. Искусство же – всегда у цели, и мы не можем утверждать, что баховские фуги, написанные триста лет назад – ступень к симфониям Шостаковича. Ибо фуги эти столь же глубоки и сложны для восприятия сегодня, как и тогда. И в свою очередь, музыка Шостаковича – не сложнее (но и не проще) музыки Баха. И романы Достоевского не сложнее и не глубже, чем трагедии Шекспира, невзирая на огромную разницу во времени, в которое жили и творили Шекспир и Достоевский. И купол собора Святого Петра в Риме не примитивнее, чем здание оперного театра в Сиднее, несмотря на то, что их создателей разделяет полтысячи лет. Значит, именно в искусстве мы находимся в том измерении, когда плюс или минус не изменяют, не упрощают, не увеличивают, не уменьшают и не усложняют, и где Время не сопутствует диалектическому движению от простого к сложному. Итак, искусство – это не путь от простого к сложному, а единственное в нашем во всем остальном ограниченном мире, что не подвержено общей логике движения, развития, усложнения. Итак, пространство между сколь угодно большим числом и Абсолютным Максимумом заполняется искусством. Искусство, которое вечно находится вне земной логики развития и отражает многие аспекты земного бытия с позиций Вечности. Искусство, где вообще перестает действовать земная (бытовая) логика. Искусство как единственная сфера, приближающая нас к Бессмертию, к тайнам нашего Божественного (Космического) происхождения. Кстати, здесь же можно понять, почему в иудаизме существует запрет на имя Бога. По-русски, скажем, иудеи написали бы так: “Б – Г” И вот эта черточка между Б и Г – есть пространство между сколь угодно большим числом и Абсолютным Максимумом. Ведь когда мы пишем “Бог”, то этим берем на себя смелость утверждать, что именно так выглядит Бог на письме, что этими буквами и звуками мы обозначаем конкретное понятие. Можно понять и ответить на вопрос, почему в исламе существует запрет на изображение Бога. (И более того, запрет на изображение человека, ибо человек есть Образ Божий). То, что Николай Кузанский – не только великий математик и философ, но и гениальный поэт, можно осознать, внимательно читая его книгу “Об ученом незнании”. Но прежде чем продолжить разговор на эту тему, я хотел бы на мгновение отвлечься – и процитировать замечательное Стихотворение в прозе одного современного поэта: “ДВИЖЕНИЕ ЛЮБОВНОЙ СВЯЗИ УВЛЕКАЕТ ВСЕ ВЕЩИ К ЕДИНСТВУ, ЧТОБЫ ОБРАЗОВАТЬ ИЗ НИХ ВСЕХ ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ ВСЕЛЕННУЮ”. А теперь читайте дальше, но очень, очень внимательно: Это – не произведение современного поэта. Это – один из постулатов книги кардинала Римско-католической церкви Николая Кузанского, написанной им в 1440 году. И если продолжить чтение его книги, то по мере углубления в нее начинаешь понимать, что и сам Бог для Кузанского – не просто творец-строитель, а ХУДОЖНИК в самом ренессансном смысле этого понятия. Тринадцатая глава второй книги “Об ученом незнании” называется так: “Изумительное искусство Бога в творении мира и его элементов”. А вот фрагмент из этой главы: “Бог пользовался при сотворении мира арифметикой, геометрией, музыкой и астрономией, всеми искусствами (выделение всюду мое. – М.К.), которые мы также применяем, когда исследуем соотношение вещей, элементов и движений. При помощи арифметики Бог сделал из мира одно целое. При помощи геометрии Он образовал вещи так, что они стали иметь форму, устойчивость и подвижность в зависимости от своих условий. При помощи музыки Он придал вещам такие пропорции, чтобы в земле было столько земли, сколько воды в воде, сколько воздуха в воздухе и огня в огне”. Разве мысль великого философа не звучит здесь как поэзия? И здесь мне становится совершенно ясно, что заполняет пространство качественного скачка Николая Кузанского между земным, объяснимым и неизъяснимым, Божественным. Искусство!!! И когда я читаю эту книгу Кузанского, то отчетливо слышу фуги Себастьяна Баха, вижу перед собой расписанный Микеланджело потолок Сикстинской капеллы в Ватикане, передо мной высветляются грандиозные структуры “Божественной комедии” Данте, во мне звучит поэзия Пушкина и Пастернака. Я хочу только еще раз отчетливо повторить эту мысль. Расстояние между бесконечными числами и неисчислимостью Кузанский подает сперва как ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО. Преодолеть это пространство можно только тем, что Кузанский называет КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК. То есть пространство пусто не потому, что там ничего нет, а потому лишь, что оно неведомо нам, неисчислимо, необъяснимо с нашей земной точки зрения. “Пустое пространство” – это образ, рожденный не только математиком, но и поэтом. Когда же Кузанский говорит о божественных орудиях сотворения мира, то называет таковых три, и в их числе – музыку. Это значит (следите внимательно за мыслью!), что Бог заполнял то, что Кузанский называет “пустое пространство” музыкой. Итак, что же получается? Если смотреть на переходное пространство из нашего исчислимого мира вверх, то пространство действительно пустое. Но если смотреть из Абсолютного Максимума, то есть сверху вниз, то оно заполнено музыкой. 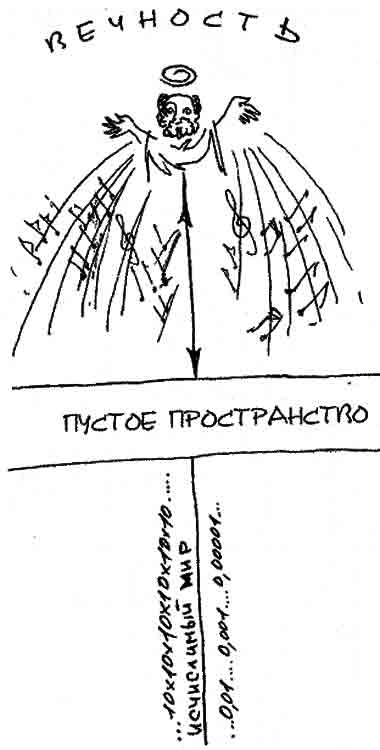 Ибо божественная музыка (или, как ее часто называют, “Музыка сфер”), согласно философу есть – строительный материал, соединяющий неисчислимое (Бесконечность, Бога, Вселенную, Макрокосм – называйте как хотите, в соответствии с убеждениями, верой, кругом представлений) с тем где появляется возможность вычислений (конечно, жизнь человека, планета или песочница, молекула или океан). И вот здесь-то можно попытаться понять: 1) место искусства на Земле. Или, по крайней мере, хоть как-то ответить на вопросы: 2) что такое искусство; 3) зачем искусство на Планете, и даже подумать о том; Глава 16. Что может случиться с человечеством, если оно придет к убеждению о ненужности искусства и замене Духа “еще более развитым” компьютером Когда мы смотрим фильмы, созданные каких-то тридцать лет назад, у нас возникает чувство, что над нами просто смеются. Настолько несовременными выглядят поступки, ситуации, даже сами движения героев. Когда мы изучаем закон Архимеда (гласящий, что “на тело, погруженное в жидкость действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу жидкости, вытесненной телом”), то нам всего лишь 12-13 лет. Это вполне зрелый возраст для понимания закона, который в свое время был величайшим открытием человеческой цивилизации. Когда мы изучаем историю средневекового Рима, то нам очень трудно понять, зачем люди без конца воевали, зачем так много разбойников на улицах Рима, почему невозможно было выйти на улицу в темное время суток. Зачем варвары разрушали Рим, вместо того чтобы им любоваться. Нам кажется совершенно невероятным, когда мы читаем, как в эпоху Возрождения Римский Папа Лев X бегал с палкой за Микеланджело и угрожал побить последнего, если тот не закончит Сикстинскую капеллу в указанные самим Папой сроки. Невозможно без улыбки читать, как Иоганн Себастьян Бах оправдывался перед городским начальством и нижайше просил прощения за то, что он позволил себе назвать дурным словом фаготиста из церковного оркестра. Невозможно без удивления читать письма Бетховена, в которых он без конца пишет о единственном предмете, который его волнует – о деньгах. Все это – какая-то суета, фантасмагория, клоунада. Но посмотрите фильм Ингемара Бергмана “Земляничные поляны”, пройдите по улицам и площадям “Вечного города”, послушайте Мессу си-минор Баха, Большую мессу Бетховена, войдите в Сикстинскую капеллу. Да какие там папы с палками, какие фаготисты, какие деньги, какие варвары! Словно не этот Бах, словно иной Микельанжелло, другой Бетховен! Какие там “дубли номер 15” и “мотор”? Где теперь все эти воевавшие, драчливые, сварливые люди? Перед нами раскрывается иная картина мира. Кто же они, эти странные гении в искусстве? Почему этим бахам, бетховеным, рембрандтам, моцартам, шопенам так сложно живется в этом мире? Читая Кузанского, можно понять, почему это так. Дело в том, что гениальным творцам приходится жить одновременно в двух мирах: исчислимом и неисчислимом. Первый, ограниченный мир установил вполне конкретные законы, придерживаясь которых, можно и нужно жить. В этом мире существуют все основные математические величины, все сиюминутные нормы, необходимость продавать свой труд тому, кто взамен обеспечит более или менее приличные условия для существования физического тела Творящего. В этом мире есть масса условностей, правил общежития, правил выживания. Второй мир, то есть, то пространство, которое не поддается логическому осмыслению, это – мир, объединяющий великую энергию Космоса с энергией тех, кому дано получать всеобщую космическую информацию, и транспортировать ее в условия Земли. Между миром, ограниченным во всех направлениях, и миром, где нет верха и низа, очень нелегко поддерживать контакт бесконфликтно. Цель гениев – черпать энергию неизмеримого, безграничного мира и поддерживать ею энергию мира ограниченного. Земному телу невероятно трудно сосуществовать в этих двух измерениях. Отсюда – столь частые нервные истощения, отсутствие привычной земной логики в рассуждениях гениев. Отсюда их одиночество, неумение устроить свою жизнь в соответствии с повсеместно принятыми нормами исчислимого мира. Но если спросить у Гения, хочет ли он поменять свою беспокойную жизнь на жизнь обычного человека, то сколько бы Гений ни жаловался, он скажет, однако, твердое “НЕТ!!!” Ибо во-первых, он не сможет жить по-другому, а, во-вторых, Гений подсознательно чувствует, что в этом мире ему дано задание и для него открыты иные измерения. Борис Пастернак, прекрасно ощущая место художника в мире, написал: “Не спи, не спи, художник, Человек искусства продолжит заниматься своим делом чего бы это ему ни стоило, ибо без искусства, без связи с неизмеримым миром, с его энергетикой погибнет ограниченный мир, задохнется в своем сиюминутном практицизме. В какой-то степени искусство, как, впрочем, и религия – противоядие против мира, где техника старается заменить собой человека. В сегодняшнем виртуальном мире появляется как никогда страшная опасность потерять Человека. Пользуясь компьютером и телевидением, человека можно зомбировать в каждом доме, его можно купить и продать так, что человек этого даже не заметит. Он и не заметит, что давно перестал принадлежать самому себе. Сегодня, когда можно увидеть по телевизору одновременное уничтожение тысяч людей, а затем переключить программу и понаблюдать веселое шоу, становится страшно за человека. Если смерть многих тысяч можно заменить, переключить за долю секунды на комедию, то: что же тогда – мучения Родиона Романовича Раскольникова по поводу совершенного им убийства “никчемной старушонки”? Что такое – борьба Моцарта со смертью после нашего знания о коммунистических и фашистских лагерях? Как оценивать человеческую жизнь после жуткого Беслана? Чего стоит эта жизнь? Две дочерние религии иудаизма – ислам и христианство столкнулись в смертельной схватке. Что может противостоять всем этим ужасам? Быть может, то, что я напишу, звучит как утопия? (Да пожалуй, так оно и есть!) И все же ИСКУССТВО!!! Искусство и те, кто способен его воспринять. Понятые всерьез и воспринятые на глубоком уровне творения гениев. Искусство подлинное никогда не обращается к толпе, но лишь к одному Человеку. К его глубочайшим возможностям и способностям взывают фуги Баха и симфонии Моцарта, картины Рембрандта и романы Достоевского, могучие соборы и мечети, устремленные в Космос, к своей великой колыбели. Но способности к восприятию искусства не лежат на поверхности. Как все подлинное, искусство требует погружения в себя. Сделать это как раз труднее всего, ибо мир ориентирован на поверхностность суждений, мгновенность восприятия, однозначность оценок. Простейшие видеоряды и клипы вместо представлений, готовые литературные образы, кем-то приготовленные и сервированные в многочисленных телевизионных сериалах, вместо развития собственной творческой фантазии индивидуума. Как противовес всему этому выступает стих Пастернака, который я хочу поместить здесь. Когда я перечитываю такие стихи, как этот, то моя пошатнувшаяся вера в благополучный исход человеческой цивилизации крепнет, несмотря ни на что. Ибо раз в отдельных представителях человечества есть подобные состояния, то чисто теоретически оно может существовать как знаковая система, как представитель высочайших сфер человеческого духа. В этом стихотворении мандельштамовские требования “орудийности” поэзии существуют как высшее воплощение этой орудийности. Стихотворение хочется читать вслух. Читать как заклинание. Б. Пастернак Из цикла Тема и вариацииМчались звезды. В море мылись мысы. Для простого перечисления и объяснения мне придется использовать Намного большее количество слов, чем в самом пастернаковском стихотворении. И вы, при наличии некоторого опыта, можете сами попытаться сделать это. Я же попробую, насколько смогу, приоткрыть завесу над космичностью, невиданной философской глубиной этого шедевра русской поэзии XX века. “Плыли свечи...” Плыли, значит оплывали. Но и плыли, ибо один из главных героев – Средиземное море. Свечи как отражение звезд. Звезд, которые мчались. Но что это за странный образ: “мчались звезды”? Ведь звезды неподвижны для наблюдателя? Неподвижны, да, но только в случае с конкретно данным временем. А дано безграничное время... Ведь колосс, или Колосс Родосский, – одно из семи чудес античного мира был разрушен задолго до того, как на земле появился Пушкин и написал стихотворение “Пророк”. За время, прошедшее между разрушением Колосса и рождением Пушкина, звезды промчались с огромной скоростью на огромное расстояние. Значит, начало стиха: “Мчались звезды...” превращает Время в фон. Но фон чего? Фон для безграничной и не имеющей пределов скорости мыслей. Поэтому дальше так логично: “Мчались мысли”. Движение мыслей приравнено к движению звезд. Но какой же отрезок времени описывает Пастернак? Не меньший, чем нужно, чтобы море высохло до слепой соли. Но высохшее море – не больше, чем высохшие слезы, или просыхающий черновик “Пророка”. Но “слепла соль” – это еще и слезы, соленые слезы. Слезы, слепящие глаза. Сфинкс, который загадал загадку из глубины своей Египетской цивилизации (“прислушивался сфинкс к Сахаре”). Но задал он ее представителю другой цивилизации – греческому царю Эдипу. (Кто утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех.) Перед нами – диалог цивилизаций. Но при чем тут Пушкин? Как при чем? А Ибрагим Ганнибал!!! Прадед!!! Пушкина!!! И вновь “прислушивался сфинкс к Сахаре” – это же родословная Пушкина. Ибо сфинкс – это и Санкт-Петербург. А значит, Россия разговаривает с Африкой!!! И Пушкин – их представитель. Еще один диалог цивилизаций!!! Окончание стиха: “Брезжил день на Ганге” в контексте отсутствия времени в стихе может восприниматься как начало еще одной цивилизации – индуистской. Восходит солнце индуизма!!! А “ветерок с Марокко”, который “тронул” море? И тут же: “Шел самум”. Ветерок – причина самума? Или опять разные времена? А “Были темны спальни”? Потому что свечи оплыли? Или отплыли? Со скоростью мчащихся звезд. Или еще не зажжены? А вообще, все стихотворение-парафраз на тему: А. С. Пушкин пишет стихотворение “Пророк” (?) (!) Ведь единственный образ, который повторяется в стихе дважды – это “плыли свечи”.Не верите, что все это – о “Пророке”?  Так вот вам тема, на которую написано это стихотворение. Как вариация на тему: “И внял я неба содроганье, Человек, воссозданный ангелом, стал Пророком. Помните последнюю строчку “Пророка”? Напутствие, данное ангелом поэту, который получил дар пророка? “Глаголом жги сердца людей”. А теперь перечитайте стихотворение Пастернака. Оно все насквозь глаголит. И жжет. Свечами, жарой пустыни (когда от жажды “заплывали губы”), жжет солью слез, самумом, Сахарой. И вдруг в снегах Архангельск! Почему? “Но вреден север для меня” (Пушкин). Все в жаре, в огне и огнях. Все мчится! Но “храпел в снегах Архангельск” (!) Здесь еще расстояние температур. Сахары и Архангельска в снегах. А чтобы почувствовать, как жгут глаголы “Пророка”, вы пишем их в ряд. “Мчались, мылись, слепла, высыхали, были темны, мчались и прислушивался”. “Плыли, стынет, заплывали, пошла на убыль”. “Тронул, шел, храпел, плыли, просыхал и брезжил”. Семнадцать глаголов в двенадцати строчках!!! А вы говорите: “телевизор!” “А вы говорите: всемогущий компьютер”. Телевизор перегорит от напряжения, Компьютер потребует немедленно его выключить, А “глагол будет жечь сердца людей”. Если мы не перебьем, не уничтожим друг друга, так и не сумев понять – кто мы на Земле. Если вы много раз, да вслух, да с подлинным погружением, прочитаете это стихотворение, то мне останется задать вам один вопрос – тот, который стоит в заглавии этой главы. Если вы соглашаетесь со мной, если вы осознали, что подобные стихи – не просто хорошее, но более или менее необходимое чтение, если вы понимаете, что никакие технологии не заменят человеку потребность в перечитывании этого крохотного стиха, если вы чувствуете, что это стихотворение разрушает традиционные представления о времени, что оно причастно идее космичности культуры, что оно разбивает привычную атмосферу каждодневности, что оно вдохновляет нас на осознание бессмертия, я буду очень рад. Но если у вас вдруг появится ощущение причастности к уровню мысли этого стиха, чувство белой зависти к его автору, потому что вы сами – Творец, то я буду просто счастлив. Ведь мы рождены гениальными. Только важно не испугаться своего предназначения, не погрязнуть в толпе, не раствориться в ней. Глава 17. Пять собеседников Это последняя глава первой части книги. Она как бы обобщение написанного выше. Она же – тест для читателя. В диалоге принимают участие А. Блок и Б. Пастернак – два выдающихся русских поэта XX века. Их творчеству в книге уделено немало внимания. В поэзии обоих существует невероятно глубокая связь между чисто поэтическими категориями красоты и философскими категориями бытия. Оба они – мост между традициями русской поэзии XIX и XX веков. И одновременно – полновластные хозяева поэзии века XX. Г. Гессе – грандиозный писатель этого же времени, живший и творивший в Германии и Швейцарии. Он автор одной из величайших и глубочайших книг всех времен – “Игра в бисер”. Эту книгу я хотел бы порекомендовать прочесть всем, кого волнует судьба будущего человечества и человеческой духовной культуры. Кстати, идейным вдохновителем этой книги и ее героев, тех, кто открыл тайны “игры в бисер” является Николай Кузанский и его философия. Именно сочетание математики и музыки стали основой единственного занятия жителей выдуманной Гессе страны Касталии – игры в бисер. Цель касталийцев, убежавших от “эпохи фельетона” (так называет Гессе нашу нынешнюю цивилизацию), – сохранить высшие ценности духовной культуры человечества, играя в бисер в созданной ими стране. Каждая бисеринка игры – это математическая формула или тема баховской фуги, аккорд из прелюдии Рахманинова или строчка из средневекового трактата. Но с другой стороны, боюсь рекомендовать эту книгу всем. Вдруг ее чтение у некоторых сразу “не пойдет”, и вы перестанете доверять мне или себе. Или подумаете о том, что вы “безнадежны” как духовный восприятель и мыслитель. Ведь, действительно, эта книга столь же глубоко духовна, сколь и по-особенному сложна для тех, у кого нет достаточного опыта погружения в духовную сферу жизни. Таким людям могу дать совет: Может быть, не стоит пытаться читать “Игру” сразу и целиком, а попробовать читать ее понемногу. Для начала – вступление к ней под названием “Опыт общедоступного введения в игру в бисер”. Если почувствуете, что вас захватило, читайте дальше, если нет, перечитайте “Опыт” еще несколько раз. Очень важно прочесть стихи из этой книги. Они называются “Стихи школяра и студента”. С перерывами, с возращением к прочитанному. И в одном я убежден до глубины души: тот, кому удастся пройти через все сложности первого общения с этой, может быть, глубочайшей сокровищницей мысли последних столетий, возьмет эту книгу в спутники навсегда. Возвратившись же к ней через пару лет, вы будете удивлены насколько естественно вы будете воспринимать эту, еще недавно сверхсложную, как вам казалось, книгу. Томас Манн – немецкий писатель XX века – автор равновеликой “Игре в бисер” книги “Доктор Фаустус”. Этой книге, которая так же, как и книга Гессе, является кульминацией мышления интеллектуальной элиты XX века, я хочу посвятить отдельную главу во втором томе. Итог же принадлежит средневековому японцу – одному из гениев поэзии хокку. Почитайте побольше стихов хокку. Познакомьтесь с величайшим поэтом хокку Мацуо Басе. Суметь выразить глубочайшие мысли всего в трех строчках – особое умение японской поэзии. Я бы даже порекомендовал вам после углубления в хокку попробовать написать в подобном стиле и ограничении самим. Это прекрасная тренировка для постижения тайн поэзии и риторики. Здесь я позволю себе процитировать хокку, написанное мной в те времена, когда я усиленно тренировался в их написании. Да еще в самые несвободные годы полной регламентации жизни. Лист бумаги в тюрьме. Если вы глубоко и несколько раз прочитаете подряд мысли этих пятерых собеседников, то почувствуете вневременность и безграничность, единство и глубину мыслительного творческого процесса на нашей планете. Это и есть тот мир, который, согласно Николаю Кузанскому, – коридор между нашим миром и миром “Абсолютного Максимума”. Коллаж Ум обладает способностью соединять все идеи, между которыми не возникает противоречий. Д. Юм, “Трактат о человеческой природе” В пространствах беспредельных горят материки, Б. Пастернак, “Ночь” ...Если мы допустим на минуту, Г. Гессе Я возьму тебя с собою А.Блок Рассудок, умная игра твоя – Г. Гессе Когда строку диктует чувство, Б. Пастернак Мне кажется, что наивность, бессознательность, самоочевидность являются неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой. Т. Манн Видели все на свете Иссё Я испытываю безумное искушение порассуждать на тему этого диалога. Но, во-первых, я боюсь испортить прозой его невероятную поэтичность, во-вторых, чудо этого подстроенного мною диалога в том, что поэты через века и страны общаются между собой так, словно они сидят рядом друг с другом. Я боюсь стать пятым лишним. А посему предлагаю читателю остаться с ними наедине и не только понять ход их мыслей, но и глубоко прочувствовать эту атмосферу: АТМОСФЕРУ ПИРШЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА. |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
