|
||||
|
ЧАСТЬ I ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ИЗ ДНЕВНИКА РАЗНЫХ ЛЕТ Константин Александрович Кордобовский [1] Об авторе: Константин Александрович Кордобовский (1902–1988) – художник, искусствовед, педагог. «Он не походил ни на кого» и не вписывался в каноны соцреализма, поэтому в годы своей жизни был мало известен, да и не стремился к известности. «Художник должен петь своим голосом», – говорил К. Кордобовский. Художник пережил блокаду, служил в действующей армии. Первая выставка работ состоялась в год его 70-летия, все последующие проходили уже без него. Много лет, начиная с 1935 года и затем после войны, он руководил изостудией Ленинградского дворца пионеров, преподавал в Художественно-графическом училище. Его ученики сохранили о нем память как о мудром наставнике, учившем не только мастерству живописи и графики, но и умению видеть, чувствовать и размышлять. «Ваши рассказы, что для ребят сказочный мир, – писал ему с фронта в январе 1944 года его ученик, художник Федор Смирнов. – Никогда не переживал такого желания рисовать, как после Ваших занятий». * * *Мамочка моя, Феодосья Федоровна Осипова (в начале XX в. – владелица дома № 50 по 2-му Муринскому пр.), родилась в семье купца первой гильдии, почетного гражданина, фабриканта Федора Игнатовича Осипова. Дед происходил из мещан. Рано потерял родителей. Грамоте научился у сельского дьячка, как говорил позже, «на медные деньги», и рано начал работать. Когда мне было восемь-десять лет, дед отошел от дел. В это время у него уже были две «паровые фабрики шведских спичек». Одна находилась в посаде Злынка Черниговской губернии, а другая – в 25 верстах от посада, в имении Софиевка. …Отец был врачом, по рождению костромич. Окончив гимназию с золотой медалью, он подал заявление на юридический факультет города Харькова; когда же осенью приехал в город, то с удивлением узнал, что его зачислили на медицинский факультет, о чем он позже, кстати, никогда не жалел. …По окончании медицинского факультета отца направили на работу железнодорожным врачом маленькой станции Сновск (недалеко от Гомеля). Там он познакомился с моей мамой и вскоре женился. Через год отца перевели на узловую станцию Бахмач. Здесь я родился 13 мая (по старому стилю) 1902 года. Желая продолжить медицинское образование, отец решил ехать в Петербург, где его зачислили в Военно-медицинскую академию. Семья сняла квартиру на Кирочной, и отец попытался заняться врачебной практикой. Вскоре выяснилось, что частная практика не может прокормить семью, в которой родился еще один ребенок, моя сестра Лиля, а вскоре и вторая девочка, Вера. Когда отец поступил на работу в Обуховскую больницу и в больницу Марии Магдалины, благосостояние упрочилось. Мой дед, отец моей мамы, давал за каждой дочерью по двадцать пять тысяч рублей. Правда, деньги своим зятьям он отдавать не торопился, не желая их вынимать из дела, и этим связал всем руки. Вскоре разгорелась ссора между отцом и тестем. Это привело к тому, что дед, выделив нам часть денег, купил в Лесном – тогда пригороде – участок земли с домами и службами. Вот в это время наша семья поселилась на 2-м Муринском проспекте, дом 50, что явилось для нас, детей, чуть ли не историческим событием. Именно в Лесном отец стал заниматься частной практикой, оставив работу в казенных больницах. …Теперь попробуем пройтись по Лесному моей молодости. Вечер. Погасает прозрачное небо. Затихают дневные шумы. Там, в вышине, между кронами старых кленов и лип, возникает серебряный пятачок месяца… На 2-м Муринском проспекте, где уже живем, появляется фонарщик, на плече у которого небольшая лесенка, а в левой руке – бидон с керосином и лампы. Подойдя к фонарному столбу, он прислоняет к нему лесенку, затем поднимается на две-три ступеньки и заправляет лампу, протирает стекло и зажигает фонарь. Цепочка этих огней начинает уходить вглубь улицы. Булочная Сотова с кафе на втором этаже работает допоздна. Здесь можно заказать чай, кофе или шоколад. Здесь же для посетителей стоят бильярдные столы. Рядом, в обложенном желтым кирпичом одноэтажном доме с большим полукруглым окном, находится магазин Смолина. На углу Болотной и 2-го Муринского – канцелярский магазин Чигиринова и еще магазин мамаши Лешки Лебедева. Тибо – как он числился в наших анналах. Магазин канцелярских товаров считался магазином ребячьих радостей. Здесь, рядом с тетрадями и различными по цвету перышками для письма, можно было купить цветную глянцевую бумагу для аппликаций, палитру с наклеенными семью акварельными красками, на которых красовалась фабричная марка «Муха», выбрать из росписи небольших кружков-облаток те цвета, которые ближе твоему сердцу. Этими облатками подклеивали цветную ленточку к промокашке в тетрадь. Поталь для золочения орехов на рождественскую елку продавалась в аптеках или у Лейбовича, или у Шлезингера. За Дубининым через несколько домов стоял кирпичный двухэтажный красивый дом с резным павлином, вверху, на фасаде. Здесь помещался первый в Лесном кинотеатр «Шантеклер». Был еще кинотеатр «Интеграл» в районе Политехнического института, но мое знакомство с синематографом произошло в здании по 2-му Муринскому, здании, украшенном резным павлином. Первые фильмы – это что-то поразительное. Бегает по полотну экрана смешной маленький человечек. Он нелеп и суматошен. Задевая и роняя, падая и вскакивая, Глупышкин носится по отведенному ему пространству. За ним бешено летят владельцы разгромленных им вещей. Зрители заразительно хохочут – все симпатии на его стороне. Суматоха сопровождается бравурной музыкой. Тапер, иногда взглядывая на экран, импровизирует на рояле.  Часовня у Круглого пруда. Фото начала XX в. …Уже после Октябрьской революции, смотря эйзенштейновского «Потемкина», мы аплодировали красному флагу, поднимавшемуся на броненосце в эпилоге фильма. Флаг был раскрашен вручную. Видели мы и «говорящие» фильмы. На экране, приседая и приплясывая, с руками в карманах драных штанишек, распевал забористые куплеты эстрадник, изображавший «босяка». Фильм был немой, но перед экраном, за ширмой, сидел актер, он и «создавал» звуковое оформление. В конце фильма актер в своей босяцкой униформе выходил и раскланивался перед зрителем. В этом же зале значительно позже мы познакомились с «трагислезливыми» мелодрамами с участием Веры Холодной, Полонским, Максимовым и королем экрана обаятельным и шикарным Максом Линдером. У Круглого пруда – церковь, напротив – частная гимназия Лаговицкой для девочек. Центр пруда соединяется с берегом мостками с перилами. По этим мосткам в крещение шествовал священник с клиром и, взойдя на плот с беседкой, освящал воду. У Институтского проспекта, сразу за Круглым прудом, была часовня с большой иконой Богоматери и с зажженными свечами и лампадами перед ней. Институтский проспект пересекает 2-й Муринский. Если свернуть по нему, то около Лесного корпуса, у Песочной, – немецкая булочная и кондитерская, отделанная внутри белым кафелем. Как и у Сотова, здесь предлагался большой набор вкусных вещей: пирожные, крендели, торты и замечательные, только нами, детьми, ценимые, «подошвы». Стоила «подошва» одну копейку. Это была плотная, твердая, тонкая лепешка, спрессованная из остатков разных сластей, остававшихся при изготовлении пирожных. Покупка «подошвы» была обязательной при направлении на прогулку в парк Лесного корпуса. В противоположном конце Институтского проспекта стоял (он и сейчас стоит) дом профессора Кайгородова. Газеты того времени часто помещали публикации фенологических наблюдений этого ученого. Каждый год на торжественном акте в Коммерческом училище[2] профессор усаживался за рояль и начинал рассказывать о природе и птицах, изображая музыкой щебет и пение пернатых любимцев… …2-й Муринский проспект до революции был улицей докторов. На небольшом отрезке в две трети километра проживали и практиковали врачи: Александр Васильевич Кордобовский, Абрам Лазаревич Кантор, Петр Борисович Вакс, Петр Федорович Рудольский, Иван Иванович Медовиков. Значительно позже в доме Рудольского поселился Павел Григорьевич Окнов, а за Круглым прудом – доктор Культмаа. …Лесной того времени был чудесным зеленым оазисом. Деревянные дачи и дачки стояли в глубине садов и садиков, а густые кусты сирени и клумбы с цветами украшали их. Заборчики, отделявшие семейные угодья, были невысокие, иногда с резными деревянными балясинами и, как правило, окрашенные в светло-зеленую веселую краску. У многих дач были веранды, и их цветные стекла приветливо светились в тихие весенние и летние вечера. На 2-м Муринском работали две аптеки – Лейбовича и Шлезингера. Одна из них, Шлезингера, поражала нас, детей, строем своих застекленных старинных шкафов, витринами прилавка и матовыми флаконами с различными надписями. На окнах витрин стояли огромные грушеобразные сосуды с цветной жидкостью. Для нас, ребят, эта аптека была особенно привлекательной из-за имеющихся в ней мятных лепешек и витых розовато-коричневых леденцов от кашля в виде скрученных цветных елочных свечей. Лекарства воспринимались как лакомства и были всегда желанными. Наш дом находился напротив дома Кантора, но родители не дружили с соседями, что не мешало нам, детям, поддерживать не очень прочную, но все же дружескую связь. Гувернантки-немки обеих семей явно тяготели друг к другу, а значит, встречались на прогулках. Ну а мы, детвора, даже не интересовались отношениями родителей и спокойно гуляли в парке Лесного корпуса или на близлежащих зеленых улицах. Булыжные мостовые главных проспектов – 2-го Муринского и Старо-Парголовского – были непозволительной роскошью, так как остальные улицы имели обычные грунтовые дороги. Пешеходные части обычные, хорошо утрамбованные, и я совсем не помню дощатых мостков на тротуарах или известковых плит.  Список домовладельцев на 2-м Муринском проспекте из адресно-справочной книги «Весь Петербург на 1913 год» (Лесной участок, фрагмент), с. 439. Большая часть улиц обсажена березами и липами, а некоторые из них еще имели каемку кустов желтой акации, отделявшей дорогу от тротуара. Канавы для водостоков на части улиц отделяли земельные участки от тротуаров, и тогда перед домами у входа перекидывались деревянные мостики. Все частные участки имели кроме заборчиков солидные ворота и калитки, кое-где беседка с деревянными скамеечками нависала над проточной водой канав. Вода в канавах была только дождевой, и никакие отбросы не заполняли ее чистых прозрачных струй. Мы, ребята, любили ловить в этих канавах колюшек, маленьких колючих рыбок, которые строили в воде небольшие гнездышки, и тритонов. Добычу, пойманную сачком, помещали в стеклянные банки с песочком и красивыми камушками и, набрав тут же воду из канавы, тащили в детскую, в свой уголок. У отца была большая практика. Его специальностью считались женские и детские болезни. Пациентов всегда хватало. Кроме приема на дому отец ходил на вызовы, и так как каждая семья в Лесном имела «своего» врача, то доктор становился довольно скоро близким человеком. Ему доверялись домашние тайны. Он знал о недугах, о горестях, часто достаточно было поговорить дружески, выслушать обиды, как больной успокаивался и начинал себя чувствовать значительно лучше. Была у отца практика среди профессорско-преподавательского состава Политехнического института имени Петра Великого, да и среди немцев-колонистов деревни Немецкая Гражданка. Вообще, Лесной того времени был пригородом Петербурга и окружен поселками-деревнями. 2-й Муринский переходил в Большую Спасскую и соединялся с Колонией Гражданка, за ней начиналась Русская Гражданка, деревни Ручьи и Мурино. Кончалось все Медвежьим станом, где был Военно-артиллерийский полигон. Старопарголовский проспект вел в сторону Удельной к Поклонной горе, Озеркам, Первому Парголову. Жизнь врача была беспокойной. Отец говорил «Собачья жизнь! Никогда не можешь принадлежать себе ночью, в гостях: если больной – вставай на вызов, пусть и мороз, и слякоть… В полной темноте ищи дом, а потом успокаивай истеричку, поссорившуюся со своим мужем».  2-й Муринский проспект недалеко от пересечения с Малой Спасской улицей. Фото начала XX в. Вызовы часто бывали и к роженицам. И доктор Кордобовский, захватив маленький пузатый кожаный чемоданчик с инструментами, послав прислугу за акушеркой, неимоверно толстой бабой, шел принимать еще одного гражданина Лесного. Утро у доктора Кордобовского начиналось с приема больных. Около девяти. Капа, наша горничная, открывала двери на звонки прибывавших пациентов. В передней она снимала с них пальто, принимала шляпы, перчатки, трости. Затем больной проводился в гостиную. На мягких, зачехленных стульях образовывалась молчаливая очередь. Кабинет был рядом. Вызывая очередного больного, доктор провожал обслуженного в другую дверь. Кабинет был строг, но не холоден. Два окна выходили в сад. Ветви берез свисали перед стеклами. Тишина и покой окружали пациента. Большой письменный стол был покрыт темно-зеленым сукном. Солидный бронзовый письменный прибор, стетоскоп и блокнот с серебряной крышкой не загромождали его просторного, немного официального поля. Кожаный диван с резными львиными головами и такие же кресла стояли у стола и по стенам. Книжный шкаф темного дуба с медицинскими книгами и большое зеркало в резной раме темного ореха украшали стену. Между двумя окнами стоял стеклянный белый шкафчик с медицинскими инструментами. И резной, такого же красно-коричневого цвета, круглый стол. В углу скромно и незаметно приткнулся швейцарский небольшой шифоньер с убирающейся вовнутрь рифленой дверцей.  Коммерческое училище в Лесном, фото 1909–1910 гг. Беседа врача и больного шла спокойно и обстоятельно. Выписанный рецепт скреплялся оттиском собственной печати. Никакой таксы за прием или вызов врача на дом у отца не было. Каждый платил столько, сколько мог, а иногда, наоборот, врач давал неимущему деньги на необходимые лекарства. Закончив прием, доктор Кордобовский отправлялся на вызовы. Если визит дальний, то у отца был подряжен извозчик, который и отвозил доктора к больному. Официальных вечерних приемов отец не имел, но если был вызов и доктор – дома, то прием происходил как обычно. Личные рецепты врача для себя или семьи в аптеке не оплачивались. Для хозяина аптеки было важным уже то, что врач направлял в нему своих больных. Чаще врачи не лечили своих детей, а вызывали другого врача. Это диктовалось тем, что «своего всегда перестрахуешь». Врач обязан был спокойно оценивать обстановку и не нервничать около их любимца… …Переселение моих родителей из Бахмача в Петербург было связано с желанием отца защитить диссертацию при Военно-медицинской академии…  К. Кордобовский с сестрами Верой и Еленой, 1907 г. Из семейного архива В.А. Смирнова Обучать меня стали рано. К нам в дом приходил гимназист-старшеклассник и занимался со мной; затем меня отдали в начальную школу сестер Морозовых, помещавшуюся в одноэтажном деревянном доме на углу Новой улицы и Институтского проспекта. В 1911 году я перешел в Коммерческое восьмиклассное училище против Серебряного пруда, тоже в Лесном. …Последний класс в Коммерческом для меня был шестой. Накануне Февральской революции моя мама из-за туберкулеза легких уезжает к бабушке в Черниговскую область, в посад Злынка. Я остался с отцом, так как было сказано, что «мальчику нельзя терять год учебы». События в стране развиваются так, что на Украине появляются немцы и «гетманы», – это сразу же отрезает нашу семью. В 1916–1917 годах отец организовал в Лесном кооперативную платную лечебницу. Лечебница разместилась в нашей бывшей квартире. Каждый врач внес пай и медицинский инструментарий. Уже на следующий год лечебница была национализирована, а затем и закрыта. Доктора остались не только без мест, но и без инструментов. …Зеленый остров с вековыми липами и дубами. На главных улицах Лесного – 2-м Муринском, Большой Спасской, на Старо-Парголовском – тянутся шпалеры желтой акации, они отделяют тротуары от проезжей дороги. Только около булочной – тротуар из плитника, в других же местах тротуары – из хорошо утрамбованной земли с гравием. Сады, садики – все в кустах сирени, много цветов, дорожки посыпаны песком, в клумбах прячутся полуметровые керамические гномы в красных колпаках. В центре главной клумбы – золотые и серебряные шары. Дачки и домишки с мезонинами, резными балконами летом еще украшены занавесями из широкого полотна с красной каймой.  К.А. Кордобовский (второй слева) у Театрального музея среди своих учеников, июнь 1950 г. Из семейного архива В.А. Смирнова В центре Лесного, рядом с «сотовым», – несколько каменных двухэтажных домов с магазинами в первых этажах. Каждый магазин помимо богатой витрины украшен вывесками на железе, похожими на жостовские подносы. Центральная вывеска – с именем владельца – чаще всего писана золотом по черному фону, а боковые красочные картины – с изображением того, чем торгуют. …У Чигиринова – магазин канцелярских товаров. Здесь – рай для учеников первых классов. Там же, для взрослых, имеется отдел табака, гильз для набивки папирос, сигарет в деревянных коробках с этикетками, на которых изображены золотые медали, полученные на разных международных выставках. Когда идешь сюда, зажав в кулаке десять или двадцать копеек, то заранее предвкушаешь удовольствие от того, что увидишь. Вывески у Чигиринова – с изображением турка в чалме с огромной трубкой. Этот турок привлекал своей экзотичностью, был загадочно таинствен, говорил о чем-то, лежащем в области фантастического. Возвращаясь домой, зажав две тетради с белой лощеной бумагой, можно было еще раз полюбоваться на турка с дымящейся трубкой.  К.А. Кордобовский, май 1975 г. Из семейного архива В.А. Смирнова Над аптекой висел большой черный двуглавый орел. Золотые короны украшали его головы. Герб с Георгием Победоносцем располагался в центре орла, а яркие, с позолотой, гербы всех губерний были симметрично разбросаны по поверхности раскрытых крыльев. Вечером, когда загорались огни, свет оживлял все сосуды, и они светились, словно огромные лестницы желтого, зеленого, фиолетового или розового цвета. Вывеска у аптеки – сугубо деловая. На черном фоне золотыми буквами были выведены: строгая надпись «Аптека» и имя владельца – «Шлезингер». В витрине парикмахерской находились муляжи мужской и женской голов в соответствующих париках, а также вывески с изображением парикмахера и клиента. Небольшой магазин «Венский шик» у Корольковых имел на вывесках красивые дамские шляпы с букетами цветов, птицами и изображением вишен. Мужские шляпы, форменные фуражки украшали вторую вывеску. Город был своеобразным музеем вывесок. Мастерство некоторых из них было чрезвычайно высоким. Наивные вывески окраин создавали свое лицо лавкам и лавочникам… ВОСПОМИНАНИЯ О РОДСТВЕННИКАХ И ДРУЗЬЯХ, О НАШЕЙ ЖИЗНИ В ЛЕСНОМ Валерий Оскарович Кобак Об авторе: Валерий Оскарович Кобак (1927–2001), родился и вырос в Лесном, провел здесь блокаду, в 1952 году окончил Ленинградский политехнический институт. После окончания института по распределению попал в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, где проработал несколько десятилетий, руководил отделом, опубликовал ряд книг и статей по вопросам радиолокации. Сразу после института В.О. Кобак женился на своей однокурснице Ирине Васильевне Буровиной (1929–1990) и привел ее в дом на Ганорином переулке. В Лесном родились их дети – в 1952 году я, три года спустя мой младший брат Николай Валерьевич Кобак (1955–2008). В Лесном отец прожил до 1978 года. Вне всяких сомнений, этот район был для отца настоящей малой родиной. Но не только для него. Первые Кобаки приехали в Петербург из Эстонии в конце XIX века и поселились в Лесном. С тех пор их дети, внуки, правнуки и праправнуки не покидали этих мест. Не все, конечно, – многие переезжали в другие части города, но кто-то оставался в Лесном всегда. И сейчас я, мои дети, мой двоюродный брат живем всего в нескольких сотнях метров от того места, где когда-то поселились наши эстонские предки. Без преувеличения можно сказать, что «лесновская» династия Кобаков насчитывает больше 110 лет. По петербургским меркам – срок немалый. Отец работал над воспоминаниями с 1992 по 1994 год. Здесь публикуются (с некоторыми сокращениями) первые девять глав этих мемуаров. Начиная работу над воспоминаниями, отец написал слова, которые могут быть к ним эпиграфом:
Дом и двор Воспоминания детства всегда связаны с домом, где жил, двором, садом и близлежащими улицами. Мой дом был дореволюционной постройки. Первый и второй этажи были одинаковыми по числу и расположению комнат и представляли собой две квартиры, каждая из шести комнат с прихожей, кухней, уборной. Квартиру первого этажа до революции и какое-то время после нее целиком занимал мой дед Карл-Эрнст Магнусович Кобак с женой Марией Георгиевной (Егоровной) и сыном Оскаром. По-видимому, дед был первым съемщиком этой квартиры после постройки дома. Оскар и Юлия, которая появилась в доме в 1926 году, произвели на свет в 1927 – меня, а в 1936 – моего брата Эдуарда. На моей памяти, т. е. в начале 1930-х годов, квартира была уже коммунальной. Наша семья занимала 3 комнаты. Так было до зимы 1942–1943 годов, когда наш дом был разобран на дрова. Таким образом, дом моего детства просуществовал около 35 лет. В 1942 году семья состояла из трех человек: матери и нас с братом. Стояла вторая блокадная зима, голод, безотцовщина (мне 15 лет, брату 6). Перевозить нас и наши вещи было некому. Второй этаж уже разобрали, а мы все еще жили внизу, на первом этаже. Помню высокие печные трубы, 5 или 6 штук, возвышающиеся над нашей квартирой без крыши. Вещи перевезли понемногу сами, на санках, благо было не очень далеко. Много вещей бросили, часть была разворована. Но это все было позже, а сейчас вернусь к дому моего детства. Адрес был такой: Лесной, Институтский пр., д. 18, кв. 4. Под № 18 числилось четыре дома. В первом, каменном двухэтажном особняке с зеркальными окнами, выходящем фасадом на Институтский проспект, было три квартиры. Наш дом стоял за особняком и левее. Счет квартир был во всех домах общий.  Институтский пр., 18-2. 1910-е гг. До революции дома принадлежали генералу Тахтареву[3]. В особняке жил генерал с семьей, наш деревянный дом сдавал внаем. Съемщиком первого этажа (кв. 4) был мой дед. Кто снимал второй этаж (кв. 5), я не знаю. Могу предполагать, что второй этаж был более престижным, чем первый, и там, возможно, жил офицер с семьей. Повод для догадки таков: мальчишкой я не единожды облазил весь дом, все его закоулки, кладовки, чердак и крышу. На чердаке, в углу, явно в потайном месте, я обнаружил офицерские погоны, пуговицы и галуны. В начале тридцатых годов дома были коммунальными, но все оборудование сохранилось с дореволюционных времен. Дома были построены очень добротно: хорошие печи прямоугольной формы с обшивкой из гофрированного железа и литыми чугунными дверцами, электричество, водопровод, канализация со свинцовыми трубами (местная, с выгребными ямами), кладовки, подвалы, двойные входные двери.  Дверная табличка Кобаков Генеральский дом стоит и по сей день. О нем я еще расскажу, а пока о нашем доме. Он был бревенчатый, рубленый (что выяснилось, когда его ломали), обшитый вагонкой, очень теплый. По фасаду, выходящему в сторону Институтского проспекта, было пять окон, справа – парадный вход и лестница на второй этаж. С противоположной стороны симметрично располагались черный ход и черная лестница на второй этаж. Резные входные двери были сверху застеклены. За ними шел небольшой коридор наподобие веранды. Направо – двухмаршевая лестница на 2-й этаж, налево – вход в нашу квартиру. На дверях металлическая табличка «Эрнстъ Магнусовъ КОБАКЪ», и еще Е. Kobak – готическим шрифтом. Табличка была снята в 1942 году, когда ломали дом. Она сохранилась. Входные двери в квартиру были двойными с тамбуром. Дальше шла просторная прихожая, где помещались шкафчик с зеркалом, вешалка, под вешалкой громадный сундук. В сундуке хранились шубы и другие зимние вещи, а также шляпы и даже страусовые перья. Из прихожей дверь налево вела в комнату деда. Она служила ему мастерской и одновременно спальней вместе с бабушкой. В комнате помещались: двуспальная кровать (железная, с металлическими никелированными шариками на спинках), шкафы и шкафчики с инструментами и материалами (множество!), низкий верстак для сапожной работы, письменный стол и большое кресло с высокой спинкой, обитое красным бархатом. В кресло усаживались заказчицы модельной обуви. На письменном столе стоял радиоприемник, сначала старинный, а в середине 1930-х появился новый, типа СН-235. В начале войны, осенью 1941 года, все радиоприемники были у населения изъяты (та же участь постигла и велосипеды). Из прихожей дверь вела в две смежные комнаты, первая из которых служила столовой, а вторая – спальней и детской. Так было в последние годы перед войной. Сохранились фотографии с интерьерами этих комнат. Мебель была в основном резная дубовая. Было несколько картин в золоченых рамах, золоченые карнизы и тяжелые портьеры на окнах и дверях, старинное пианино с подсвечниками, туалетный столик и трельяж, большое трюмо, столовое серебро, фарфор, бронза.  Столовая. 1930-е гг. Был еще странный инструмент под названием «Pianola». Этот пневматический механизм с молоточками по числу клавиш пианино приставлялся к клавиатуре и заменял собой пианиста. Своего рода программируемый робот. В него вставлялись программы в виде широких бумажных перфолент (рулонов). Робот играл записанную на перфолентах музыку, ударяя молоточками по клавишам пианино. Правда, для игры требовалось, чтобы человек непрерывно подкачивал воздух педалью и выполнял еще кое-какие несложные операции управления. Мне казалось, что робот играл очень хорошо. Рулонов было много с самой разнообразной музыкой. Сиди и качай. Что касается пианино, то на одном из снимков, где за пианино сижу я, можно различить клеймо R&H Fibiger.  Спальня. 1930-е гг. Почти все пропало во время блокады: было обменено Мамой на хлеб и другие продукты. Это спасло нам жизнь. Из всей обстановки тех лет у меня сохранился ореховый шкаф, пара столовых ножей «Solingen», пара серебряных ложек с монограммой «ОТ» (Ольга Туссина, моя бабушка по матери) и маленькая бронзовая собачка. В наших комнатах были еще две или три этажерки, очень красивые, на них стояли статуэтки, шкатулки, вазы с цветами. Были круглые небольшие столики с цветами, книжный шкаф (его называли «английским»), посудный низкий шкафчик, на котором стояли два самовара, швейная машина «Singer», отцовский письменный стол. На стенах кроме картин висело множество фотографий, портретов, рисунков и даже открыток, все в маленьких рамках под стеклом. В углу столовой был отгорожен закуток, святая святых, отцовская фотолаборатория. Словом, свободного места в наших комнатах было очень мало. Думаю, много усилий требовалось для уборки этих комнат, а Мама была исключительно чистоплотной.  Отцовская фотолаборатория. 1931 г. Из прихожей налево был проход в коридор и в кухню. По коридору находились еще три комнаты меньшего размера, где жили соседи: две рабочие семьи по три человека и одна одинокая женщина. Я их почти не помню. Больших скандалов с соседями, по-видимому, не происходило. Как я уже упоминал, до революции дед занимал всю квартиру целиком. Полагаю, что в «соседских» комнатах, выходивших окнами к сараю, в ту пору жила прислуга или наемные работники. Кухня была довольно большой, с выходом на черную лестницу и черный ход. На кухне располагались: большая плита на четыре конфорки с духовкой, трубами для самоваров, бачком для подогрева воды и другими приспособлениями, раковина, кухонные столы. На стенах были широкие и длинные полки с котлами, кастрюлями и тазами. Там же стояли мельницы-кофемолки, сбивалки, мясорубки, ступки, угольные утюги и бог знает что еще, висели поварешки, шумовки, лопатки, щипцы, ухваты и масса других очень интересных для меня вещей. Еще на кухне были, конечно, примуса, а перед войной появились и керосинки. Мне часто приходилось ходить за керосином и денатуратом для разжигания примусов. Хорошо помню керосиновую лавку на углу 2-го Муринского проспекта и Широкого переулка, запах керосина, продавца в клеенчатом фартуке и нарукавниках, большие жестяные воронки. Керосин откачивали из бочек в большой прямоугольный бак, служивший прилавком. В таком же баке поменьше находился денатурат (подкрашенный синей ядовитой краской спирт).  Сад во дворе дома. 1930 г. Продавец черпал керосин из бака мерными кружками на длинных ручках. Для денатурата были кружки поменьше. Его обычно брали в бутылки, а керосин – в баклажки. В керосиновой лавке продавались еще мыло и свечи. Свечами у нас дома пользовались редко, а вот керосиновые лампы всегда были наготове из-за перебоев с электричеством. В углу на кухне жила собака-шпиц. Их было две на моей памяти: Белка, умершая от старости, и, сменивший ее, Буян. Он погиб, спасая нашу жизнь. Мы его съели в конце первой блокадной зимы. Мама ела и плакала; брату было всего 6 лет, и он не знал, что ест; а я своих слез не помню, мне было 14 лет. Помню только, что было очень вкусно; помню еще аргумент, которым мы себя утешали: если б не мы, то его бы обязательно поймали и съели другие. В ту пору собаки и кошки были выловлены абсолютно все. Под окнами наших комнат был сад. Шесть больших яблонь достигали ветвями окон второго этажа. За яблонями особенно не ухаживали, не подкармливали их, не обвязывали на зиму, не формировали кроны. Но яблок бывало очень много, правда, через год. Сорта были хорошие, морозостойкие, в том числе исключительно душистая антоновка. Дед любил пить с ними чай. Осенью яблоки, бывало, воровали, ломали большие суки или трясли. Отец выскакивал по ночам и гонял воров – подростков и парней. Еще в саду росли большие кусты сирени, фиолетовой и белой, коринка, шиповник, смородина, крыжовник. Было много цветов: лилии и дельфиниумы разной формы и расцветок, шток-роза, настурции, громадные георгины, ночные фиалки или маттиола (любимые мамины цветы). Оставалось место и для огорода: ревень, огурцы, свекла, редиска – всего понемногу. Сажали и картошку, но это уже не в саду, а на пустыре за домом с северной стороны.  Сарай с курятником и свинарником на краю участка. 1930-е гг. За цветами ухаживали Мама и Отец, а огородом занималась в основном бабушка. Картошку сажали и собирали всем семейством. Уместно отметить, что, кроме нас, в доме больше никто не прикладывал рук к земле. В начале войны на месте нашего огорода мы выкопали блиндаж-убежище, в котором прятались во время бомбежек. Сохранилась фотография этого блиндажа. Весной 1942 блиндаж затопили вешние воды, он развалился, а мы привыкли к бомбежкам и обстрелам и перестали выходить по ночам из дома. Кроме того, на участке были пруд и два (или три) колодца, один из них – артезианский, которые на моей памяти уже не использовались. Он размещался в небольшом павильоне. В глубине участка находилась летняя кухня. Задняя ее стена вдоль границы участка была кирпичной с дымоходами и вентиляционными каналами. Двери были двустворчатыми, широкими и высокими. Не исключено, что кухня задумывалась и как гараж. На моей памяти в 1930-е годы артезианский павильон и летняя кухня служили дровяными сараями. Генералу Тахтареву принадлежали не только каменный особняк (18-1) и наш деревянный дом (18-2), но и еще два деревянных двухэтажных дома, также числящихся под № 18 (18-3 и 18-4). Тахтарев владел участком земли с четкими границами и рационально расположенными постройками. Площадь участка составляла около 0,5 гектара (примерно 60 м по улице и 80 м в глубину). Вдоль улицы участок ограничивала металлическая решетка с чугунными столбами, воротами и тремя калитками, с остальных сторон – деревянный забор и сараи. Внутри участка имелись низкие заборы нашего сада и несколько палисадников поменьше. В начале 1930-х годов на участке был построен еще один одноэтажный деревянный дом (18-5). По утверждению Д.В. Семенова[4], этот дом был построен своими силами из материала разобранной часовни, стоявшей у Круглого пруда на пересечении Институтского и 2-го Муринского проспектов, напротив снесенной деревянной церкви. Участок Тахтарева обозначался не только заборами и сараями, но и людской памятью. Жители домов под № 18 считали друг друга своими, а жителей других домов – чужими. Особенно это проявлялось среди детей и подростков. Ссоры и драки возникали, как правило, у «своих» с «чужими», и в сады за ягодами и яблоками лазили не к «своим», а к «чужим». Скажу несколько слов о каменном особняке Тахтарева и его обитателях. Постройка особняка в основном завершилась в 1907–1908 годах. Оставались внутренние работы по оформлению интерьера и оборудование центрального калориферного отопления (по-современному – кондиционера), которое хозяин предусматривал наряду с печами. Планы осуществить в полной мере не удалось из-за начавшейся Первой мировой войны. Хозяин с семьей занимал в особняке весь 2-й этаж из 6 комнат, кухни, веранды и других помещений (кв. № 1). Западная комната была с большим открытым балконом, располагавшимся над черным ходом в особняк. На этом балконе, металлической клепаной конструкции с металлическим рифленым настилом, могло разместиться не менее четырех шезлонгов. Над балконом натягивался тент (после Отечественной войны балкон проржавел и был срезан автогеном). Первый этаж особняка еще до революции был разделен на две квартиры, из трех комнат каждая. В кв. № 2 жили, по-видимому, родственники Тахтарева. Они и их потомки оставались там и после революции, вплоть до расселения дома в 1967 году. В кв. № 3 жила семья Надежды Николаевны Захаровой. До революции она держала частную начальную школу на Объездной улице. Школа сгорела. После этого Тахтарев пригласил Захарову в свой дом и выделил ей квартиру для организации начального класса и воспитания группы детей, в том числе детей самого Тахтарева. Захарова и две ее дочери, Наталья Павловна и Вера Павловна, все очень одаренные в музыке, рисовании и других предметах, какое-то время вели этот класс. Позже Наталья Павловна вышла замуж за историка и педагога Василия Ивановича Семенова. Их сын, Дмитрий Васильевич Семенов, Дима, был приятелем моего детства. Семья Захаровых-Семеновых представляется мне образцом дореволюционной интеллигенции. Высокая культура, трудолюбие и талантливость передавались и накапливались у них в нескольких поколениях. Я хорошо знал эту семью; в школе русскому языку меня учил В.И. Семенов. Единственный наследник семьи Дмитрий Васильевич жил в тяжелое для талантов время, в эпоху сталинизма. Обстоятельства жизни давили его, но хорошая наследственность сделала свое дело. Талантливый математик-аналитик, прикладной математик, программист, специалист по вычислительной технике и электронике, механик и водитель экстра-класса, мастер-универсал – людей такого разностороннего развития и такой степени мастерства мне более не приходилось встречать. Каменный особняк Тахтарева строился хозяином с любовью и с надеждой на долгую и счастливую жизнь. Дом привлекал внимание и радовал глаз, казался уютным и в то же время строгим и даже элегантным. Полагаю, что этому способствовали прекрасные пропорции и удачное расположение дома, зеркальные окна на срезанном под 45° углу дома (окна были заложены кирпичной кладкой во время войны), решетчатая ограда и ведущая от ворот вглубь участка аллея вязов (слева) и кленов (справа). Особняк Тахтарева, весь его облик и то, каким он был задуман, очень мне понятны и трогательны. Мне даже кажется, что, если бы я имел возможность и средства, то, наверное, построил бы именно такой или очень похожий дом для себя, своих детей и внуков. И место выбрал бы такое же тихое, за городом. Особняк Тахтарева представляется мне воплощением уюта и стабильности, прибежищем старых друзей, тихой кабинетной работы, рукоделия. Словом, что-то вроде гималайского дома Рериха, но только в своем отечестве. Увы, все было разрушено у Тахтарева, как, впрочем, и у моих родителей, и у множества других людей. Остановлюсь еще на двух домах участка Тахтарева. Деревянный дом под номером 18-3 был довольно большим и по-своему заметным. С восточной и северной сторон его украшали обширные веранды с цветным ажурным остеклением. Осколки этих стекол, красного, синего, зеленого и желтого цветов, очень ценились у нас, детей. Веранды были как на первом, так и на втором этаже. При коммунальной действительности на верандах жильцы сушили белье. В квартирах из 5 комнат каждая проживало по 3–4 семьи. Но дом знал и лучшие времена. Из трех деревянных домов он, судя по всему, был построен первым и служил господским домом, пока не был завершен каменный особняк. Под вагонкой он был утеплен войлоком и рубероидом, что выяснилось зимой 1942 года, когда его ломали на дрова. На втором этаже жила семья Земляковых, занимавшая три небольшие комнаты. Семью составляли старики, муж и жена, и их взрослые (в почтенном возрасте) дети – брат и сестра. Судьба свела меня ненадолго с этой семьей в начале войны. Я познакомился с Земляковым-сыном[5] (кажется, профессором (или доцентом) Лесотехнической академии) во время ночных бомбежек и обстрелов, когда мы выходили из домов и прятались в щели или просто толпились во дворе, глядя в осеннее и зимнее небо на прожектора и разрывы зенитных снарядов. В минуты затишья Земляков беседовал со мной о созвездиях, планетах, туманностях и вообще о науке астрономии. Рассказывал он очень интересно и буквально заразил меня астрономией, о которой до этого я почти ничего не знал. Потом он стал выносить бинокль, затем – подзорную трубу и, наконец, однажды вынес небольшой телескоп на треноге. Я впервые увидел кратеры Луны, диски Марса и Юпитера, великое множество звезд. Мы стали выходить на улицу поздними вечерами уже и без угрозы воздушных налетов. Земляков стал приглашать меня домой, познакомил с остальными членами семьи. По специальности он оказался не астрономом, а геологом. Его последующие беседы со мной по геологии были не менее увлекательными, чем беседы по астрономии. Земляков подарил мне небольшую коллекцию минералов и несколько книг, в том числе «Селенгинскую Даурию», книгу о Приморском крае и реке Селенге. К сожалению, все это потом у меня пропало. Не пропали только его беседы. Я на всю жизнь сохранил интерес к астрономии, геологии и археологии. Земляков стал для меня примером ученого широкого профиля, почти энциклопедиста, прекрасного педагога и истинного интеллигента. Судьба его печальна. Весной 1942 года он выехал в эвакуацию, оказался на Северном Кавказе, попал в оккупацию и впоследствии погиб. Громадная его научная библиотека, коллекции и все вещи остались в доме. Дом сломали. У меня в памяти сохранилась такая картина: высокие печные трубы, а вокруг них грязный снег, густо перемешанный с множеством бумаг, разорванных и смятых книг, разломанных и разбитых коробок с коллекциями, с остатками домашней утвари. Все богатство, копившееся в доме Земляковых десятилетиями на стеллажах от пола до потолка во всех трех комнатах, погибло или было растащено мародерами. Спасти что-нибудь мне не пришло в голову – истощенному мальцу в 15 лет было просто не до того. В дореволюционном Лесном, простиравшемся от парка Лесотехнической академии на юге до Поклонной горы на севере и от Политехнического института (Гражданской дороги) на востоке до Выборгского шоссе на западе, в многочисленных деревянных домах и дачах с садами и палисадниками жила в основном интеллигенция (учителя, врачи, преподаватели, ученые и др.), арендовавшая квартиры у домовладельцев. После революции домовладельцев упразднили, а прежних съемщиков уплотнили, вселив к ним в квартиры люмпен-пролетариев и приехавших из деревни чернорабочих. В коммунальных квартирах Лесного совместно проживали и скрыто боролись, условно говоря, «белая» и «черная кость». «Белая кость» старалась удержать оставшиеся от старого привилегии в виде излишков жилплощади, мест на кухнях и в коридорах, а также кладовок, сараев и палисадников. «Черная кость», проявляя некоторое уважение к прежним хозяевам и съемщикам, старалась отвоевать из всего имеющегося больше места для себя. Казалось бы, проще всего это можно было сделать с помощью доносов. Но я о них не слышал. Время от времени «черная кость» действительно вела себя агрессивно в пьяном виде, но не более того. В основном дело ограничивалось мелкими стычками, обидными прозвищами и ссорами среди детей (меня, например, желая обидеть, всегда обзывали «чухной»). Социальные процессы в наших домах, неестественно начавшиеся в 1920-е годы, столь же неестественно закончились в 1942–1943 годах. Практически все деревянные дома Лесного были разобраны на дрова. Некоторая часть из них была уничтожена пожарами. Со сломом домов в Лесном моя память связала трагическую судьбу Отца. В конце 1941 года мой Отец Оскар Карлович Кобак был арестован и осужден военным трибуналом на 10 лет тюрьмы. В ту пору некоторых заключенных возили на разборку домов в Лесной. Случилось так, что среди них оказался однажды Отец, и Мама каким-то образом узнала об этом. Заключенные под охраной солдат работали на 2-м Муринском проспекте, совсем недалеко от нашего дома. Мы, конечно, побежали туда. Маме удалось переброситься с Отцом несколькими словами и даже передать ему немного еды. Я стоял в стороне и увидел Отца сидящим на бревнах в кузове грузовика в грязном ватнике и шапке-ушанке. Он был очень худ. Грузовик тронулся, и Отец помахал мне рукой. Больше никто из нас его не видел. Дед Эрнст и бабушка Мария Перехожу теперь к более подробным воспоминаниям о родственниках, сначала по отцовской, а потом по материнской линии. О прадедах, к сожалению, никаких сведений сообщить не могу, кроме того, что они были эстонскими провинциалами и жили в юго-восточной части Эстонии, в городе Выру или его окрестностях. Мой дед Эрнст Магнусович Кобак, родившийся предположительно в 1872 году, как многие эстонцы, имел двойное имя Карл-Эрнст. Сам он предпочитал имя Эрнст, но его сын почему-то взял отчество Карлович. В детстве я слышал кроме фамилии Кобак также фамилию Кобакене, что в переводе с эстонского означало Маленький Кобак. Думаю, дед какое-то время носил такую фамилию в отличие от своего отца или старшего брата.  Дед Э.М. Кобак. 1902–1904 гг. По моему предположению, дед Эрнст приехал из Эстонии на жительство в Петербург вместе с женой Марией в 1890–1895 годах. Им было по двадцать с небольшим лет. В ту пору и многие годы спустя в Петербурге существовало эстонское землячество, которое, скорее всего, помогло деду с устройством на новом месте. В 1900 году дед и бабушка произвели на свет единственного сына Оскара, моего Отца. Бабушка Мария была явно крестьянского происхождения. Она сохраняла тягу к земле, к домашним животным и домашнему хозяйству всю жизнь. На старых фотографиях сохранился облик бабушки в молодости в пышной шляпе и юбках по моде тех лет. Позже она предстает в моей памяти как вечная труженица на кухне, в огороде, в сарае, очень добрая и заботливая, в старом халате и фартуке, с почерневшими руками.  Бабушка М.Г. Кобак. 1902–1904 гг. Другое дело дед. В молодости щеголь и франт, он и в преклонные годы следил за своей внешностью, красиво одевался и ухаживал за женщинами. Происходил он, по моим представлениям, из ремесленников высокой квалификации. Был он сапожником, но не простым, а мастером по женской модельной обуви. Работал на дому, т. е. был либо частником, либо членом земляческой эстонской артели. Он получал заготовки от закройщика и других мастеров, но основную работу выполнял сам. Хорошо помню, как он принимал заказы у пышных дам, тщательно обмеряя ноги с учетом «любимых» мозолей, как работал и как потом производил примерки готовых туфель. Я не раз был свидетелем, как дед во время примерки готовой обуви поглаживал ножки своим клиенткам и говорил им комплименты. А они отнюдь не отвергали подобного обращения со стороны сапожника, хотя бывали дамами видными, в чернобурках.  Э.М. Кобак за работой. 1900-е гг. В доме было множество сапожных инструментов, материалов, кожи, деревянных колодок и каблуков, дратвы, обувной фурнитуры. Но главное, конечно, были руки мастера. Я очень любил сидеть в комнате деда, играть с инструментами и колодками, наблюдать за его работой. Сидел дед на низком стуле перед низким верстаком, изготавливаемую обувь держал на коленях. В его руках бесформенная заготовка превращалась постепенно в элегантный туфель. Не только в сапожном, но и в столярном, и в слесарном деле дед работал отменно. Не чужда ему была даже электротехника. От деда способность к ручной работе передалась отцу, а позже – мне. Вместе с тем дед имел интерес к книгам, собирал библиотеку, приобретал произведения искусства (картины, фарфор, бронзу) и явно обладал в этом деле определенным вкусом. Картины, к сожалению, не сохранились. Их было две больших и несколько средних и маленьких. На больших картинах был изображен лес. Первую в семье называли «Березовая роща», кажется, художника Плетнева. Она изображала лес при ярком лунном свете. Чуть заметная тропинка уходила в темноту. Помнится, на картине была даже дата: 1910 год. Вторую картину называли «Буковая роща», какого-то западного художника, фамилии которого не помню, хотя табличка на раме была. Изображала лесной ручей, окруженный узловатыми буками. Думаю, она была гораздо более старой, чем первая, возможно – середины XIX века. Была картина средних размеров, которую называли «Старик». Портрет старика с большой бородой и проницательным взглядом, всегда направленным на смотрящего картину, немного пугал меня. Было еще 2–3 средних картины «под Айвазовского» (или копии с Айвазовского). Были картины малого размера, из которых мне особенно нравилась одна, изображавшая песчаный берег Волги, рыбацкий костерок и баржи вдали. Очень жаль утраченных во время войны бронзовых каминных часов, скульптурной композиции «Психея с зеркалом», скульптуры «Леда и Лебедь», о которых мне напоминают старые фотографии. Должен признаться, что в молодые и даже в средние годы я был довольно равнодушен к старым вещам. Они ломались, трескались, разбивались. Я по большей части все выбрасывал, в результате разбазарил то, что уцелело после войны. Дед Эрнст, выходит, был в этом плане значительно умнее меня. Имел ли он какое-нибудь образование, не знаю, но сына своего Оскара дед учил в гимназии, привил ему уважение к старине, а позже дал возможность учиться в Лесотехнической академии. На моей памяти в 1930-е годы дед и бабушка говорили по-русски хорошо, но с заметным эстонским акцентом. Отец говорил по-русски без акцента, поскольку родился и вырос в Петербурге. Дед и бабушка выучили Отца эстонскому языку и иногда говорили дома между собой по-эстонски. Меня же отец эстонскому почему-то не учил, хотя у нас в доме со мной и еще двумя моими сверстниками (Модестом Калининым и Володей Кобзарем) старушка-гувернантка занималась немецким языком. У деда и бабушки было много знакомых из числа эстонцев, проживавших в Лесном. Они встречались иногда у нас и подолгу разговаривали о чем-то, чего я не понимал. Но слушать эстонскую речь мне было интересно, меня увлекала «музыка» незнакомого языка. Похожие ощущения я испытывал и много позже, когда мне приходилось бывать в Эстонии. Жаль, что я не научился эстонскому языку. Полагаю, он дался бы мне сравнительно легко. Многие в Эстонии говорили, что я типичный эстонец, а незнакомые часто заговаривали со мной по-эстонски. Должно быть, во мне погиб голос крови.  Э.М. Кобак на велосипедной прогулке с друзьями в парке Лесного института. 1915–1916 гг. Бабушка Мария до революции и вплоть до начала 1930-х годов давала домашние обеды. У нас обедали состоятельные люди, как я помню, только мужчины почтенного возраста, вероятно, вдовцы или просто одинокие, некоторые говорили по-эстонски. Обедали они отдельно от нашей семьи, по два-три человека. Стол сервировался по всем правилам, на белой скатерти с салфетками. Бабушка подавала и разливала. Думаю, что до революции была горничная и, возможно, кухарка. Сама бабушка готовила замечательно. Пироги и различная выпечка, самодельные колбасы и ветчина, самодельная лапша и звездочки для супов, исключительно вкусное мороженое – все это мне особенно запомнилось. В значительной мере бабушкино хозяйство было натуральным. Кроме огорода и картошки она содержала кур и уток, порой тех и других одновременно, по полтора-два десятка. По весне бабушка сажала кур-наседок, одну – на куриные, другую – на утиные яйца. С цыплятами было все в порядке, а вот утята очень огорчали свою наседку-курицу. Через несколько дней они уже бегали вереницей на пруд, плавали там и ныряли, а бедная наседка в панике кудахтала на берегу. В курятник, случалось, наведывался хорек. Бывало и воровство. Помнится, в охране поголовья принимала участие собака Белка. Помогал, наверное, и я, иначе память не сохранила бы многих впечатлений о нашем домашнем хозяйстве и живности. Помню, например, как вылуплялись цыплята и утята, какие были мокренькие, как подсыхали и трепыхали голыми крылышками. Очень хорошо помню, как бабушка выкармливала больших жирных уток, насильно заталкивая в них корм круглой палочкой. Сидя на скамеечке, она по очереди зажимала уток между колен, левой рукой держала их за голову и открывала клюв, а правой – заталкивала им в глотку куски. Утки, естественно, сопротивлялись, но бабушка была неумолима. Зато утки были так жирны, что едва ходили вперевалку, а их гузки волочились по земле. Кроме птиц бабушка выращивала поросенка, которого ждала похожая участь: он вырастал до громадных размеров и вообще не мог ходить от тучности. Живность бабушка содержала в утепленном сарае за нашим домом. Поросенка колол и разделывал специально приглашенный мясник с помощью деда или Отца там же, в сарае. Тушу подвешивали за задние ноги на балку и свежевали, кровь и потроха собирали в корыта и тазы. В это время была занята не только вся семья, но и многие соседи. Как я теперь понимаю, ничего не пропадало, включая кожу и даже щетину (последнюю дед использовал для изготовления дратвы со щетинным острием). Кишки промывались и шли на изготовление колбас, другие внутренности – для ливерных колбас и паштетов. Окорока коптились и запекались. В нашей кухне, да и во всем доме, дым стоял коромыслом. Коронным номером этой суматохи было изготовление кровяных колбас, которые любили все, особенно дед и Отец. Колбасы приготовлялись вареные и копченые, нескольких сортов. Особенно запомнилась мне кровяная колбаса с гречневой кашей (крупой). Увы, таких колбас мне больше пробовать не доводилось. Дед Эрнст рано поседел, но его лицо долго оставалось свежим и жизнерадостным. Где-то в 1936–1938 годах дед тяжело заболел (паркинсонизм, как я теперь понимаю) и впал в немощь. Он с трудом передвигался, руки и голова у него тряслись, его приходилось кормить с ложечки. В 1939 году, во время позорной финской войны, дед умер в своей постели. На Богословское кладбище его провожали кроме родственников много незнакомых мне пожилых людей, мужчин и женщин. Произносились трогательные поминальные слова, звучала эстонская речь. По моим оценкам, дед Эрнст прожил на свете 67 лет. Бабушке Марии, кормилице нашей семьи, суждено было спасти нас (Маму, меня и брата Эдика) от голодной смерти в 1942 году. Она устроилась работать уборщицей в продовольственный магазин на 2-м Муринском пр. Там она кроме уборки помещений по вечерам собирала крошки из хлебных ящиков и остатки муки и крупы из уголков мучных и крупяных мешков. Свою добычу она приносила домой и пекла нам лепешки. Потом она простудилась и осенью 1942 года, в самый тяжелый период блокады, умерла дома от воспаления легких. Думаю, что организм ее ослаб не столько от голода, сколько от тоски и потери надежды на свидание с сыном Оскаром. Мы с Мамой завернули бабушку в простыню, отвезли на Богословское кладбище и сами похоронили в могилу деда, сверху. Кроме нас, никто больше ее не провожал. Спустя 20 лет, в 1963 году, рядом с могилой деда копали могилу для нашего дальнего родственника (В.Л. Теодоровича). Могильщики нарушили границу и потревожили прах бабушки. В куче песка обнажились череп и кости, их скинули на дно могилы и присыпали землей. В этот момент я был там и еще раз хоронил бабушку Марию. Дед Николай и Танточка Мой дед со стороны матери Николай Константинович Туссин происходил из многодетной семьи мелких петербургских служащих. Родился он предположительно в 1873 году. Какого-либо специального образования дед Николай, по моим сведениям, не получил и был мелким служащим, счетоводом или делопроизводителем. До революции он работал какое-то время в Петербургском дворянском собрании, о чем иногда с гордостью вспоминал. Вместе с тем дед Николай был человеком начитанным, особенно в области русской истории, знал и помнил много фактов и исторических дат, был интересным рассказчиком. В мою душу дед вошел как большой любитель природы, страстный грибник и заядлый рыболов. Именно от него я воспринял и унаследовал эти увлечения. Если с дедом Эрнстом я любил мастерить в его комнате, то с дедом Николаем я еще больше любил бродить по лесам и полям, собирать грибы, слушать жаворонков, а также ходить с ним на утренних зорях на речки и озера с удочками, ловить плотву и окуней. Хочется думать, что и дед в эти часы нашего с ним уединения бывал счастлив. Судя по старым фотографиям, дед Николай в молодости был красивым брюнетом с коричневыми глазами. В моей памяти он сохранился уже пожилым, с глубокими морщинами на лице и с язвой желудка. Теперь я понимаю, что жизнь давалась деду Николаю очень нелегко. Недаром Шопенгауэр в трактате о старости писал, что «морщины являются более верным признаком пережитого, чем седины, хотя часто говорят о почтенных сединах и никогда – о почтенных морщинах».  Дед Н.К. Туссин, около 1900 г. Переживания не ожесточили деда, и он оставался человеком очень добрым, не лишенным чувства юмора. Помню, мы рыбачили с ним на маленьком озерце, ловили плотву и окуней со старой плоскодонки. Увлеченный клевом, я неосторожно дернулся и лодка опрокинулась. Дед, путаясь в водорослях, вытащил меня на берег и весело смеялся. «Ну и леща ты поймал», – восклицал он. Еще помню некоторые его поговорки. «В сахаре и портянка хороша», – любил говорить он, когда за едой кто-нибудь посыпал кашу сахаром. Яркой чертой деда Николая был его неистовый патриотизм. Как большинство людей прошлого века, он не любил советскую власть, но за родину, за Россию всегда стоял горой. О семейной жизни деда Николая сохранился любопытный документ – приглашение на его свадьбу, которое рассылала его мать, Юлия Петровна, моя прабабушка. На тисненной золотом карточке значится: «Юлия Петровна Туссина покорнейше просит Васъ пожаловать на бракосочетанiе сына своего Николая Константиновича Туссина съ девицею Ольгою Павловною Молодцовою, имеющее быть въ полковой церкви 29-го сего октября, въ 5 часов вечера, а оттуда въ домъ Берхманъ для поздравленiя». Дом Берхманов – это дом сестры деда, Марии, удачно вышедшей за состоятельного человека Берхмана, по слухам, шведа и дворянина.  Бабушка О.П. Туссина незадолго до смерти. 1927 г. Ольга Павловна, моя бабушка, родила деду трех детей: Людмилу, Бориса и Юлию (мою Маму). Людмила умерла от болезни подростком. Борис и Юлия были очень похожи на своего отца, оба они унаследовали от него замечательные коричневые глаза. Бабушку Ольгу я не застал, она умерла в 1927 году, в год моего рождения. Похоронена она на Парголовском кладбище рядом со своей дочерью Людмилой. Сохранилась фотография этих могил, их часто посещала Мама. До войны бывал там и я, но много позже мне не удалось их найти, и ныне они забыты. Дед Николай женился второй раз, но детей больше не имел. Его вторая жена Ольга Федоровна, как мне представлялось в детстве, происходила из «богатых и бывших». Слегка чопорная дама, она любила кружева, серьги, бусы и кольца. Еще она любила играть в преферанс вместе со своей сестрой и ее мужем. Игра происходила частенько и в нашем доме. Компанию преферансистов я почему-то не любил и к Ольге Федоровне относился с подозрением, хотя теперь, глядя на старые фотографии, нахожу, что у нее было простое и вполне приятное лицо. Дед Николай с Ольгой Федоровной жили на ул. Чайковского, д. 24, в одной квартире со своей сестрой Еленой Константиновной Туссиной. В 1942 году дед тихо скончался на своей постели в холодной квартире от дистрофии. Я видел его за день или два до смерти и хорошо запомнил, как он, пытаясь подняться на грязных подушках, жадно расспрашивал Маму о положении на фронте: «Как там наши?». На кое-какую еду, принесенную нами (мы шли из Лесного пешком), дед не обращал внимания. Он выглядел, как живой скелет. Ольга Федоровна тоже лежала, но в отличие от деда была опухшей до неузнаваемости. Мама считала, что Ольга Федоровна съедала паек мужа. Не берусь судить, может быть и так. Деда Николая, как и бабушку Марию, мы с Мамой похоронили без гроба на том же Богословском кладбище, рядом с могилой деда Эрнста. Помню, что мы долго везли деда на саночках, устали, а потом еще копали могилу, совсем неглубокую, едва ли в метр. Запомнился мне с той зимы Литейный мост, который я впервые переходил пешком. Решетка моста была местами разрушена. А саночки с дедом ехали с моста сами. Особого рассказа заслуживает младшая сестра деда Николая Елена Константиновна Туссина, родившаяся 17 апреля 1885 года. Я знал ее и общался с ней около 40 лет, дольше всех других моих родственников из поколения дедов. Фактически она пережила всех, включая поколение моих родителей, и ушла последней. Я обязан ей очень и очень многим. По профессии Елена Константиновна была учителем русского языка и литературы, до революции в гимназиях, а после революции в старших классах средних школ. В молодые годы она бывала за границей, в Берлине и Париже. Человек волевой, решительный и исключительно честный, она всю жизнь была учителем и советчиком не только своих многочисленных учеников, но и всей родни, включая племянниц и внучатых племянников. Немного деспотичная, она всегда держалась с достоинством и производила величественное впечатление. Скрывая некоторую полноту, Елена Константиновна всегда одевалась в черное и казалась крупной женщиной, хотя на самом деле была среднего роста. Помню, она со смехом рассказывала, как однажды в трамвае маленькая сухонькая старушка стучала ее кулачком по спине и гневно кричала: «Да пропустите же меня, Вы, большая черная куча!».  Т.К. Туссина (Танточка). 1950 г. Характер и нрав Елены Константиновны были не слишком миролюбивы. С ней порой бывало трудновато. Возможно, это объяснялось тем, что она не имела семьи и всю жизнь прожила одинокой. Обстоятельства ее личной жизни мне неизвестны, о них можно только догадываться. На ее письменном столе до последних лет жизни стоял портрет молодого офицера в красивой бронзовой рамке, состоящей из рельефного переплетения оружия и рыцарских доспехов. Полагаю, офицер погиб в войне 1914–1916 годов. Замечу, что этот портрет, равно как многие другие вещи и все бумаги, таинственным образом исчезли после ее смерти. С Еленой Константиновной ученикам было порой трудно, даже страшновато, но зато всегда интересно. Ее суждения и оценки часто звучали резко, иногда парадоксально, но производили впечатление. Это был, возможно, один из ее педагогических приемов – удивлять учеников. Она любила и умела учить подростков и юношей, была добра, когда все было хорошо, называла учеников ласково – «голубок», «птица», «ягода». Так обращалась она и ко мне, причем делала это не слащаво, а как-то очень естественно, от души. Ласковые эти обращения всегда находили отклик, мне они были очень приятны. Много позже, когда мне самому перевалило за пятьдесят, я ощутил потребность в ласковых словах и как-то само собой на языке оказались те самые, которые говорила мне когда-то Елена Константиновна. Теперь я обращаюсь с ними к своим малым детям и хочу надеяться, что они в свою очередь вспомнят когда-нибудь эти слова. Но Елена Константиновна отнюдь не всегда была доброй и ласковой. Она моментально превращалась в фурию, если только встречала обман, хитрость или даже лукавство. Крайним выражением ее негодования был в таких случаях переход на Вы: «Юноша, Вы лжете!» Она не терпела хамства и развязности, была непримиримым противником спиртных напитков (сама она всю жизнь не пила ни вина, ни даже виноградного сока). В этих ее качествах было что-то религиозное, хотя в Бога она, по-видимому, не верила. Я не помню, чтобы она молилась или ходила в церковь, но маленькая икона в ее комнате висела. Будучи учителем старой школы, Елена Константиновна никогда не приняла полностью советскую власть, не верила вождям, не любила советских классиков (Маяковского, Горького, Шолохова), не пропагандировала литературу советского периода. «Все вернется, и ять вернется», – говорила она мне неоднократно. Четыре племянницы Елены Константиновны, их мужья, два племянника, позже семь внучатых племянников и их жены, еще позже четыре правнучатых племянника – все звали ее Танточкой. Tante – это тетя по-немецки и на Вы. В устах 25 представителей трех поколений обращение Танточка (писалось с большой буквы) звучало как имя собственное и всегда удивляло людей посторонних. Помню, мы ехали с Танточкой в поезде и разговаривали. Соседка в купе долго прислушивалась, а потом спросила меня шепотом, кто мы друг другу и почему я зову пожилую женщину Танточкой. Самой же Елене Константиновне, судя по всему, нравилось, что все родственники называют ее Танточкой. Таким образом она избежала звания бабушки и прабабушки, оставаясь вместе с тем старейшиной рода. Танточка работала учителем около 60 лет, была награждена орденом Ленина. В моей судьбе она сыграла очень важную, если не решающую роль. После ареста Отца моя Мама с двумя детьми влачила нищенское существование, не получая никакой пенсии или пособия. Мне пришлось работать с 15 лет (с 1942 по 1946). Одновременно в течение трех лет я учился в вечерней школе и окончил ее с большим напряжением сил. Брату к этому времени было 10 лет. О продолжении моего образования не могло быть и речи. На небольшую мамину зарплату мы не смогли бы прожить. Здесь вмешалась Танточка. Она предложила Маме ежемесячную денежную помощь с тем, чтобы я получил высшее образование. Ее денежная помощь продолжалась около шести лет и позволила, вместе с моей стипендией, сносно существовать нашей семье до тех пор, пока я не стал инженером. Танточка помогала и дальше, но уже Эдику, заботясь и о его высшем образовании. Она помогала в разные годы всем своим внучатым племянникам почти до самой смерти. На 90-м году жизни у Танточки приключилась старческая гангрена на большом пальце ноги. Болезнь не сразу заметили, а когда схватились, то надо было отнимать ногу у бедра. Танточка решительно отказалась и 5 марта 1975 года умерла от общего заражения крови, не дожив около полутора месяцев до своего 90-летия. Совесть моя не спокойна. Я не нашел в себе мужества и сил забрать Танточку к себе домой и организовать за ней уход. После отказа от операции Танточку, уже впавшую в бредовое состояние, из больницы определили в дом инвалидов в Пушкин, где она и скончалась. Она не раз говорила, что не боится смерти. «Если бы Господь велел – шагни и ты умрешь, я бы сразу шагнула, – говорила она, – но только без мучений». Однако Господь распорядился иначе: последнюю неделю или две она жестоко страдала и кричала от боли. Танточка похоронена в Пушкине на Казанском кладбище. На ее могиле ученики, выпускники довоенных и первых послевоенных лет, сами уже пожилые люди, установили плиту с надписью «От благодарных учеников. Вся гордость учителя – в учениках, в росте посеянных им семян». Отец и Мать Мой Отец Оскар Карлович Кобак родился в Петербурге в 1900 году и был единственным ребенком деда Эрнста и бабушки Марии. Сохранились его детские фотографии, на них видно, что потомки (я и мои сыновья) в соответствующем возрасте очень на него похожи. Отец до революции окончил Лесное коммерческое училище. После революции какое-то время, видимо, было не до учебы. В 1923–1928 годах Отец учился в Лесотехнической академии (в ту пору Лесном институте), но закончить академию ему не удалось. Скорее всего, его просто не заинтересовала специальность лесного инженера. В 1926 году он женился, а в 1927 появился на свет я. Начиная с 1928–1929 годов, Отец увлекся фотографией и посвящал ей все свое время. Однако какие-то обязательства перед академией у него оставались, и в 1931 или 1932 году он был направлен в Казань на лесопильный завод. Мы с Мамой тоже жили там несколько месяцев. Отец там не задержался. Возвратившись в Ленинград, он продолжил занятия фотографией и вскоре стал профессиональным фотографом.  О. Кобак, ученик 2-го класса Лесного коммерческого училища. 1909 г. Его специализацией были главным образом большие репродукции, фотомонтажи, юбилейные фотоальбомы, фотовыставки, фотореклама. Помню, как Отец делал большие рекламные отпечатки кадров из кинофильмов. Это было очень интересно для всех домашних, особенно для меня. Тогда в кино играли молодые Черкасов, Жаров, Жеймо и другие выдающиеся актеры. Меня не пускали в кино, но я знал фильмы «Волга-Волга», «Чапаев», «Горячие денечки», «Вратарь республики» и другие по отцовским фотографиям. Работал Отец на дому, в маленькой фотолаборатории, отгороженной в углу столовой комнаты. Отпечатки глянцевались на больших стеклах прямо в комнате. Пальцы Отца были всегда желтыми от проявителя. Я иногда помогал Отцу, но в целом его дело меня почему-то не заинтересовало. Более того, и в дальнейшем я относился к фотографии безразлично. Лишь к 50 годам занялся цветной стереофотосъемкой с помощью самодельного аппарата. Отец много занимался любительской фотографией для семьи и друзей. Особенно удавались ему портреты Мамы, которая была в молодости очень фотогеничной и потому любила позировать. Для любительской съемки Отец использовал аппараты «Фотокор» и «Турист» (с фотопластинками 9 ? 12), а в конце 1930-х годов обзавелся зеркалкой (с фотопластинками 4,5 ? 6).  Главное здание Лесотехнической академии. 1930 г. Появившиеся в ту пору пленочные аппараты «Лейка» и ФЭД были Отцу не по карману. Многие из любительских снимков Отца, по моим представлениям, стояли на уровне лучших художественных фото того времени. Они и сегодня выглядят прекрасно. Берусь об этом судить, потому что видел много хороших фотографий в журналах «Пролетарское фото» и «Советское фото», которые Отец выписывал, читал и хранил. Отец был физически крепким и сильным мужчиной, обладал прекрасной мускулатурой, немного занимался атлетизмом (по-теперешнему культуризмом), хорошо бегал на коньках и лыжах. По характеру очень общительный, он любил загородные вылазки, пикники, застолья с закадычными друзьями. Друзей было много, и временами отец злоупотреблял спиртным, но забота о доме и семье в конечном счете всегда брала верх. Отец принадлежал к тому типу людей, для которых главное семья. Возможно, таких людей большинство, в их число вхожу и я. Ближайшими друзьями Отца и Мамы был Федор Михайлов с женой Еленой и двумя детьми Ириной и Юрием, а также Василий Миронов с женой Варварой, дочерью Надеждой и двумя свояченицами Шурой и Дорой. Василий хорошо играл на гитаре, а Федор пел. Веселая и счастливая компания 1930-х годов чаще всего отдыхала в Вырице и Поселке на реке Оредеж. Глядя на фотографии, трудно поверить, что семья Михайловых вместе с детьми погибла от голода в 1942 году. Семья Мироновых уцелела, но связь с ними прервалась после смерти Мамы, на похороны которой они почему-то не пришли. Так распался круг друзей, которые не смогли помочь друг другу, когда счет пошел на жизнь.  Отец во время работы в фотолаборатории. 1930 г. Отец был арестован в начале войны, ориентировочно в ноябре 1941 года. При аресте и обыске я не присутствовал, видимо, меня берегли по молодости лет. По каким-то признакам Отец, видимо, догадывался о предстоящем аресте. У нас в доме хранилось огнестрельное оружие времен революции и Гражданской войны. Отец его не сдал, хотя был строжайший приказ, запрещавший хранение не только огнестрельного, но и холодного оружия. Буквально за несколько дней до ареста Отец пришел домой, провел меня в погреб, на моих глазах глубоко закопал там оружие и замаскировал следы. При обыске закопанного оружия не нашли, но обнаружили и забрали морской кортик с ручкой из слоновой кости, висевший у нас на стене в качестве украшения. Суд военного трибунала (тройка) определил Отцу 10 лет с конфискацией имущества за злоупотребление служебным положением и хранение оружия. Приговор оказался равносильным смерти.  Натюрморт «Графин». Фото О. Кобак. 1932 г. Оружие (маузер, пистолет и еще какая-то штуковина с оптическим прицелом) так и осталось в подвале, под толстым слоем земли, битого кирпича и обломков фундамента нашего разрушенного дома. Теперь мне кажется, что эпизод с закопанным оружием был попыткой провидения, второй по счету, спасти моего отца. А первая попытка представляется совсем мистической. Незадолго до ареста Отца ко мне зашел мой товарищ, одноклассник Коля Алексеев. Он был страшно худ и печален. Мы поговорили о чем-то. Помню, меня поразили его спокойные слова о возможной смерти. Уходя, Коля вдруг сказал, глядя на стену, где висел кортик: «Подари мне, пожалуйста, этот кортик на память». Кортик не принадлежал лично мне и я, конечно, отказал, подумав, что от голода он лишился рассудка. Через некоторое время я узнал, что Коля умер. Зачем ему, умирающему подростку, вдруг захотелось иметь этот кортик? И почему мне, тоже дистрофику, стало жалко этого кортика? Честно говоря, я мог подарить ему кортик и тем, возможно, спас бы не только Отца, но и Колю. Но не подарил. Первая попытка не удалась. Не удалась и вторая. В 1942 году Отец оказался в Унжлагере[6] и умер, скорее всего, от голода. В ноябре 1995 года я получил справку из МВД о том, что Отец умер в Унжлагере Нижегородской области 26 декабря 1942 года от пеллагры. Где-то там и находится его могила. Характерная деталь: в 1942 году, в разгар голода, заключенных вывезли из блокадного Ленинграда, очевидно, вместо какого-то числа детей и женщин. Теперь стало известно, что в 1942 году началась массовая депортация малых народов из Ленинградского региона. Изгонялись и вывозились ингерманландские финны, немцы и прибалты. Не исключено, что скорая расправа с Отцом была осуществлена в ходе этой кампании. Печать сына осужденного, вдобавок эстонца, я ощущал на себе всю жизнь.  Отец. 1932 г. Последние воспоминания об Отце и доме моего детства связаны с эпизодом блокадной зимы 1942–1943 годов. Наш дом ломают, второй этаж уже разобран, наша квартира опустела, валяются брошенные старые вещи и рухлядь, хрустит битое стекло. Я открываю отцовский чулан под лестницей. Там по всем стенам от пола до потолка полки, заставленные фотонегативами. Их невообразимое множество, пачки и коробки с датами 1920—1930-х годов. Что с ними делать? Везти их на новое место жительства нет сил. Я открываю крышку подвала. Там Отец закопал оружие, я помню. Беру пачку негативов и с размаху швыряю в подвал. Потом еще и еще. Негативы бьются, скатываются по лесенке. На дне подвала образуется куча битого стекла. Меня охватывает мерзкий азарт уничтожения. Вот, наконец, в подвал летит последняя пачка. Сегодня, через 50 с лишним лет, я понимаю: тогда погиб ценный отцовский архив. Почти одновременно погиб и сам Отец, а после смерти Мамы померкла память о нем.  Мама в возрасте 21 года. 1925 г. Моя Мама, Юлия Николаевна, в девичестве Туссина, родилась 5 марта 1904 года в Старой Руссе. Это родина бабушки Ольги Павловны. По-видимому, она уехала из Петербурга к своим родителям на время родов. Мама получила только общее среднее образование, но русский язык знала хорошо, по-видимому, стараниями Танточки, любимой племянницей которой она была. Танточка поддерживала в роду Туссиных интерес к российской словесности, ставила домашние спектакли, проводила домашние чтения вслух и декламации. Мама неизменно участвовала в этих мероприятиях и развивала свою природную артистичность. Она была шатенкой небольшого роста, слегка полноватая, но очень ладная и красивая, с коричневыми дедовскими глазами. В юности одноклассницы и подруги звали ее Туся, что, по-моему, так же хорошо подходило к ней, как и имя Юля. Она имела склонность и способности к рисованию и вообще к искусствам, в частности к вышивке. Училась некоторое время в балетной школе, а позже работала во ВХУТЕМАСе (Всероссийские художественно-театральные мастерские).  Отец и Мама в день свадьбы. 1926 г. Многочисленные фото дают представление о ее внешности. Но главными были, конечно, свойства характера. Веселый нрав, доброта и общительность всегда привлекали окружающих. Не любить ее было невозможно. Это утверждали все, кто ее знал. В 22 года Мама вышла замуж и посвятила всю жизнь семье и детям. Она была создана для счастливой семейной жизни, любила и была любима, но счастливое замужество длилось недолго, всего 15 лет.  Отец Оскар Карлович и Мама Юлия Николаевна. 1938 г. Война разбила стеклянную свадьбу. В 1941 и последующих годах прежде прекрасное ее лицо прорезалось морщинами, волосы поседели, глаза потухли. С 1943 по 1954 год она работала на заводе телефонисткой, сначала на телефонной станции, а потом на пожарной сигнализации. К этому времени у нее развилась тяжелая форма гипертонии, даже произошел микроинсульт с временным параличом половины тела. Я уговорил Маму бросить работу, но понять грозное предупреждение моего ума не хватило. Она вела домашнее хозяйство, ходила в магазины, кормила внуков, Эдика и нас (я женился в конце 1951 года, сын Саша родился в конце 1952, а сын Коля – в конце 1955). Нагрузка на маму была слишком большой. В довершение всего летом 1957 года мы отправили Маму с Колей к родственникам в Куйбышев одну, без сопровождающих. Билет был с прямой плацкартой, но требовалась пересадка в Москве. При переходе с Ленинградского вокзала на Казанский у Мамы произошел тяжелый инсульт, и она умерла в ближайшей больнице, не приходя в сознание. Колю, которому было тогда полтора года, подобрала милиция и направила в детский приемник. Мы с женой прилетели в Москву по телеграмме главврача больницы на следующий день, но Маму уже не застали. Она умерла 17 июня 1957 года и была кремирована в Москве. В последний путь ее провожали мы с женой и маленький Коля. Урна с прахом захоронена в могилу деда Николая Константиновича на Богословском кладбище. Мама прожила на свете 53 года. Ее смерть, наверное, самый тяжелый мой грех. Брат Эдуард Мой брат Эдуард появился на свет 23 января 1936 года. Помню, как в морозный и солнечный день мы с Отцом поехали с букетом цветов за мамой и братом в Педиатрический институт. Ехали мы на такси, в автомобиле М-1, что для нашей семьи представлялось роскошью. Когда усаживались в машину с Мамой и младенцем, мне дверцей прищемили палец. Было очень больно, но зато встреча ярко запечатлелась в моей памяти. Появление младенца, конечно, отразилось на моем семейном статусе. Основные заботы доставались Эдику, а про меня иногда забывали. Как и я, Эдик рос домашним ребенком под присмотром Мамы и бабушки. К сожалению, дед Эрнст уже не мог нянчить маленького внука, он сам стал беспомощным и вскоре умер. Но главная беда ждала нас впереди: война и арест Отца.  Брат Эдик в возрасте двух с половиной лет. 1938 г. Когда началась блокада, Эдику было 5 лет, мне 14. Голод пришел в нашу осиротевшую семью. Роль наркома по продовольствию взяла на себя Мама. Она очень строго делила еду по кучкам и раздавала каждому свое. Себе, разумеется, меньше всех. Эдик не очень страдал от голода, по крайней мере первое время. Ему хотелось, чтобы я с ним больше играл, а я соглашался играть только в обмен на корочки хлеба или крошки другой еды, которую Эдик тайком от Мамы отделял от своей порции и прятал в карманы для меня. Так происходило некоторое перераспределение продуктов. Так младший брат, ребенок, спасал меня, подростка.  Брат Эдик в трехлетнем возрасте. 1939 г. Эдик был светло-рыжим, с золотистыми волосами и белой не загорающей на солнце кожей. Из-за значительной разницы в возрасте мы с ним, к сожалению, не успели сблизиться. Он окончил Лесотехническую академию, что не удалось в свое время нашему Отцу. Женился на однокурснице, как и я, но только на 10 лет позднее, когда Мамы уже не было в живых. Он очень любил лес, охоту, рыбалку, таежное житье. Занимался лесоустройством, часто бывал в экспедициях в Сибири и на Дальнем Востоке, был сильным и выносливым. Но незаметно к нему подкрадывалась тяжелая болезнь, начались мучительные головные боли. Последняя его поездка была недалекой – в Питкяранту на северо-восточном берегу Ладоги.  Брат Эдик в 1947 г. Длительное обследование привело к страшному диагнозу: мозговая опухоль. Эдик перенес две операции на мозге, испытал невыразимые страдания, лишился речи, оказался парализованным инвалидом. Болезнь длилась около шести лет. Заботы о больном мы с его женой Кирой и моей женой Ириной, как могли, поделили между собой. Нам помогали две старушки: Кирина мать Прасковья Михайловна и моя соседка тетя Шура. Мы переживали тяжелые для всех годы, особенно для Киры. Мы не нашли другого выхода, и последний год Эдик провел в психоневрологическом интернате, проще говоря, в доме инвалидов у Смольного. Этот дом существовал еще до революции под патронажем Института благородных девиц. Увы, в Смольном уже не было благородных девиц, а дом стал пристанищем пронзительной человеческой беды. Эдик скончался там 20 марта 1975 года, на 39-м году жизни. Последние месяцы он уже не имел контактов с внешним миром. Его прах, как и прах нашей мамы, захоронен в могилу деда Николая на Богословском кладбище. Болезнь Эдика пробудила и обострила во мне родственные чувства. Я старался, как мог, облегчить его участь, питал его и себя надеждами на выздоровление, настраивал его на борьбу с болезнью. После первой операции по удалению опухоли с помощью своего приятеля Э.Е. Томашевского я вывез Эдика летом 1971 года в деревню Гонгничи Подпорожского района. Эдик в тех местах когда-то работал по лесоустройству. Он верил, что чистый воздух, парное молоко, свежая рыба, ягоды и грибы помогут ему излечиться. Вначале все так и было, но осенью болезнь ожесточилась. После второй операции Эдик уже не встал, и никаких надежд более не возникало. Незадолго до смерти Эдика, 5 марта, умерла Танточка. Две потери в один месяц, предшествующие им тяжелейшие болезни и страдания умирающих, наверное, ожесточили мою душу. Я почувствовал бесцельность и одиночество своего существования, свою ненужность в семье. Наметившийся разлад с женой Ириной Васильевной постепенно углублялся. У нее были свои несчастья: прогрессирующая глухота, потом смерть матери, болезнь отца. Сил для взаимной поддержки у нас обоих не хватило. Жизненные обстоятельства сложились так, что в 1978 году, в 50-летнем возрасте, я отказался от всего прошлого и нажитого: от созданного за многие годы дома, от довольно высокого служебного положения, от старых друзей и даже в какой-то степени от детей. Правда, дети потом вернулись, друзья частично тоже, но многое утрачено навсегда. Наша семья существовала 26 лет, прошла молодость, прошла и зрелость. Были трудности, но были и прекрасные, светлые дни. Я не жалел и не жалею ни секунды о произошедших со мной переменах, но глубоко скорблю о том, что в жизни нередко счастье одних совершается за счет несчастий других. Страдальческая смерть Ирины Васильевны стала еще одной моей бедой. Умом я понимаю, что в преждевременной смерти Отца, Мамы, брата, Ирины Васильевны прямой моей вины нет. Но совесть неспокойна: вовремя не позаботился, не уберег, не подумал, не сумел, был слишком занят собой. Довоенное детство (1927–1941) Воспоминания моего детства, как правило, не связаны со степенью значимости событий для дальнейшей жизни и определяются в основном степенью эмоционального воздействия в тот момент. Радостные впечатления запоминаются лучше и чаще, чем грустные. Это свойственно не только детству, молодости, но и зрелому возрасту. На мой взгляд, тем самым в человеке генетически закладывается и поддерживается природный оптимизм. Например, дети и подростки обычно не помнят или очень смутно помнят похороны даже близких родственников. Детская память не воспринимает горя. Будь иначе, можно было бы сойти с ума.  Юлия Николаевна с сыновьями Валей и Эдиком. 1939 г. Картина детства в целом представляется мне ярким и веселым праздником, изредка прерываемым недолгими огорчениями. В самом деле, выдран я был, кажется, только однажды, когда прицепился к телеге извозчика (их называли гужбанами), уехал далеко со двора и долго отсутствовал. Заметных травм пережил лишь две-три на руках и одну на лице, когда мне рассекли губы льдиной (не успел увернуться). Родителей вызывали из-за меня в школу тоже всего один раз: на уроке пения в последнем ряду я самозабвенно распевал: «Мы мирные люди, сидим на верблюде…» вместо: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд…» Завуч подкрался сзади и, торжествуя, выволок «контру» с урока. Были, конечно, болезни, из которых особенно запомнились две. Несколько предвоенных лет меня мучили жестокие приступы бронхиальной астмы. Приступы случались по ночам, я задыхался, першение в груди вызывало неудержимый кашель. Мама дежурила около моей кровати, давала лекарства, подкладывала высокие подушки, давала курить лечебные папиросы «астматол». Днем я чувствовал себя хорошо и летом на даче тоже. С началом войны моя астма пропала бесследно. Вторая болезнь, как считала Мама, – это гланды (миндалины), вызывавшие у меня частые ангины. В результате примерно в 9 лет была проведена операция, которую я хорошо запомнил. Резала известная в то время врач Гелярова в 14-й поликлинике у Круглого пруда. Кому пришлось перенести эту операцию, тот знает, насколько она кровава. По-видимому, я так орал и брыкался, что Геляровой не удалось закончить операцию в полном объеме. Родители, не давайте резать своим детям миндалины! Не травмируйте детей! Вот, пожалуй, и все проблемы детства, остальное – праздник. <…> Возвращаясь в детство, вспоминаю прежде всего чувство защищенности и уют родительского дома. Как много это значило! Конечно, бывали трудности, бывали и слезы, мои собственные и даже Мамины, которые особенно меня травмировали. Но в целом были уважение, согласие и любовь. Так что я считаю свое детство (до 1941 года) безусловно счастливым.  Юлия Николаевна с сыном Валей. 1932–1933 гг. Некоторые воспоминания кажутся мне сейчас особенно приятными, умиротворяющими. Например, чтение книг, вернее, разглядывание иллюстраций. Книг было много, среди них меня привлекали «Русская военная сила» (в двух томах), «История Земли» (в двух томах), «Вселенная и Человечество», «Путешествие натуралиста» Дарвина, «Научные развлечения» Тома Тита, басни Крылова, баллады Жуковского, стихотворения Лермонтова и др. В детскую память врезались и такие, казалось бы, незначительные события, как топка печей зимой. Отец приносил из сарая охапку березовых поленьев, щепил большим ножом лучину, отдирал кору. Поленья аккуратно укладывались в печь стоймя, потом так же аккуратно размещалась растопка – лучина и березовая кора. Зажигать растопку иногда доверяли мне. Тяга была хорошая, и вскоре поленья начинали весело трещать. Тогда дверцы печи (их было две – внутренняя гладкая и наружная узорчатая, обе без каких-либо отверстий) плотно закрывались, а поддувало приоткрывалось. Самое интересное происходило через час-полтора. Дверцы печи открывались, и взору представало раскаленное чрево. Я садился на низкую скамеечку поодаль от печи и наблюдал, как жаркие, почти белые угли постепенно краснели, становились вишневыми, подергивались пеплом. Над углями начинали прыгать голубые огоньки, потом они исчезали; это означало, что сгорели последние остатки угарного газа. Можно было закрывать дверцы и заслонку трубы. Вся эта процедура, когда я ее вспоминаю, волнует меня до сих пор. Нечто подобное я неоднократно испытывал около ночных туристских костров. Огонь завораживает человека, это хорошо известно, но, по-моему, еще больше завораживают его угасающие угли.  Пикник на Муринском ручье. 1937–1938 гг. В связи с печами не могу не вспомнить исчезнувшую ныне профессию трубочиста. Трубочисты меня, как и большинство детей, привлекали и очень интересовали. Они лазили по крышам и были почти сказочными персонажами. В штате ЖАКТов трубочисты не состояли и были свободными тружениками, вроде стекольщиков и точильщиков, ходивших тогда по дворам (изредка они попадались и в послевоенное время). Стекольщики таскали плоский ящик со стеклами на ремне, точильщики – точильный станок с ножным приводом, а трубочисты имели при себе моток черной веревки с гирькой, веник-голик и большую поварешку с длинной ручкой. Одежда на трубочистах была всегда черной, а улыбка – белозубой. Всех бродячих мастеров детвора встречала и провожала с восторгом. В начале 1930-х годов дети не ходили в детские сады, по крайней мере из нашего двора. Родители пытались иногда организовывать домашние кружки из 2–3 детей под руководством старушек (гувернанток), преподававших нам немецкий язык, фортепиано, рисование. Но эти кружки быстро распадались. Основное время мы росли во дворе и были относительно свободны. Любимыми нашими играми были обыкновенная лапта (с битой), круговая лапта (с двумя водящими), штандер, прятки, казаки-разбойники. Постарше мы часто играли в рюхи и крокет. Эти игры нам выдавались и поддерживались в порядке семьей Василия Ивановича Семенова. Велосипедов у нас тогда не было, но зато были самокаты, на которых мы носились по всему двору.  Пересечение Институтского проспекта и Объездной улицы. 1930 г. Учились мы все во 2-й школе Выборгского района на углу Институтского пр. и Малой Объездной. Кстати, 1-я школа, новая и образцовая, располагалась по Дороге в Сосновку (ныне – Политехническая ул.). Бывшее здание школы с круглой башенкой обсерватории встроено теперь в комплекс зданий Телевизионного института. Наша школа, бывшее Лесное коммерческое училище[7], помещалась в двух старых домах. Младшая ступень (до 3-го класса) училась в трехэтажном каменном доме по Объездной. Эта школа называлась «Лепта»[8], что у нас означало, образно говоря, «пузатая мелочь». Средняя и старшая ступени учились напротив «Лепты», в доме бывшего Коммерческого училища. Здание «Лепты», как мне помнится, снаружи было вполне заурядным. Внутри планировка и отделка отличались рациональностью. Мне запомнились перила на лестницах. Сияющие полировкой, из благородных сортов дерева, они были бугристыми, как бы зубчатыми. Съезжать по таким перилам верхом было невозможно. Что же касается основного здания школы, то оно было двухэтажным и соседствовало с домом Кайгородова. В центральной кирпичной части здания с большими сводчатыми окнами на обоих этажах размещались просторные залы, служившие парадными, музыкальными, танцевальными и спортивными помещениями. К центральной части справа и слева примыкали деревянные флигели, которые с краев венчались островерхими крышами. Островерхая крыша, но пониже, была и над центральной частью.  Дом Кайгородова. 1930 г. О прошлом нашей школы свидетельствовали не только старые здания, но и их оборудование, оснащение кабинетов (зоологии, географии и других). Институтский в 1930-е годы совсем не походил на проспект, был грязной немощеной улицей, примерно такой же, как Малая Объездная. Для пешеходов по правой стороне были проложены мостки. По ним-то мы и бегали в школу, стуча каблуками. Школьных ранцев тогда не было, и мы носили портфели в руках. В последний раз я прошел по мосткам в конце 1941 года, осторожно неся не портфель, а баночку жидкого супа, который получил в школе. Вскоре левое крыло школы было разрушено бомбой и частично сгорело, затем оба крыла разобрали на дрова. Рассказывали, что ломавшие школу солдаты сливали спирт из банок с зооэкспонатами и пили его под названием «ужовка», «лягушовка» и др. Не пошла в ход только «близнецовка». Центральная часть здания нашей школы, так же как и здание «Лепты», были снесены много позже, после войны. Говоря об Институтском проспекте, улице моего детства, не могу не вспомнить, что на пересечении его со 2-м Муринским проспектом когда-то был Круглый пруд. Я его не застал, пруд был засыпан, по-видимому, в середине 1920-х годов. Но перекресток и трамвайная остановка до войны (и много лет после нее) продолжали называться Круглый пруд. Мы говорили, что живем у Круглого пруда, хотя правильнее было бы говорить, что мы живем у Серебряного пруда.  Беседка на Серебряном пруду. 1931 г. Круглый пруд засыпали при прокладке прямой линии трамвая, который раньше огибал пруд с северной стороны. Прежде на круглом зеленом островке размещались пруд, церковь, часовня и восемь раскидистых дубов. Сам перекресток для автотранспорта и извозчиков продолжал до войны оставаться круговым. Круговые участки, как и весь 2-й Муринский пр., были вымощены булыжником. Я хорошо помню дорожных рабочих, которых мне было очень жалко: в грязной и рваной одежде, с ногами, обмотанными тряпками, сидя на земле, они тесали булыжники, укладывали на дорогу, а потом трамбовали их деревянными трамбовками. Бревенчатая церковь, окрашенная в светло-зеленый цвет, с небольшой колокольней, с окнами из цветного стекла, вспоминается мне смутно[9]. Сохранилось ощущение, будто я бывал в этой церкви во время службы, видел алтарь, священника. Может быть, то были мои крестины? Церковь снесли в середине 1930-х годов, а часовню, по-видимому, еще раньше, потому что я ее не помню совсем.  Институтский проспект у дома Кайгородова. Начало 1930-х гг. Для мальчишек того времени значительный интерес представляли дубы, росшие вокруг бывшего Круглого пруда. На моей памяти их было восемь. Дубы представлялись нам большими, развесистыми и суковатыми. Мы часто лазали по их ветвям внутри кроны и собирали желуди. Часть дубов сохранялась многие годы и после войны. В 1991 году я обнаружил там только одно дерево, которое могло принадлежать к великолепной восьмерке. Ныне кольцевая планировка перекрестка полностью утрачена. О ней напоминает здание поликлиники, возведенное в 1920-е годы по оригинальному проекту, но позднее грубо надстроенное. В сотне метров от бывшего Круглого пруда, на 2-м Муринском проспекте, стоял самый большой в округе каменный дом в 4 или 5 этажей. Он стоит и сейчас, но уже давно не является самым большим. Дом как дом, коробка с аркой посредине. Мне же он памятен по многим причинам. В этом доме помещались продовольственный магазин, булочная и 19-е отделение милиции. Из магазина и булочной мы снабжались до войны продуктами питания. Других магазинов поблизости не было. Напротив дома была трамвайная остановка «Круглый пруд», около дома лепились ларьки, торговали мороженщики, гуляла молодежь, словом, здесь размещался местный Бродвей.  Выезд на пикник через Сосновку к Муринскому ручью. 1933 г. Дети 1930-х годов, как и теперешние, очень любили мороженое. Мороженщики той поры, по большей части мужчины, торговали с тележек. Мороженое представляло собой два вафельных кружка диаметром 5–6 см, между которыми зажимался слой собственно мороженого. Такая конструкция изготовлялась с помощью нехитрого приспособления прямо на глазах у покупателя. Оставалось только взять колесо двумя пальцами за вафли и катать его по языку. Наслаждение! Магазин в большем доме позже выдавал нам блокадные пайки (125 г хлеба в день на иждивенца). Стояли громадные очереди. Продукты отпускались часто по вечерам, при свете коптилок. В этом магазине работала уборщицей бабушка Мария, о чем я уже рассказывал. Позже в этом доме, в 19-м отделении милиции, я получил паспорт. Словом, большой дом имел отношение к судьбе нашей семьи. Воспоминания довоенного детства не во всем безоблачны и содержат некоторые тревожные впечатления. К ним относятся, например, разговоры взрослых вполголоса, обрывавшиеся при появлении посторонних. Смысл разговоров я иногда улавливал. С ужасом обсуждался арест Петра Федоровича, дальнего родственника по Туссинской линии. После убийства Кирова шли разговоры о множестве арестов. Во время финской войны обсуждались призывы в армию, финские снайперы-кукушки, обмороженные красноармейцы в госпиталях. Наша семья и ее друзья, кажется, не предчувствовали надвигающейся катастрофы. Жили широко, гостеприимно и весело. На фотографиях тех лет счастливые лица людей, которым было по 30–40 лет. Любимейший отдых в выходные дни – пикники, вылазки за город, в Вырицу, Поселок, на реку Оредеж или в Сосновку и за нее, к ферме Бенуа, на Муринский ручей и многочисленные мелкие озера. В ту пору эти места были совсем дикими. Там водились зайцы и лисы, гнездились утки. Замечу, что дикие обитатели Замуручья долго не хотели покидать родных мест. Брат Эдик стрелял уток за бывшей фермой Бенуа до начала 1960-х годов, а я встречал зайцев и лис на Карабсельских холмах даже в 1970-е годы. Наша семья в годы войны (1941–1945 гг.) В июле-августе 1941 года Мама пристроилась в качестве воспитателя к какому-то детскому коллективу (детскому дому или саду), забрала меня и брата и мы выехали в эвакуацию поездом в направлении Москвы. Проскочить в Москву наш состав с детьми не успел: дорога была перерезана немцами. Колонна детей в сопровождении десятка женщин, уходя от линии фронта, направилась по проселочным дорогам на северо-восток. За нами ехало несколько подвод со скарбом, одеялами и кухонной посудой. Помню, как в одной из деревень мы мылись в бане, все вместе, женщины, дети и несколько подростков, вроде меня. Женские фигуры я осознал впервые. До этого я в баню ходил только с отцом. Во время блокады в нашей круглой бане не раз потом бывало, что мужчины и женщины мылись вместе. Никого это в ту пору не волновало, лишь бы помыться. Наш пеший переход продолжался от деревни до деревни. Спали в избах и клубах вповалку, питались плохо. Больных и совсем маленьких детей устраивали на подводах. Когда мы вышли на железную дорогу Ленинград – Кириши – Будогощь, она тоже оказалась перерезанной, блокада уже началась. Нас посадили в товарные вагоны и через Мгу возвратили в Ленинград. По дороге немцы бомбили состав.  Окончание 7-го класса. Июнь 1942 г. Поезд останавливался, мы убегали в лес, потом снова карабкались в вагоны, заталкивали младших детей и ехали дальше. По сторонам дороги торчали покосившиеся телеграфные столбы с обрывками проводов и одна за другой почти вплотную тянулись разного диаметра черные воронки от бомб. Изредка попадались остовы разбитых и сгоревших вагонов. Были, конечно, раненые и убитые. В отличие от ярких эпизодов довоенной жизни эти события помнятся нечетко, как бы в дыму или сером тумане. Думаю, дело в перегрузке нервной системы, в заторможенном, шоковом состоянии 14-летнего подростка. Бессмысленный круг страха в конце концов завершился, и мы вернулись домой, не ведая о том, что ожидает нас впереди. Люди вокруг пытались делать привычные дела. Наступало 1 сентября. Почти все школы были превращены в госпитали или закрылись, но некоторые начали учебный год. Я пошел в школу на Сердобольской улице с намерением учиться в 7-м классе. Но первый день занятий оказался последним. Немцы начали бомбить школу в момент окончания уроков, когда ученики высыпали из дверей. Я был в числе первых, оказался лежащим в канаве, вокруг гремели взрывы, сыпалась земля. Когда все стихло, не чуя под собой ног, я убежал через парк ЛТА домой.  Экзаменационная комиссия. 1942 г. Через некоторое время (по-видимому, в ноябре) начались занятия в нашей школе на Институтском пр. В одной-единственной нетопленой комнате занимались одновременно 7-й, 8-й и 9-й классы по 4–6 учеников в каждом. Сидели в пальто кучками вокруг учителей, говорили вполголоса, писали карандашами (чернила замерзали) на обороте каких-то старых деловых бумаг или квитанций. После занятий каждому выдавалась порция жидкого супа. Из-за этого супа и ходили в школу. Кто-то выпивал суп сразу, я носил домой. Потом здание школы пострадало от бомбы и занятия на некоторое время прекратились. Позже нас перевели в другую школу, на проспект Раевского, за песчаным карьером. В июне 1942 года я окончил с грехом пополам 7-й класс в числе семи учеников на весь район Лесного. Так закончился для меня первый год войны и блокады. Мама как-то ухитрялась все это время кормить и содержать нас в относительном порядке. Она получала служащую карточку, я – иждивенческую, а Эдик – детскую. Только теперь я могу в полной мере представить себе страдания Мамы. В отличие от нас она понимала, что мы обречены. Но судьба распорядилась иначе. В июле я устроился учеником на завод и получил рабочую карточку. Подробностей этого события не помню, хотя оно оказалось решающим. Вряд ли в свои неполные 15 лет я отдавал себе отчет в происходящем. Кто-то меня надоумил, скорее всего, одна из школьных учительниц (но только не Мама, которая считала меня хоть и старшим, но еще ребенком). Горе, обрушившееся на нашу семью, надломило Маму, она часто плакала, пытаясь скрыть от нас свои слезы. Когда я сообщил ей, что устроился на работу, в ее слезах, наверное, появился и проблеск надежды. По поводу работы я обращался на несколько предприятий, в том числе на заводы им. Карла Маркса и «Красная Заря», но не иначе как Провидение привело меня на завод № 436. Выпавшие на нашу долю испытания не закончились. В конце 1942 года наш дом на Институтском пошел на слом. Возникла новая беда: куда и как переезжать. Нам давали комнату в Батенинском жилмассиве, но ни транспорта, ни грузчиков не было. Вот тут-то и начались чудеса. На заводе № 436, где я проработал едва ли полгода, нашлись отзывчивые люди и выдали мне, тогда еще беспаспортному ученику электромонтера, ордер на целых две комнаты в ведомственном доме (Ганорин пер., д. 7а, кв. 1). Чуть позже Мама по моей протекции пришла на завод и тоже получила рабочую карточку, а брат попал в заводской детский сад. О спасшем нас заводе особый разговор, но сначала – о новом месте жительства. Я провел там большую часть своей жизни, 36 лет. Раньше родными были Круглый пруд, Институтский и 2-й Муринский проспекты, Серебряный пруд. Потом родными стали Яшумов, Ганорин, Воронцов переулки, Ольгинская улица, песчаный карьер, Сосновка. Не могу отказать себе в удовольствии вспомнить, как выглядели эти места в 1942–1946 годах. По существу, мы поселились на краю Сосновки. В нашем квартале еще сохранялись островки леса, а сама Сосновка начиналась в 300 метрах от нашего порога. До войны здесь стояли старые деревянные двухэтажные дома, бывшие дачи. В 1942 году большинство этих домов разобрали на дрова. Остались немногие каменные и небольшая часть деревянных, в их числе дома 7а и 7б по Ганорину пер., построенные в 1935–1937 годах. В доме 7а было восемь трехкомнатных квартир, в одной из них на первом этаже нам дали две комнаты. Дело было зимой. Печей в доме не было, паровое отопление не действовало. Почти все стекла в комнатах незадолго до нашего переселения были выбиты взрывом мощной фугасной бомбы. Воронка от взрыва диаметром около 8 м и глубиной не менее 3–4 м долго служила потом свалкой мусора. Окна забили фанерой и картоном, завесили старыми одеялами. В большой комнате соорудили печь-времянку, вернее, низкую плиту из кирпича с двумя конфорками. Трубу вывели в кирпичный вентиляционный канал. Дом оказался теплым, и мы устроились в большой комнате втроем относительно уютно. Жили в полумраке, при свете горящей печи или коптилки. Во вторую комнату мы вскоре пустили на постой авиационного капитана и его денщика из подразделения аэродромного обслуживания в Сосновке. Солдаты быстро привели комнату в порядок, поставили большую круглую печь, заготовили дров, протянули с аэродрома полевые телефоны. Капитана часто поднимали по ночам, он орал по телефону благим матом, бывало, и пьянствовал. Денщик оказался вежливым и достаточно образованным солдатом-евреем Яковом Ароновичем. Мир не без добрых людей. В числе других Яков Аронович помог нам пережить зиму 1942–1943 годов. Он подкармливал нас из капитанского и своего пайков. Спасибо этому доброму человеку. Размышляя теперь, на склоне жизни, о судьбе нашей семьи, не могу отделаться от мысли, что во время блокады мы должны были погибнуть вслед за Отцом. Но не погибли. Что нас спасло? Прежде всего мы жили не в городе, а в Лесном, где были печи, были дрова, а также огороды, желуди, крапива, щавель, грибы. Но главное – люди. Нас спасал дед Эрнст, который собрал и оставил нам много красивых вещей – мебели, картин, бронзы, посуды. Почти все ценное из дедова наследства Мама обменяла на продукты. Пианино, например, взяли за несколько килограмм крупы и пару буханок хлеба. Упитанные покупатели еще и торговались – много просите, посмотрите, правая ножка поедена жучком. Нас спасала бабушка Мария, которая приносила нам хлебные крошки. Нас спасал солдат Яков Аронович. Нас спасали завод № 436, работавшие там люди, наши знакомые и соседи по дому. Ну, а меня и Эдика спасала, конечно, Мама. Дом 7а по Ганорину переулку (впоследствии д. 6, корп. 4 по Яшумову, а еще позже по ул. Курчатова) я со временем полюбил не меньше, чем старый дом на Институтском проспекте. Старый дом устраивали дед и отец, это был отчий дом, а новый дом устраивал я сам. В нем буквально все прошло через мои руки, он стал позже отчим домом для моих детей. Полюбил я ближние и дальние окрестности: Сосновку, Бугры, Карабсельки, Юкки, Парнас. Получилось так, что в годы послевоенной юности и молодости, живя у края Сосновки, мы с братом привязались душой к местам, которые раньше любили посещать наши родители. <…> В довоенные годы считалось, что район Лесного ограничивался с юга парком Лесотехнической академии (ЛТА). До 1-го Муринского был Лесной, после него – город. На почтовых конвертах к нам писали: Ленинград, Лесной, дальше улица и т. д. Если кто-то отправлялся из Лесного дальше 1-го Муринского, то говорили: он поехал в город. В период блокады это деление укрепилось. Город подвергался артиллерийским обстрелам, Лесной нет. Лесной иногда бомбили, но обстрелов, слава богу, у нас не было. Граница проходила где-то в районе Литовской улицы. Мы полагали, что снаряды до Лесного просто не долетали, поскольку немецкие пушки стреляли по городу с юга. Бывало, артобстрелы заставали нас в городе, у Финляндского вокзала или в Нейшлотском переулке около военно-учебного пункта Всеобуча. Тогда мы бежали что есть мочи по Лесному и только около Литовской улицы переводили дух, считая себя в безопасности. Парк ЛТА занимал в моей юности и молодости особое место. Там я учился жизни и гулял с друзьями из ЛТА и с Володей Кобзарем, читал стихи Пушкина, Лермонтова, оды Державина, баллады Жуковского (стихи я любил и знал их много, но сам стихов не сочинял). В студенческие годы парк ЛТА вновь принял меня, школа жизни продолжилась. Путь от моего дома в Ганорином переулке до общежития во Флюговом переулке лежал через парк. Все дорожки и проезды я прошел там несчетное число раз. Замечательный парк! Он был дорог не только мне, но многим из нашей семьи, это наследственное чувство. Дед Эрнст, Отец и брат Эдик – всех утешал парк ЛТА. Золотой осенью 1951 года, незадолго до окончания института, в парке ЛТА я объяснился в любви и сделал предложение своей будущей жене Ире Буровиной. Она жила в общежитии, а я дома в Ганорином переулке. Парк был в некотором роде нейтральной территорией.  У главного здания Лесотехнической академии. 1930 г. С восточной стороны парк ЛТА ограничивался Малой Спасской улицей (ныне – ул. Карбышева). «Катись колбаской по Малой Спасской» – говорили мы в детстве. Улица идет от круглой бани к железной дороге и станции Кушелевка. С этой станции я многие годы ездил за грибами в Пери, Грузино, Васкелово, Лемболово. Рядом с Кушелевкой под железнодорожным мостом проходит линия трамвая, делая крутой поворот в виде буквы S. Студенты называли этот поворот интегралом. Остановки там не было, но старые вагоны имели открытые площадки, на повороте трамвай тормозил и мы выпрыгивали или, наоборот, запрыгивали на ходу. Так мы сокращали путь до общежития и обратно. Страсть к езде на подножках трамвая и к прыжкам на ходу появилась у меня во время войны. Трамваев было мало, ходили они редко, вагоны и площадки забивались вплотную, люди висели гроздьями на подножках. Езда не только на подножках, но вообще на всех выступах, скобах и кронштейнах, а также между вагонами и на «колбасе» считалась обычным делом и даже своего рода шиком. Несмотря на то что я был до войны маминым сынком и пай-мальчиком, навыки и репутация «колбасника» дались мне без особого труда. Кстати, о термине «колбаса». Мы считали, что он относится к массивному металлическому кронштейну с фланцем для сцепки вагонов. Именно на нем было удобно стоять и особенно удобно спрыгивать на ходу даже при большой скорости (умеючи, конечно). Теперь я думаю, что «колбасой» называли резиновый шланг пневматического тормоза, часто висевший сзади вагона. За него держались, стоя на сцепке. Отсюда и название «колбасник», т. е. человек, держащийся за «колбасу». Название «колбасник» было до войны ругательным и презрительным. Не исключено, что произошло слияние двух значений слова – трамвайные нарушители правил и дореволюционное прозвище немцев, торговавших в Петербурге колбасой. Такое ругательство упоминается в словаре Даля и в словаре Ушакова. Навыки «колбасника» я использовал в юности и в студенческие годы довольно часто, в том числе при езде на пригородных поездах. Васкеловское направление было электрофицировано одним из последних, до этого ходили паровики. Дачные участки еще не появились, после Кавголово шли неоглядные леса. В конце войны и много позже они были небезопасны, но мы ездили, Бог миловал. Попадались мины, чаще противотанковые. Мы их не трогали, осторожно обходили. Попадались останки солдат в касках, истлевшей одежде, заросшие мхом. Однажды я набрел на русские сапоги, на вид хорошие. Поднял один, перевернул: из сапога высыпались кости. Ни трофеи, ни оружие, ни военные сувениры нас в ту пору совершенно не интересовали. Мы ездили в лес за грибами. Паровик местами замедлял ход, забираясь в гору, мы выпрыгивали на откос и сразу попадали в лес. Паровик, прошумев, исчезал вдали, наступала тишина. Как жаль, что тихих лесов вокруг Петербурга теперь уже нет. Перечислю некоторые особенности нашего микрорайона в 1942–1946 годах. Прежде всего – это военный аэродром. Еще до войны Сосновку рассекла надвое широкая просека, по которой проходила высоковольтная линия электропередачи на стальных опорах. Во время войны линию снесли, просеку расширили и оборудовали аэродром. Транспортные самолеты, штурмовики и истребители во множестве заходили на посадку со стороны Политехнического института. Взлетали они, как правило, на северо-запад. На территории завода и в сосновом массиве вдоль Пустого переулка располагались зенитные дивизионы для охраны аэродрома. Когда зенитки вели огонь (это бывало и днем и ночью), наш дом подпрыгивал, а мы затыкали уши. Я очень боялся, что немцы начнут бомбить зенитные позиции, тогда досталось бы и нам. Наверное, та большая бомба, упавшая за домом, предназначалась зенитчикам. В дальнейшем, однако, бомбардировки не повторялись.  Здание НИИ-9, во время войны завод № 436, где В. Кобак работал в 1942–1946 гг. Фото 1932 г. Второй достопримечательностью были песчаный карьер и озера. Карьер разрабатывался задолго до войны. Потом в нем возникло довольно глубокое озеро, местами до трех метров. Во время войны, по мере разработки карьера, с южной стороны образовалось второе озеро, поменьше. К карьеру подходила ветка грузового трамвая, которая спускалась вниз, раздваивалась и огибала озера. Ветка соединялась с трамвайными путями на Политехнической улице, в конце которой было кольцо маршрутов № 18 и № 9. Песок вывозили на платформах в довольно большом количестве. Для нас озера были местом отдыха и купания в летние дни. Третьей и главной достопримечательностью являлся завод № 436. Об этом заводе (вернее, маленьком заводике) хотелось бы рассказать подробнее. По моим представлениям, в конце 1920-х – начале 1930-х годов возникли три предприятия: НИИ телевидения (НИИ-9), Высоковольтная лаборатория (ВВЛ) и Лаборатория радиокерамики (НИЛ-34, позже НИИ-34). Здание НИИ-9 запечатлено моим отцом на фотографии 1932 года. Таким оно оставалось и в 1941–1945 годах, разве что появился каменный забор, а справа – проходная в виде двух павильонов с воротами посредине. Снимок был сделан с угла Яшумова переулка и Ольгинской улицы. Интересно, что корявая сосна на переднем плане снимка стояла до начала 1950-х годов. Здание ВВЛ и здания НИЛ-34 до наших дней дошли почти в первозданном виде. В начале войны НИИ-9 и частично ВВЛ эвакуировали вместе с сотрудниками, а их здания законсервировали. На базе НИЛ-34, чуть позже переименованной в НИИ-34, организовали завод № 436, выпускавший радиодетали для военных радиостанций. Поначалу завод состоял из нескольких цехов с числом рабочих по 15–20 человек и нескольких обслуживающих отделов по 10–15 человек. Потом число рабочих стало расти и заводу передали здание бывшего НИИ-9. Рост завода происходил у меня на глазах и при моем скромном участии, сначала как ученика электромонтера (фактически разнорабочего), потом – электромонтера и связиста. Мне приходилось долбить и бетонировать стены, рыть траншеи для кабелей, гнуть трубы и даже смолить крыши. Тогда я не предполагал, что работаю на крыше будущего памятника архитектуры конструктивизма 1920-х годов. Однажды я на спор спускался с крыши по водосточной трубе на северной стороне здания, на уровне третьего этажа сорвался и вместе с трубой рухнул на кучу мусора. К счастью, все обошлось благополучно, но старик-бригадир крепко «лаял меня матерно». Замечу, что памятниками конструктивизма, как теперь выяснилось, являются также здания Института постоянного тока, 1-й школы, 14-й поликлиники, а также круглая баня у площади Мужества. Здание Института постоянного тока было интересно своим внутренним устройством. Поражал воображение громадный зал во всю высоту и ширину здания. Пять открытых галерей опоясывали зал, создавая впечатление гигантского театра. От пола поднимались вверх фантастических форм электрические аппараты с блестящими шарами по два метра в диаметре. Я и другие «электрики» такого же возраста облазали там зимой 1942–1943 годов все галереи и закоулки. Здание было в плачевном состоянии. Крыша текла, с галерей свешивались громадные сосульки, в помещениях и на лестницах образовались толстые натеки льда. Мы сами добавили там порядочно разрушений, снимая кабели и электрооборудование. Бывало, и просто хулиганили, орали, свистели. По залу металось гулкое эхо. Откуда нам было знать, что на верхних этажах здания в нескольких комнатах под башенкой на крыше до войны разрабатывался, а теперь стоял в бездействии первый советский радиолокатор. Я заходил в эти комнаты, видел скопление аппаратуры и даже отвинтил что-то для своих нужд. Это едва не кончилось для меня трагически. Аппаратура была секретной, но то ли по разгильдяйству, то ли из-за всеобщей разрухи и голода, в те зимние месяцы она никем не охранялась. Через какое-то время КГБ все же схватился. Найти лазутчиков не представило труда, и нас взяли за штаны. Разговаривали сурово. Большинство расплакалось, а на меня вдруг напала строптивость. Меня пообещали согнуть в бараний рог, но в конце концов махнули рукой. Заступниками оказались наш мастер, старый электромонтер Николай Демьянович Зуев, и главный энергетик завода Николай Михайлович Цветков. За хорошее ко мне отношение большое спасибо этим добрым людям. Через десять лет я стал специалистом в области радиолокации и посвятил ей почти всю свою жизнь. Описанный выше факт моей биографии можно рассматривать как предзнаменование или указующий перст. На заводе оказалось много хороших людей. Среди рабочих на сборке радиодеталей трудились пожилые преподаватели Политехнического института, даже профессора. Помню старенького профессора Семенова, математика. Нас, дураков, смешило, что он носил ермолку на лысой голове. Все работницы и рабочие на сборке ходили в белых халатах. Нам же, рабочим вспомогательных цехов (горнового, механического, транспортного, а также электроцеха, где работал я), выдавали темные халаты или комбинезоны. Работа была грязная и сопровождалась, как правило, матом. Этот язык пришлось освоить и мне, а большинство других подростков, живших в Гражданке и Ручьях, хорошо знали мат с малолетства. По развитию и запросам они были деревенскими жителями, иногда их называли ручьевскими скобарями. Физически гораздо более крепкие и хорошо питавшиеся, они относились к нам, городским, покровительственно, иногда и тиранили. Они запросто пили казенный спирт и тискали девочек, что для нас было совершенно немыслимым. Я предпочитал общаться с инвалидом Олежкой Володиным. Маленький, горбатый, он работал токарем и слесарем в механическом цеху. Во время работы он стоял на ящике, иначе ему было не достать до станка или тисков. Не могу не вспомнить добрым словом Сашу Грязева, побывавшего на фронте, контуженного и демобилизованного. Он работал вместе с нами, подростками. Добрейший и скромнейший парень, гораздо старше и сильнее нас, он считал нас равными себе. Его уважительное отношение к людям было очень искренним и шло от души. Вспоминаю главного инженера завода, молодого Григория Антоновича Гайлиша, впоследствии крупного специалиста, лауреата государственной премии, директора НИИ «Гириконд» (Государственный институт резисторов и конденсаторов), начальника керамического цеха Георгия Анатольевича Смоленского, впоследствии видного ученого, члена-корреспондента АН СССР, начальника цеха Лидию Григорьевну Годес, красавицу Лидочку и многих других. Все они запомнились мне своей простотой и заботливостью, в частности по отношению ко мне, хотя я находился на низшей ступени социальной лестницы. Видимо, таково было время. Нас, мальчишек, жалели все. Жалел меня и старшина зенитчиков, стоявших на территории завода. Когда я попадался ему на глаза, он отводил меня в блиндаж и давал команду повару накормить меня. Наверное, выглядел я достаточно скорбно с тонкой шеей, торчащей из широкого комбинезона, и в кирзовых сапогах. Работали мы не десять, а всего лишь семь часов, но очень уставали. Я приходил домой, не снимая рабочей одежды, садился около теплой печки и тут же засыпал. Осенью 1943 года моя жизнь переменилась в лучшую сторону. Произошло это частично благодаря общему улучшению положения нашей семьи, а также из-за того, что я решил учиться в вечерней школе. Школа рабочей молодежи (19-я ШРМ) открылась при Политехническом институте в 1-м корпусе. Позднее она переместилась в здание школы на проспекте Раевского, где я в 1942 году заканчивал 7-й класс. Учиться по вечерам было очень трудно, но зато в 8-м классе школы я обрел себе новых друзей. Я встретил близких по духу сверстников (в основном девушек) и замечательных учителей, среди которых по вечерам отдыхал от дневной грязи и матерщины. Мы не только замерзали и недоедали, нам остро не хватало душевного тепла и общения, поэзии и музыки. Школа открыла выход для наших чувств, дружба была бескорыстной и святой. Несмотря на крайнюю усталость, мы подолгу бродили гурьбой после уроков, провожали друг друга, никак не могли наговориться. Учителя поддерживали наш романтизм и, наверное, сами черпали силы в общении с нами. С некоторыми из друзей тех лет я встречаюсь изредка и поныне. Спасибо этим людям, тогда юным и красивым, без которых моя жизнь была бы гораздо беднее. Спасибо нашим учителям, которые прививали нам возвышенные стремления. С тех пор я всю жизнь оставался неисправимым романтиком. Мне пришлось работать и учиться в вечерней школе три года. Мой заработок возрастал и вместе с маминым позволял сносно существовать нашей семье. Сохранился старый профсоюзный билет, по которому определяются цифры моей средней месячной зарплаты по годам: 1942 – 100 руб., 1943 – 200, 1944 – 300, 1945 – 600, 1946 – 800/300, 1947 – 400. До мая 1943 года я был учеником электромонтера, потом работал электромонтером связи до ухода на учебу в Политехнический институт в июле 1946 года. Зарплата сменилась стипендией в 300 руб. (масштаб денег в те годы оставался постоянным вплоть до реформы начала 1960-х годов, изменившей масштаб в соотношении 1:10). До войны у меня были школьные и дворовые друзья, но наша дружба не успела окрепнуть. Война разметала нас, многие погибли от голода. На заводе я подружился с Арсиком (Арсением Дмитриевичем Васильевым), работавшим в сборочной бригаде. Мы были ровесниками. Сборочная бригада состояла сплошь из женщин и девушек плюс один Арсик, красивый, румяный юноша (мать у него работала в столовой раздатчицей). Немножко воображуля и во многом скептик, он считал всех членов бригады, включая бригадира, тоже женщину, дурами. Они же, напротив, к Арсику очень даже благоволили. Как электромонтер, я наведывался в сборочную бригаду, чинил паяльники (за длинным столом 15–20 работниц и Арсик, передавая друг другу, спаивали радиодетали). Как приятелю Арсика мне перепадала часть женского благоволения. Однажды я даже получил в подарок книгу с надписью «Вале Кобаку от сборочной бригады». Потом мы с Арсиком попали на курсы Всеобуча (всеобщего военного обучения) и получили свидетельства ручных пулеметчиков. Ходили пешком по Лесному проспекту до Нейшлотского переулка, где находились курсы. Тогда на 1-м Муринском произошло взволновавшее нас событие. Ночью по улице проходила колонна тяжелых танков с десантниками на броне. По-видимому, танки перебрасывались с южного на северный рубеж обороны. Шли без огней в темноте (в городе строго соблюдалось полное затемнение). Железнодорожный мост, перекинутый через 1-й Муринский проспект ближе к кондитерской фабрике, имел стальные опоры, выдвинутые на проезжую часть. Танки с ходу выбили все четыре опоры. Мост прогнулся, пострадали десантники. Позже мост выправили, подведя под него деревянные срубы, которые простояли года два или три. Мост на этом месте стоит и сейчас, но уже новый. Командирами отделений и взводов на курсах Всеобуча были молодые женщины, только командир роты – молодой мужчина после ранения, да начальник курсов и замполит – старики. Все командиры ходили в форме с петлицами, а мы, подростки, носили комбинезоны или ватники. Воевать нам не пришлось, но по молодости лет подвиг совершить хотелось. Решили пойти во флот юнгами. Наши матери плакали и просили этого не делать. Мать Арсика тоже жила без мужа, он был у нее младшим сыном, еще были дочь и старший сын, который служил во флоте. Моей маме надо было растить Эдика, ему исполнилось только семь. Без меня семья могла погибнуть. Словом, я остался, а Арсик проявил твердость характера и ушел. Так закончилась наша недолгая отроческая дружба. Арсик выучился на радиста-оператора, служил во флоте, участвовал в боевых операциях последнего года войны, демобилизовался лет через десять после войны. Потом работал радиомонтажником и регулировщиком радиоаппаратуры, пытался учиться, но не получилось, так и прожил жизнь рабочим. Еще в армии Арсик освоил английский язык, в дальнейшем совершенствовался, читал английские газеты, слушал радиопередачи. Он интересовался философией, особенно восточной, много читал. По общему развитию он был интеллигентен, остроумен, самостоятелен во мнениях, незауряден. Но два порока подтачивали его личность – коньяк, который Арсик очень любил, и женщины, которых он считал дурами и, пожалуй, не любил. Женщин было много, но семьи Арсик так и не создал. Осенью 1985 года он покончил жизнь самоубийством. Еще моими друзьями в 1943–1945 годах стали три девушки. Бог, наверное, послал мне их для благородного воспитания. Мы называли себя ГаВаЛюКе (Галя, Валя, Люда, Кена). Душой дружеского кружка по праву стала Кена (Ксения Владимировна Дембовецкая). Я был тайно в нее влюблен, но еще слишком юн и ни за что не осмелился бы на признание. Кена работала санитаркой, а потом медсестрой в госпитале (в помещении 1-й школы, где она до войны училась). Помню, на встречу нашего кружка иногда приходил на костылях парень из числа выздоравливающих, с красивым интеллигентным лицом. На войне ему оторвало ногу. Обычно он молчал, а когда уходил и прощался со всеми, то Кене целовал руку. Она сопротивлялась, говорила, что так делать не следует, что это нехорошо. Он отвечал: «Почему же нехорошо? Руку любимой девушки можно поцеловать». Меня очень трогала эта сцена, и я восхищался смелостью и достоинством парня. Галя (Галина Натановна Стрельцина) работала юстировщиком в воинской части, где ремонтировались бинокли, стереотрубы и другая фронтовая оптика, а Люда (Людмила Николаевна Дьяченко), – в Политехническом институте. Зимой мы часто собирались у Кены дома в Воронцовом переулке. Она жила с матерью в двухкомнатной квартире маленького уютного домика. Ее отец, видный корабельный инженер, погиб в 1939–1940 годах в застенках КГБ, а старший брат сложил голову на фронте в самом начале войны. Мать Кены, Александра Васильевна, мужественно перенесла эти страшные потери, сохранила любовь к жизни и доброту. Она всегда принимала нас радушно, как детей, поила чаем и порой даже угощала чем могла. В доме стояло малогабаритное корабельное пианино. Кена играла, мы слушали, иногда пели вполголоса вместе с Александрой Васильевной. Теперь я понимаю, что она действовала сознательно, отвлекая нас от мрачной действительности и приобщая к искусству. Спасибо Александре Васильевне, доброй и мудрой женщине, спасавшей в годы войны наши юные души от грязи и ожесточения.  Встреча старых друзей ГаВаЛюКе. 1987 г. Как это ни удивительно, по Кениной инициативе мы ходили в театр. Во время блокады работал Пушкинский театр, где ставили оперетты. Добирались мы до театра и обратно иногда пешком, но всегда возбужденные и счастливые. Дома Кена играла нам услышанные мелодии и мы пели полюбившиеся арии. Благодаря нашему кружку, несмотря на голод и разруху, мы все-таки получили в юности необходимый заряд романтики и оптимизма. Кена в дальнейшем стала врачом, Галя осталась специалистом по оптическим приборам. Обе не обзавелись семьей, их постигла судьба многих девушек, лишившихся женихов во время войны. Обе до сих пор продолжают работать. Люде досталась счастливая семейная жизнь с детьми и внуками. Мы собирались иногда вчетвером. Видеть друг друга старыми и больными грустно, но все равно очень приятно. (…) В декабре 1943 года я получил медаль «За оборону Ленинграда», в апреле 1946 – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В этом не было ничего необычного: их получили все, кто работал и жил тогда в Ленинграде. Получила их и Мама. Медали вручались на собраниях цехов и отделов под жидкие аплодисменты. Особой гордости и ликования никто не испытывал, никаких приплат или льгот к медалям не прилагалось, никто их не носил. Однако через 45 лет выяснилось, что медали все-таки имеют ценность. Их обладатели, приравненные в 1985 году к участникам войны, получили право бесплатного проезда в городском транспорте. Позже (с весны 1994 г.) блокадники получили еще и право бесплатного проезда в электричках и пригородных автобусах. Юность (1944–1947 гг.) Юностью я считаю возраст от 17 до 20 лет. Моя юность началась осенью 1944 и закончилась летом 1947 года. На эти годы пришлись: день Победы (май 1945 г.), окончание школы (июнь 1946 г.), увольнение с завода (август 1946 г.), поступление в ЛПИ (сентябрь 1946 г.) и окончание первого курса (июнь 1947 г.). Юность подарила мне новых друзей и новые увлечения. По сравнению с отрочеством, прошедшим в тяжелейших условиях войны и блокады, моя юность совпала с общим облегчением жизни и была, по контрасту с прошлым, вполне благополучной, а для меня лично – просто счастливой. Мама тоже постепенно оправлялась от шока. Жизнь брала свое, она повеселела, стала следить за своей внешностью. Дело дошло до того, что пару раз ей предлагали замужество (Маме было чуть более сорока). Одно из предложений было очень заманчивым. Его настойчиво делал старшина из аэродромной команды по фамилии Бабич. Немолодой уже человек, украинец, в прошлом сельский учитель, семья которого погибла, он очень нравился и Маме, и мне. Но Мама не решилась, хотя о смерти Отца уже было известно. Не решилась, я думаю, из-за нас с Эдиком. А еще, наверное, из-за начавшейся у нее гипертонической болезни. В то время от послеблокадной гипертонии страдали многие, а эффективных лекарств еще не изобрели. Мамина гипертония впоследствии прогрессировала и привела к преждевременной смерти. Второе предложение о замужестве Мама получила от моего мастера Николая Демьяновича Зуева. О нем я уже упоминал. Старый электромонтер, лет около 55–57, тоже был одинок. Он не попал на войну, т. к. потерял когда-то большой и указательный пальцы правой руки и не мог стрелять. На полном серьезе он надел костюм и галстук, купил поллитровку и заявился к Маме свататься. Сцена была совсем не смешная, но очень трогательная. Такие были тогда люди и такие нравы. Танточка, узнав про эти два сватовства, очень натурально всплескивала руками «Птица, как же так!» Мама, смеясь, объясняла, что не пошла за Бабича из-за его фамилии, а за Николая Демьяновича из-за того, что он лыс. Впрочем, веселого в жизни Мамы было мало. Она по-прежнему боролась с нуждой, одевала нас, перешивая и перелицовывая старую одежду, экономила на всем. Я отдавал ей зарплату до копейки. Каждый год нас заставляли подписываться на заем и потом ежемесячно вычитали из зарплаты заметную ее часть (20–30 %). Подписка проходила под сильнейшим нажимом администрации, партии и комсомола, отказаться от нее было невозможно. По слабости характера я не мог противостоять нажиму. Но еще тяжелее было видеть Мамины слезы, когда она узнавала, на какую сумму я подписался. Денег не хватало катастрофически. Часто я не решался попросить у Мамы 20–30 руб. на складчину с друзьями, а карманных денег у меня вообще не было вплоть до поступления в ЛПИ. Вернусь еще раз к смерти Отца. О ней нам стало известно летом 1944 года (точной даты не помню). Однажды пришел человек в штатском (меня дома не было), вынул бумажку и прочел Маме, что «Кобак Оскар Карлович умер в Унжлагере в 1942 году». Бумажку человек спрятал в карман и удалился, заявив, что больше ничего не знает. К своему стыду, я не помню ни точной даты рождения Отца, ни даты его смерти, а спросить уже давно не у кого. Осталась только фраза «Мой Отец, Кобак Оскар Карлович, умер в заключении в Унжлагере в 1942 году». Ее я писал в анкетах за свою жизнь несчетное число раз. Вскоре после этого произошло еще одно связанное с Отцом горестное событие. К нашему подъезду в доме 7а по Ганорину переулку подъехал грузовик. Мы уже и думать забыли, что Отец был осужден с конфискацией имущества. Но кое-кто не забыл. Маме предъявили опись имущества, которое не было вывезено в 1941 году, но было оставлено Маме на хранение под расписку. Никого не интересовало, что после блокады и переезда это имущество уцелело далеко не полностью. Разговор был крутой. С трудом удалось договориться о замене пропавших вещей другими. Конфискованное имущество в виде мебели, картин, одежды, белья, посуды погрузили на машину и увезли. Наши комнаты заметно опустели. Имущество не представляло особой ценности. Но кому-то оно понадобилось. Слава богу, увезли не все. Осталась частично Мамина и наша с братом доля. Тем и жили еще много лет, так как покупать что-либо кроме еды не имели возможности.  В. Кобак в 1944 г. Сохранившиеся о юности восторженные воспоминания с возрастом не только не угасают, но, напротив, кажутся более яркими. После юности были еще молодость и зрелость, были «моменты, похожие на сказку», юность же вся была сказкой. Причина, я думаю, в чистоте, безгрешности и еще в физическом и психическом здоровье юности. Жизнь без грехов, без болезней и без комплексов неполноценности – что может быть прекраснее? А еще друзья. Как сказал кто-то из поэтов. «В юности узы дружбы составляют все». В самом деле, я плохо помню свою работу, учебу, семейные дела, жизнь города. Гораздо лучше вспоминается то, что было связано с друзьями, с привлекавшими и увлекавшими меня юношами и девушками. Даже природа отступила на второй план, не нужны были книги, не манили покой и одиночество. Все это понадобилось и пришло позже. Учеба в 10-м классе и окончание школы весной 46 года запомнились мне дружбой с Мишей Песлиным. Наш старый дружеский кружок ГаВаЛюКе распался: Кена по болезни отстала и кончала школу позже, Люда перешла в другую школу. Пришли новые ученики, и образовался новый кружок. В него вошли кроме меня и Миши Песлина две подруги – Валя Крылова и Галя Пантюкова. Я знал их немного по совместной работе на заводе № 436. Они работали вместе с Арсиком в сборочной бригаде, и, по мнению Арсика, обе были дурами. Мы с Мишей так не считали. Девчата как девчата, Валя – брюнетка среднего роста, Галя – блондинка выше среднего. Наш кружок скрепила не только дружба, но и сердечные увлечения. Мы провожали девочек после школы домой на проспект Энгельса в район станции Удельная. Ходили через Сосновку, по Старо-Парголовскому проспекту, а потом вниз к Удельной. Зимой бывало темно, морозно и страшновато, а мы были мелковаты и малорослы, особенно Миша. Но Бог миловал. Запомнился только один инцидент. Мы шли вчетвером по Старо-Парголовскому проспекту вдоль Сосновки, девочки посредине, Миша слева, я справа. Домов тогда на Старо-Парголовском было совсем мало, прохожих никого. Вдруг появились три парня, молча пошли за нами. Потом один поравнялся с Мишей и также молча стал оттеснять его от девочек назад. Я испугался, конечно, до дрожи в коленках, но все же нашел в себе силы, быстро перешел налево, подтолкнул Мишу на правую сторону и, держа руки в карманах, вклинился между парнем и девочками, приняв, таким образом, защиту левого фланга на себя. Так мы шли молча еще некоторое время. Парень вынул нож и стал поигрывать им, подбрасывая нож на руке. Однако на угрозы или какие-то действия не решился. Полагаю, его смутило, что я добровольно «подставился» и притом держал руки в карманах. Так или иначе, но он замедлил шаг, присоединился к своим приятелям, и они исчезли. Этот молчаливый инцидент, безусловно, возвысил меня в глазах девочек и Миши. Мое увлечение Валей Крыловой вскоре померкло, а после окончания школы и вовсе прошло. Формальным поводом для меня лично явился пустяковый эпизод. Как-то раз я неожиданно зашел к Вале, дело было весной. Через открытые окна веранды я увидел букет сирени, а под ним Валин портрет в рамке. Она вышла, мы о чем-то поговорили, мне показалось, что мой приход обеспокоил Валю. Я стал прощаться и попросил ее подарить мне портрет на память. Она смутилась, стала путано оправдывать отказ, я сделал вид, что обиделся, и ушел. Валя потом много лет продолжала работать на заводе № 436 (позже – НИИ Гириконд). Замуж, насколько мне известно, она не вышла. Что же касается Миши, то он, простая и откровенная душа, часто потом вспоминал свою Галю и жалел, что их юношеский роман не получил продолжения. Наверное, сам виноват, хотя по опыту жизни я склоняюсь к известной мудрости: «Не мы выбираем, а нас выбирают». В данном случае Галя была на полголовы выше Миши, что и определило результат. О Мише Песлине хотелось бы рассказать подробнее. Мы с ним учились в вечерней школе часть девятого и весь десятый класс, сидели за одной партой. Он был старше меня почти на три года, но в армию не попал, работал токарем на военном заводе где-то в Сибири (был эвакуирован из Белоруссии), а потом в конце войны в Ленинграде. Жил Миша у тетки Берты Ильиничны в Яшумовом переулке недалеко от меня. Он был человеком бесхитростным, не скрывавшим своих мыслей и чувств. С ним мы много говорили о жизни, мечтали стать инженерами. Так оно и получилось. Осенью 1946 года мы оба оказались в Политехническом институте (ЛПИ), только на разных факультетах. Я последовал совету своего начальника, главного энергетика Н. М. Цветкова, и пошел на физмех (на радиофизику), а Миша хотел стать инженером-конструктором и пошел на мехмаш. Студенческая жизнь захватила нас, мы стали встречаться реже, после окончания ЛПИ оба женились, пошли дети, и наши встречи стали совсем редкими. Воспоминания юности связаны у меня с компанией молодежи, проживавшей в парке Лесотехнической академии (ЛТА). Я вошел в эту компанию, так сказать, на правах ассоциированного члена, поскольку был (если не по возрасту, то по развитию) самым младшим и наивным. Основу компании составляла четверка друзей, с одним из которых, Модестом Калининым, я общался еще в детстве. Они жили по соседству друг от друга в профессорско-преподавательских домах ЛТА. Все четверо происходили из образованных семей и сами были юными интеллектуалами. Достаточно самоуверенные и дерзкие, порой они чересчур щеголяли матом и злословием, но одновременно были исключительно остроумными. Последнее качество в таком концентрированном виде встретилось мне впервые. Вот они: Юрий Корчунов, Рой Тюльпанов, Гелий Амброк и Модест Калинин. Веселились мы славно, особенно весной, белыми ночами в парке ЛТА. Были, конечно, и девочки, но дальше поцелуев дело не шло и вообще не они определяли дух компании. Были стихи, песни и танцы, а самое главное, были особенно увлекавшие меня розыгрыши, шутки, анекдоты, словом, обычный молодежный треп. Отличало его одно обязательное условие – остроумие. Авторы пошлых, избитых или глупых шуток неизменно и дружно высмеивались. Доставалось иногда, особенно поначалу, и мне. Остроумие, как я убедился, воспитуемое качество. Хорошо, когда оно присутствует в семье и дети воспринимают остроумие с малолетства. В нашей семье Маме было не до шуток. Я очень рад, что в юности получил уроки остроумия от моих друзей из ЛТА. К сожалению, эта компания постепенно распалась. Гелий, Рой и Юрий окончили Политехнический институт (теплофизику), все защитили диссертации, стали учеными. Юрий работал в Котлотурбинном институте (ЦКТИ им. Ползунова), вышел в начальники отдела, но потом заболел и умер в возрасте около 50 лет. Модест учился в ЛТА, потом скитался по лесам, стал заядлым охотником и краеведом, мастером спорта по стрельбе. Его имя встречал не раз в числе авторов книг и сборников о природе и лесах России в ряду таких имен, как А.А. Ливеровский, Г.А. Горышин и др. Спасибо вам, друзья моей юности из ЛТА. Осенью 1946 года я стал студентом-политехником. Началась совсем новая жизнь, но юность и жажда общения еще не прошли. Поэтому новая жизнь началась с новых друзей, которых я очень быстро нашел в своей 151-й учебной группе. Замечу, что первая цифра номера означала курс, вторая факультет, третья – специальность. В группе было по списку около 20 человек, но в полном согласии с известной в социологии «теорией малых групп» она разделилась на более мелкие ячейки. Так возникла и наша дружная четверка, в которую вошли: Ося Дядькин, Шура Потыльчанский, Женя Каймаков и я. Заводилой стал Шура. Мы не знали друг друга раньше, но получилось так, что Шура бывал не раз в компании ЛТА еще до меня. У нас оказались общие знакомые. Шура активно продолжил воспитание нашего остроумия. Отличный спортсмен, гимнаст и акробат, он был неистощим на выдумки. Его импровизации в стиле Райкина, шутки и психологические этюды возникали по любому поводу и в любых местах: в аудиториях, в коридорах, в транспорте, в гостях и дома. Многие, возможно, считали Шуру трепачом, но мы-то знали его как душевного и искреннего человека. Дружба с Шурой Потыльчанским и Осей Дядькиным оказалась для меня самой утешительной и долговечной. Сколько было всего переговорено, не счесть! Шура со второго курса ЛПИ перешел в ЛИАП (Институт авиационного приборостроения). «Там учиться гораздо проще, – говорил он. – Тяп-ЛИАП и инженер». После ряда должностей в разных учреждениях он попал на Ленфильм, где быстро вырос до начальника цеха монтажа и озвучивания фильмов. Работа с множеством людей – это было как раз для него. На Ленфильме он нашел себя. Я бывал у Шуры на Ленфильме и радовался, наблюдая уважительное отношение к нему сотрудников. «Александр Савельевич, Александр Савельевич» – то и дело слышалось в кабинетах и студиях. Шура был женат, вырастил дочь, но к 55–60 годам семейная жизнь разладилась. Перенес инфаркт. А ведь когда-то крутил на перекладине «солнышко», делал стойку на высокой (метров пять) ограде спортплощадки. Такие дела. До последнего времени мы с Шурой, хоть и редко, но довольно регулярно встречались к взаимному удовольствию. Он собирается погостить в США у своего младшего брата. Обещает вернуться, но я в этом не уверен. Дай Бог Александру Савельевичу Потыльчанскому безмятежной старости. Ося Дядькин был моим спутником (честно говоря, это я был его спутником) все шесть лет учебы в ЛПИ. Он был очень скромен, немногословен, добродушен, но тем не менее именно он был главным среди нас. Это я понял значительно позже. Всем, кто знал Осю, было ясно, что этот человек возвышается талантом, данным ему от Бога. Его прочили в аспирантуру. Попади он в Физтех или другой физический институт, наверняка стал бы выдающимся физиком-теоретиком. Но время было дрянное – 1951 год – разгул антисемитизма. В аспирантуру его не пустили, более того, оставили вообще без распределения на работу. В таком положении оказались еще десятка полтора наших выпускников из числа евреев. Потом так или иначе все устроились кто куда. Устроился и Ося, но как? Поехал в Москву в Министерство высшего образования и потребовал трудоустройства. Там, чтобы отвязаться, предложили Башкирию. И наш Ося вместо Физтеха отправился на нефтепромыслы в город Октябрьский, в филиал НИИ геофизики. Там он занимался кароттажем (обследованием) нефтяных скважин. Вскоре опубликовал несколько теоретических работ о распространении нейтронов в веществе, затем защитил кандидатскую диссертацию. Одновременно обзавелся семьей. В жены он взял простую женщину без образования по имени Валя. Ее слегка скуластое лицо монгольского типа можно было назвать красивым, но впечатление портила некоторая грубость черт. Союз физика-теоретика с кочегаром оказался непрочным. Валя родила двух детей (сына и дочь), но мезальянс со временем становился все круче, и в конце концов семья распалась. Валя ушла к другому, забрав с собой детей.  И. Дядькин. 1949 г. Ося женился второй раз, но тут разыгралась трагедия. Валя погибла от рук нового мужа, оказавшегося душевнобольным. Ося, естественно, забрал детей к себе. Из-за нервного перенапряжения у него развилась язва желудка с сильным кровотечением. Положение было критическим. Когда Ося попал на операционный стол, гемоглобин в его крови упал до нуля. Ему вырезали 2/3 желудка (резекция). Слава Богу, все обошлось. Вторая его жена оказалась стойким человеком. Она выходила Осю и стала второй матерью для его детей. Позже семья переехала в Уфу, где Ося преподавал в Уфимском университете. Там они обзавелись еще одним ребенком, сыном Ефимом. Замечу кстати, что сам Ося был у своих родителей единственным горячо любимым сыном. Жили они в Кронштадте. Когда Ося окончил ЛПИ и уехал в Башкирию, его родители, не долго думая, поменяли свою квартиру в Кронштадте на квартиру в Октябрьском, недалеко от Оси, на соседней улице. Когда же Ося перебрался в Уфу, родители снова отправились за ним на соседнюю улицу. Мудрые были люди: в дела сына не вмешивались, не надоедали, но жили по соседству, любили сына и заботились о внуках. Тем временем Ося увлекся вычислительной математикой, в частности применением метода Монте-Карло в задачах распространения нейтронов (по его собственному выражению, превратился в монтекарлика). Он получил в этой области ряд новых результатов и подготовил докторскую диссертацию. Защитить ее, к сожалению, не удалось, насколько я понимаю, опять же из-за пункта анкеты (еврей). Ося не рассказывал мне в подробностях, что произошло, но обмолвился так: «Вы здесь в Ленинграде говорите, что у вас антисемитизм. Мне смешно это слушать. Вот в Башкирии антисемитизм, так это действительно антисемитизм». Учитывая, что Ося всегда был очень скуп на высказывания по национальному вопросу, я не сомневаюсь в объективности его оценки. Так или иначе, но Ося решился еще на один переезд, теперь в Калинин (Тверь), где и здравствует до сих пор. История такова. В свое время, еще в Октябрьске, у Оси был друг и сослуживец Золотов. Оба они в ту пору были молодыми романтиками. Прочитав однажды рассказ писателя-фантаста А. Казанцева «Гость из космоса», они увлеклись гипотезой о том, что Тунгусский метеорит 1908 года был вовсе не метеоритом, а потерпевшим катастрофу космическим кораблем с ядерным двигателем. На собственные средства во время летнего отпуска в августе 1959 года они отправились в район Подкаменной Тунгуски к месту падения метеорита. Не буду рассказывать об их приключениях, не о том здесь речь. Важны последствия. Ося удовлетворился экспедицией, посчитав, что хорошо провел отпуск. Золотов же, напротив, загорелся еще более, продолжил исследования более профессионально и в результате защитил кандидатскую диссертацию (защита, кстати, проходила в Ленинградском физтехе). Гипотезу ядерного взрыва убедительно подтвердить не удалось (с момента взрыва прошло более 50 лет), однако известность и авторитет Золотов завоевал. Какое-то время спустя он стал директором Тверского НИИ геофизики. Он-то и пригласил Осю работать в Тверь. Тверь недалеко от Москвы, а в Москве уже во всю инакомыслие, самиздат, правозащитное движение, Сахаров и Солженицын. Невостребованные до сих пор в полной мере творческая энергия и светлый ум позволили Осе одним из первых среди нас отбросить вбитые в наши головы догмы и прозреть. Он активно включился в правозащитное движение. Венец его деятельности – книга «Неестественная смертность в СССР, 1928–1954». В одном из своих выступлений в США Солженицын сослался на эту книгу и упомянул имя автора. В своей книге Ося, на основе опубликованных в СССР результатов переписей населения, с помощью метода Монте-Карло заполнил пробелы официальной статистики и впервые назвал число погибших в указанные годы, включая войну. Книга ходила по рукам в самиздате. Последствия нетрудно было предвидеть. В 1980 году Ося был арестован и осужден Тверским (Калининским) областным судом по статье 190-1 УК РСФСР на 3 года лишения свободы в колонии общего режима «За распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Отбыл срок полностью. Как он выдержал, не могу себе представить. Он не сломался потому, что всегда был ярко выраженным оптимистом и отличался физическим и нравственным совершенством. Ося остался оптимистом и борцом за правду, в Твери он уважаемый человек. Что же касается его книги, то она вышла в свет на английском языке в Англии и США в 1983 году. Русскому читателю она неизвестна до сих пор. Позже, в 1989–1991 годах, Ося опубликовал и у нас краткие результаты своих исследований по демографической статистике. Ныне Ося полностью реабилитирован и совесть у него спокойна. Зато она неспокойна у некоторых его друзей, в том числе у меня. Я виноват перед ним, очень виноват. Я не одобрял его правозащитной деятельности, запретил ему вовлекать в эту деятельность моего старшего сына Сашу, не помог Осе и его семье материально. Были, конечно, на то причины. Я хорошо помнил гибель Отца и считал, что Ося добровольно ложится под танк. Я полагал этот поступок бессмысленным и боялся за Сашу, у которого уже был произведен обыск. Скорее всего, здесь не было связи с Осиной деятельностью, но кто знает? Кроме того, я был занят проблемами личной жизни: развод, второй брак, маленький ребенок, потеря высокооплачиваемой должности – вполне достаточные для меня потрясения. Но если говорить начистоту, я просто испугался. Может быть, не столько за себя, сколько за семью и детей. Словом, я не пошел на риск, а Ося пошел. Сознательно пошел на подвиг. Дай Бог Иосифу Гецеловичу Дядькину здоровья и долгой жизни! Из друзей юности осталось сказать про Женю Каймакова. С ним мы учились в одной группе два года. Женя и Ося носили в те годы военно-морские фуражки, причем на Жене фуражка выглядела гораздо элегантнее, чем на Осе. В облике Жени, как и в его фамилии, было что-то восточное. Очень интересный для меня был (и остался) человек. Немного хулиган и авантюрист (в хорошем смысле слова), боксер-любитель, Женя вместе с тем привлекал искренностью, теплотой общения, открытостью и развитым чувством юмора.  Е. Каймаков. 1949 г. С ним мне было хорошо, но судьба постепенно нас развела. После второго курса он выбрал ядерную физику, секретную специальность с секретными лекциями. Распределение получил в Физтех, где проработал всю жизнь. Ему, как и многим в Физтехе, повезло, он попал в лабораторию астрофизики академика Б.П. Константинова. Через несколько лет Женя удивил многих своей кандидатской диссертацией, за которую ему чуть не присудили докторскую степень (не хватило одного или двух голосов). Мы встречаемся с Женей раз в пять лет на юбилеях, и с каждым разом он нравится мне все больше. Дай Бог здоровья Евгению Алексеевичу Каймакову! Рассказ о юности был бы неполным без упоминания о Наташе Брызжевой. Эту девушку небольшого роста с милым лицом и улыбкой я встречал в нашем проходном дворе. Она жила неподалеку, как потом выяснилось, на Старо-Парголовском. Однажды мы оказались в одной компании грибников, возвращающихся из леса. В вагоне пригородного поезда разговорились, потом пели песни, потом читали стихи (помню, я был в ударе и шпарил наизусть из «Евгения Онегина» большие куски). Вдруг появился контролер, девчата заволновались. Оказалось, у Наташи нет билета. Удачный момент для «благородного» поступка! Я отдаю Наташе свой билет, выхожу на площадку, спускаюсь на подножку и закрываю за собой дверь (тогда были в ходу старые вагоны с паровозом). Контролер проходит, не заметив меня, я возвращаюсь с гордым видом. Наташино сердце завоевано. Она была очень романтичной натурой, в полном смысле слова, как тогда говорили, «жертвой раздельного обучения». Я тоже не далеко от нее ушел и влюбился безумно. Пожалуй, именно Наташа осталась в моей памяти как первая любовь. Хорошо помню ощущение радости и восторга, охватывавшие меня, когда я узнавал издалека мелькание Наташиного платья. Любовь, впрочем, была платонической. Наши свидания продолжались, наверное, около года. Первый удар по моему романтизму нанес Шура Потыльчанский. Как-то я привел Шуру в гости к Наташе. Кроме нее дома оказалась еще Наташина старшая сестра, девушка высокого роста и тоже довольно красивая. Когда я спросил Шуру, как ему понравилась Наташа, он ответил: «Ничего, но я на твоем месте занялся бы ее сестрой». Довершила разгром моего идеала Танточка. Видимо, с целью помешать моей преждевременной женитьбе, она авторитетно заявила: «Голубок, опасайся женщин маленького роста!» Бедная Наташа, без выяснения отношений, конечно, не обошлось. На прощание она сказала: «Я верю, что придет время, и мы снова будем вместе». Впоследствии Наташа окончила Горный институт, вышла замуж за геолога, родила сына и, я думаю, была вполне счастлива. Подводя итог воспоминаниям о юности, хочу отметить, что самым ярким ее украшением было именно романтическое отношение к женщинам. Оно сохранялось потом всю жизнь, доставило порядочно переживаний и порой проявлялось как комплекс неполноценности. Иногда я пытался перебороть себя, развить в себе цинизм, но, слава Богу, это не удавалось. Мне было суждено воспринимать женщин не по стройности ног и фигуры. Я влюблялся в женские лица, глаза и мимику, в романтические образы, а любовь мог представить себе только в сочетании с доверием и дружбой. Наша семья после войны (1945–1951 гг.) В годы войны Мама жила надеждой на чудо, на возвращение Отца. Не из тех она была людей, чтобы забыть и смириться. Увы, утешение к ней не пришло до конца дней. Но какое-то облегчение с окончанием войны наша семья получила. Родственники и знакомые, кто уцелел, стали возвращаться. У многих проснулись угасшие было родственные чувства. Наш новый дом в Ганорином переулке постепенно обретал признаки старого довоенного дома: небольшой садик под окнами, цветущая сирень, кусты, деревья, зимой – чистые сугробы. Мама стала оживать. Особенно радовали ее встречи с родственниками. Теперь я понимаю, что во время войны Маме остро не хватало сочувствия и поддержки родных. Потеряв за короткий срок мужа, отца и свекровь, она осталась одна. Были, правда, мы с Эдиком и еще Танточка, но мы – из младшего поколения, а Танточка – из старшего. Для настоящего понимания и сочувствия мы не годились. Возможно, Мама предполагала, что кое-кто из родственников и знакомых избегал общения с нами из-за ареста Отца. На самом деле мне кажется, что просто во время войны и блокады у всех были свои острейшие проблемы. Какие уж тут помощь и сочувствие, если даже добраться из города до Лесного было невероятно трудно. В конце войны и после нее кроме Танточки у нас стали появляться Теодоровичи – Мамина двоюродная сестра Елизавета Петровна и ее муж Владимир Львович. Гости, как правило, приезжали весной и летом, ходили гулять в Сосновку, фотографировались, потом обедали у нас за большим столом. Мама в такие дни бывала оживленной, потчевала гостей. Она прекрасно готовила, пекла пироги. Думаю, эти приемы напоминали Маме довоенную счастливую жизнь и наш бывший гостеприимный дом. Роль фотографа брал на себя милейший Владимир Львович. Я был тогда молод и занят собой. Вряд ли родственные приемы доставляли мне большое удовольствие. Но теперь, на склоне лет, я вижу, что многое тогда воспринял и многому научился в первую очередь у Танточки, а также у Владимира Львовича. Вспоминаю его негромкий, слегка глуховатый голос, его добрую улыбку, с которой он всегда внимательно слушал собеседников, никогда никого не перебивая, его стремление ненавязчиво помочь, его вежливость ко всем, особенно по отношению к женщинам. Он, например, прощаясь, всегда целовал женщинам руки, Танточке, Маме и другим, в знак приязни и уважения. Мне это казалось тогда старомодным и немного смешным. Теперь я сам часто целую ручки немолодым уже женщинам, давним знакомым и друзьям.  Брат-герой Миша Теодорович в день Победы в возрасте 22 лет. 1945 г. Владимир Львович и Елизавета Петровна в самом начале войны проводили на фронт двух своих сыновей 20 и 18 лет. Оба они учились и кончали школу в воспитательских классах у Танточки. Старший Игорь погиб буквально в первый месяц войны. Родители были в отчаянии. Подобная участь вполне могла постигнуть и младшего Михаила. Но Бог миловал. Миша прошел войну невредимым и вернулся домой Героем Советского Союза. Надо было видеть, как гордился сыном Владимир Львович. Он весь светился тихой радостью. Да и все остальные родственники, особенно Танточка, от души ликовали. Помню, радовался и я, когда Миша в 1945 году приехал поздравить меня с восемнадцатилетием. Не к каждому на день рождения приезжал брат-герой! В свои 18 лет я был еще очень наивен, а Миша в свои 18 лет уже воевал. Наши судьбы сложились по-разному. Миша после войны окончил Артиллерийскую академию в Москве и служил в ракетных войсках на Севере и на Нижней Волге. Позже командовал факультетом в ВИКИ им. Можайского в Ленинграде, но дослужиться до генерала не удалось, и он вышел в отставку полковником. Верочка Апонова, Мишина одноклассница, ждала его всю войну. Дождалась и стала верной Мишиной спутницей в его военной судьбе. Миша мечтал отпраздновать 50-летие Победы и золотую свадьбу. Не получилось. Он умер в 91 году от тяжелого инфаркта. Упал на улице и не поднялся, как в бою. Светлая ему память. Теперь о квартире, в которой мы жили во время войны и после нее. Как я уже писал, зимой 1942 года мы поселились в ведомственном доме завода № 436, где я в то время работал. Помню, комендант привел нас в квартиру и показал наши две комнаты. Они были совершенно пустые, с выбитыми окнами. На полу лежал снег. С северной стороны окна уцелели, еще одна комната была заперта. Комендант предупредил, что жильцы уехали, но вещи их остались и мы должны комнату стеречь. Мы втроем жили в одной комнате, вторую сдавали авиационному капитану. К концу войны в ней поселились два слушателя Академии связи им. Буденного, спокойные и приятные офицеры, по национальности армяне. Их фамилии мне почему-то запомнились: Каванасян и Акопян. В 1945 году во второй комнате обосновался я. К этому времени с жильем стало плохо. В Ленинград возвращались беженцы и прибывали переселенцы из деревень и других городов. В ванную комнату нашей квартиры подселили женщину «до подхода очереди», как тогда выражались. Ванная комната служила у нас кладовкой, т. к. ванны там не было. Новая соседка Евдокия Петровна с трудом втиснула туда кровать. Она оказалась очень симпатичным и спокойным человеком. Мама с ней подружилась, и когда через пару лет подошла очередь и Евдокия Петровна съехала, они продолжали навещать друг друга. Я очень благодарен Евдокии Петровне за участие в делах нашей семьи и за помощь, которую она нам впоследствии оказала в трудные дни Маминой смерти и похорон. История ванной комнаты с отъездом Евдокии Петровны не закончилась. Вскоре туда поместили еще одну соседку, молодую женщину по имени Вера, с опухшим лицом и хриплым голосом. Она работала на заводе электросварщицей, крепко выпивала и не отказывала мужикам. Правда, домой она их не водила. В связи с Верой вспоминаю шутку, которую разыграл Шура Потыльчанский. Как-то раз Мама дежурила на телефонной станции в ночную смену, а Шура остался у меня ночевать, наверное, мы готовились к экзаменам. Услышав про новую соседку, Шурик поздно вечером прокрался в коридор и стал стучать в дверь со словами: «Вера, открой, это я, Валя». Вера, слава богу, не открыла, но на следующий день пожаловалась Маме. Было, конечно, выяснение, Мама таких шуток не понимала. Примерно в 1948 году в третью (запертую) комнату нашей квартиры вернулись довоенные жильцы, пожилые муж и жена Пискуновы. Петр Никитич партизанил в лесах Псковской области, жил в землянках, заболел туберкулезом в открытой форме и получил инвалидность. У них был сын, который погиб на фронте. Петр Никитич выглядел сморщенным и почерневшим, как печеное яблоко, но до страсти любил выпить. Оба они жили тихо и очень бедно. Анна Ивановна работала почтальоном, а Петр Никитич состоял в артели инвалидов-надомников. Работу за него, как правило, делала жена – прессовала по вечерам ручным прессом какие-то колпачки. Моей Маме соседи доставляли порядочно забот и огорчений, прежде всего из-за болезни Петра Никитича. Мама беспокоилась за нас с братом – угроза заражения туберкулезом была вполне реальной. Таки заражение произошло, заболел Эдик. Благодаря бдительности Мамы, болезнь обнаружили в самом начале и Эдика вылечили без последствий. Что касается меня, то Бог миловал. Петр Никитич и его жена относились ко мне хорошо, видимо, в связи с воспоминаниями о погибшем сыне. В свой день рождения 31 декабря вечером Петр Никитич всегда приглашал меня к столу и наливал стопку-другую водки. После этого я навеселе отправлялся к друзьям в общежитие встречать Новый год. Все время учебы в институте я жил в комнате, которая одновременно служила нам столовой. Посередине стоял дедовский обеденный стол, над ним висела старинная люстра, вокруг стола стояли резные стулья, точно так же, как в нашем довоенном доме. Не хватало только картин и прочей мебели, пропавшей во время войны. Помню, как в моей комнате проходили иногда студенческие вечеринки. В этой комнате мы с Осей и другими друзьями готовились к сессиям. В этой комнате на большом столе порой готовилась и оформлялась стенгазета «Физик» при участии таких выдающихся наших коллег, как художник Юра Михайлов, редактор Эдик Гельвич и представитель партбюро Гриша Пикус. Прекрасное было время, особенно потому, что в своей комнате я стал относительно самостоятельным и, как мне казалось, независимым. Наша квартира находилась на первом этаже слева. Квартира начиналась прихожей, где размещались: шкафчик с большим зеркалом, большая деревянная вешалка и под ней старинный объемистый сундук с горбатой крышкой. В сундуке Мама держала верхнюю одежду и зимние вещи, а в шкафчике – обувь. На кухне размещалась штатная плита с духовкой и четырьмя конфорками. Мама ею пользовалась по праздникам, а каждодневно готовила на керосинках. Для топки плит и печки мы раздобывали дрова. В отличие от города в Лесном с дровами не возникало больших проблем. Дрова мы хранили в сарае, построенном мной с западной стороны. Были у нас и козлы, и двуручная пила, и топоры. Квартира во многих отношениях представлялась очень удобной, светлой и теплой. Со временем у нее выявились два недостатка: крысы и клопы. Клопов разводили в доме жильцы пролетарского происхождения, а существованию крыс способствовала система канализации. Крысы пробирались в квартиры из выгребных ям по фановым трубам, прогрызали пол на кухне и в коридоре. В дыры я сыпал битое стекло и забивал железом. На какое-то время это помогало. Но забить фановую трубу было невозможно. Словом, борьба с клопами и крысами велась с переменным успехом все время, пока мы там жили. В борьбе с крысами многие годы участвовал кот Барсик, Мамин любимец. Пушистый и красивый, по делам он выходил на улицу и возвращался через форточку в Маминой комнате, а если форточка была закрыта, то терпеливо ждал у дверей. Умер Барсик от старости, но для нас – трагически. Когда он совсем ослаб, я из гуманных соображений (а на деле по глупости) посадил его в корзинку и на велосипеде вывез километров за 5 в поле за Муринский ручей, к совхозу Бугры. Дня через три-четыре Барсик вернулся. Мы нашли его мертвым под Маминым окном. Кроме соседей по квартире мы общались и с соседями по нашему дому и из ближайших домов. Быт в Ганорином переулке во многом походил на сельский или слободской: все знали все обо всех. Дома были двухэтажные, населенные преимущественно семьями рабочих, приехавших до войны из деревень. Вспоминаю с благодарностью Якова Васильевича Гаврилова и Александру Ивановну Комарову, живших в маленькой пристройке к общественной прачечной позади нашего дома. С Яковом Васильевичем, электросварщиком и разнорабочим, мне приходилось в блокаду работать на заводе в одной бригаде, однажды на заготовке дров в Невском лесопарке. Хороший был мужик, он меня опекал и учил. У Якова Васильевича до войны была семья, но потом распалась. Он оказался бездомным и сошелся с такой же бездомной работницей-прессовщицей Александрой Ивановной Комаровой, приехавшей из Калязина. Малограмотная и не слишком красивая женщина, она оказалась крепким человеком и верной подругой. Собственными руками они возвели пристройку к прачечной с крыльцом и палисадником, и жили там долгое время. Пристройка была признана официально и числилась как кв. № 9 нашего дома. У нас установились отношения взаимного уважения и взаимопомощи. Позже, когда я женился и пошли дети, Александра Ивановна помогала нам по хозяйству, готовила обеды. Мы все звали ее тетя Шура. Яков Васильевич, конечно, выпивал и временами довольно крепко. Он умер в возрасте около 60 лет. Тетя Шура очень горевала и долго вспоминала своего Яшу, завещала, чтобы ее положили рядом с ним. Я навещал ее иногда. Постепенно, год от года, разум и память у нее слабели, она плакала и жаловалась, что нет ей покоя и смерти. У меня о тете Шуре осталась благодарная память как о человеке, помогшем мне в молодости после смерти Мамы в ведении домашнего хозяйства. Достаточно вспомнить, что она научила меня солить грибы. А какие вкусные получаются у меня грибы – знают все мои родственники и друзья. Выше я упомянул о прачечной. В старых довоенных домах стирка белья была привычным ритуалом для каждой семьи. Подобно тому как раз в неделю каждая семья ходила в баню, так раз в две-три недели в каждой семье затевалась стирка белья. В доме моего детства на Институтском проспекте белье стирали и кипятили в кухне, а сушили – на чердаке. В доме моей юности в Ганорином переулке нас ожидал некоторый прогресс. Стирали и кипятили белье в прачечной. Общественная прачечная размещалась в небольшом кирпичном здании за домом, напротив окон нашей квартиры. Женщины-хозяйки договаривались об очередности стирок, кто с кем и когда стирает (мы обычно стирали с тетей Шурой, у нее хранился и ключ от прачечной). В прачечной размещались большая печь с вмазанными в нее котлами для подогрева воды и кипячения белья, деревянные лохани для стирки и полоскания белья, а также мелкий инвентарь: черпаки, деревянные лопатки, ведра, стиральные доски. Холодная вода подводилась ко всем котлам и лоханям, пол был наклонный, цементный, застланный деревянными решетками. Вода из лоханей сливалась прямо на пол и стекала под решетками в общий люк. Стирала вся семья. Начиналось с того, что мужчины приносили дрова и растапливали печь (в нашей семье это делал я). Дров требовалось порядочно, особенно зимой. Когда вода в котлах и все помещение достаточно нагревались, прибывала с бельем команда – Мама, тетя Шура и Эдик. Женщины стирали, я полоскал и выжимал, Эдик помогал. Прачечная окутывалась паром, пар колыхался над лоханями, голоса и другие звуки раздавались гулко. Эта обстановка почему-то ярко запечатлелась в моей памяти. В послевоенные годы, живя в пригороде и на первом этаже, я, конечно, мечтал о велосипеде. Отцовский велосипед мне пришлось сдать в военкомат во время войны. Оставался еще Мамин велосипед, дамский. Не помню как, но мне удалось обменять его на старый мужской, который я сам привел в порядок. Велосипед был мне очень дорог, я пользовался им часто – по делам и для прогулок. С тех пор и по сей день я считаю велосипед своим другом и не понимаю, как можно относиться равнодушно к этому удивительному механизму. Моим вторым увлечением стали лыжи. Зимой можно было становиться на лыжи прямо у порога нашего дома. Путь лежал через Сосновку в Озерки и дальше в Шуваловский парк на гору Парнас или в Юкки и на Карабсельские холмы. За многие годы я с друзьями исходил и изъездил там все горки, лесочки и поля. Велосипед и лыжи – неотъемлемые элементы моего счастья и здоровья в молодые годы. Политехнический институт (1946–1951 гг.) Ленинградский политехнический институт (ЛПИ) – целая эпоха в моей жизни. Он дал мне специальность, определил друзей. Оглядываясь назад, вижу, что вся дальнейшая жизнь прошла у меня под знаком ЛПИ. Только сейчас я в полной мере оценил смысл понятия альма-матер (Alma-mater), в буквальном переводе означающее достопочтенная мать. Если не считать деятельности парткома и первого отдела, все остальное было безупречно и благородно. Я получил там багаж, или первоначальный капитал, которым пользовался всю жизнь и по мере сил передавал другим. Весь секрет в том, что мы учились у талантливых людей. Сами того не осознавая, мы получали от них не только специальные знания, но также перенимали их мировоззрения и жизненные принципы. Кроме того, мы активно усваивали опыт жизни в общении друг с другом. Среди нас было много талантливых людей, наших общих друзей. У нас создалось настоящее студенческое братство. Мне бесспорно повезло! Во-первых, наши профессора и преподаватели (в большинстве пожилые) были людьми довоенной закваски, соратниками или наследниками дореволюционного поколения ученых. Во-вторых, мы попали в первый полноценный послевоенный набор. Предыдущие наборы были малочисленными, поскольку все молодые люди до 1927 года рождения либо погибли, либо еще воевали. В 1944–1945 годах открылись школы, в 1945–1946 – появились выпускники, началась демобилизация из армии. Наш набор в количестве около 250 человек составили наиболее деятельные и целеустремленные молодые люди, те, кто после войны очень хотел учиться. В-третьих, мы оказались на физико-механическом факультете, который традиционно, с момента создания в 1919 году, был тесно связан с наукой и притягивал к себе лучших преподавателей и способных студентов. Факультет был задуман академиком А. Ф. Иоффе для того, чтобы растить научные кадры. На примере нашего набора видно, что это эффективно осуществлялось. Кто же пришел на физмех в 1946 году? По возрасту мы различались в пределах 10 лет. Старшие из нас (около 30 %) пришли из армии после демобилизации в возрасте от 21 до 28 лет (1919–1925 годы рождения). Младшие (составлявшие 70 %) пришли после окончания средних школ в возрасте от 17 до 20 лет (1926–1929 годы рождения). Женский пол был представлен на нашем курсе очень скромно (около 10 %). Девушек не привлекала перспектива научной работы, особенно в области ядерной физики. Воспоминания об учебе в ЛПИ теснейшим образом связаны с преподавателями. Я уже упоминал о блестящем составе профессоров. Математический анализ читал Родион Осиевич Кузьмин (1891–1949), член-корреспондент АН СССР, завкафедрой высшей математики. Читал очень хорошо, иногда шутил, чтобы устроить нам разрядку. Экзамены принимал благожелательно и уважительно, что было характерно для большинства преподавателей. «Когда студент не может ответить на мои вопросы, – говорил Родион Осиевич, – я задаю ему один последний вопрос, чему равен интеграл от dx? Если он отвечает правильно, то получает тройку». Общую физику блестяще читал Леонтий Николаевич Добрецов (1904–1968), в ту пору доцент, позже профессор. Его лекции проходили в большой физической аудитории (№ 324, имени Шателена) неизменно при полном сборе слушателей. В кульминационные моменты лекции, когда мы все сидели, как завороженные, Леонтий Николаевич, бывало, восклицал: «Интереснейшая штука – физика, не правда ли?» В ответ раздавались аплодисменты. Математическую физику читал Георгий Абрамович Гринберг (1900–1991), член-корреспондент АН СССР, завкафедрой математической физики и одновременно завотделом математической физики в Физтехе. Исключительно интеллигентный человек, он всегда появлялся на лекциях в строгом костюме и накрахмаленной рубашке с галстуком. Георгий Абрамович рассказывал нам, что он был первым (и единственным) студентом, окончившим физико-механический факультет в 1923 году. Аналитическую механику читал Георгий Иустинович Джанелидзе, профессор, позже завкафедрой теоретической механики, интересный человек с яркой индивидуальностью. В своей среде мы уважительно звали его Джан. Теорию переменных токов читал Павел Лазаревич Калантаров, профессор, завкафедрой общей электротехники, гроза студентов. На экзаменах был строг, двоек ставил порядочно, но справедливо. О его саркастических замечаниях и шутках ходили легенды. Многие из нас пересдавали ему экзамены по два-три раза. Статистическую физику и квантовую механику читал Яков Ильич Френкель (1894–1952), член-корреспондент АН СССР, завкафедрой теоретической физики и завотделом теоретической физики Физтеха. О масштабах его личности и таланта мы в ту пору только догадывались. После его смерти стало очевидным, что Яков Ильич стал классиком теоретической физики. Об этом говорили и писали многие выдающиеся ученые: Иоффе, Капица, Тамм, Семенов, Александров, Зельдович и даже Макс Борн. Где-то я слышал или читал, что сам Эйнштейн будто бы сказал: «Лучше всех мою теорию относительности понимает русский ученый Френкель». К сожалению, у нас Яков Ильич часто подвергался гонениям, особенно в последние годы жизни, чему мы были свидетели. На публичных диспутах в большой физической аудитории лжеученые и продажные журналисты обвиняли Якова Ильича в идеализме и космополитизме. Теперь мы знаем, что в 1948–1949 годах готовилась акция «борьбы за материализм в физике», подобная трагической истории «борьбы за материализм в биологии». Преследования и оскорбления испытывали на себе не только Френкель, но также Иоффе, Капица, Ландау и др. Задуманная акция не состоялась, но жизнь Якова Ильича была сокращена. Он умер в возрасте 58 лет, так и не дожив до звания академика. В отличие от своих коллег по Физтеху – Курчатова, Александрова, Семенова, ставших академиками, Яков Ильич не был привлечен к атомному проекту, хотя, казалось бы, именно он мог сделать многое. Причина, бесспорно, в государственном антисемитизме (впрочем, Эйнштейн в США тоже не привлекался к атомному проекту). Кроме общих курсов мы слушали лекции по специальностям. Радиофизикам читали Михаил Иосифович Конторович (1906–1987), профессор, завкафедрой радиофизики, и Зиновий Иосифович Модель (1900–1993), профессор, завкафедрой радиотехники. Электронщики имели возможность общаться с Петром Ивановичем Лукирским (1894–1954), академиком, завкафедрой технической электроники. Металлофизиками руководил Николай Николаевич Давиденков (1879–1962), профессор, завкафедрой физики металлов. Кафедрой гидро– и аэродинамики заведовал профессор Лев Герасимович Лойцянский (1900–1991), кафедрой динамики и прочности машин и сооружений – профессор, позже членкор Анатолий Исаакович Лурье (1901–1980), кафедрой теплофизики – профессор Илья Исаакович Палеев (1901–1970), кафедрой ядерной физики – академик Борис Павлович Константинов (1910–1969), кафедрой физики диэлектриков – членкор Павел Павлович Кобеко (1897–1954). Такой в наше время собрался букет выдающихся имен. Родившиеся на рубеже веков, наши учителя, несмотря на невзгоды, донесли до нас традиции российской науки. Увы, мы вряд ли сумели продолжить эстафету. Советская действительность искалечила мораль и нравственность нашего поколения. Теперь мифы рухнули, но огромная прореха остается и будет существовать еще много лет после нас. Наша студенческая жизнь не ограничивалась лекциями и занятиями по группам. Были часы и дни, проводимые в читальных залах и дома при подготовке к экзаменам, были встречи и разговоры в столовых и в общежитиях, были праздники, вечера и танцы, были занятия спортом, лыжные походы, загородные прогулки. Золотые времена! Взять хотя бы перерывы. Их мы проводили в коридорах главного здания, химического корпуса, позже 2-го учебного корпуса. Здесь происходили особенно интересные беседы о жизни, рождались шутки и розыгрыши. Убежден, что время, проведенное нами в коридорах вуза, было столь же важным, как и время учебных часов, с той только разницей, что в первом случае мы изучали жизнь, а во втором постигали науки. Именно в коридорах главного здания я нашел своих друзей: Осю Дядькина, Женю Каймакова, Шуру Потыльчанского. Позже, в коридорах 2-го учебного корпуса, круг моих друзей расширился. Любопытно, что перерывы между лекциями и другими учебными занятиями в старину называли рекреациями (от латинского «recreare» – подкреплять). Теперь рекреациями иногда ошибочно называют сами коридоры, чем обедняют смысл этого слова. Наши рекреации именно подкрепляли постижение наук путем приобретения жизненного опыта. Отдельно надо сказать о периодах подготовки к экзаменам. Почти у всех это были периоды жестких штурмов. Каждый раз не хватало одного дня или даже нескольких часов для изучения (или повторения) всех экзаменационных тем. И все же было интересно. Напряженная умственная работа приносила удовлетворение, не говоря уже о кульминационных моментах самих экзаменов, когда профессор Кузьмин (или Добрецов, или Френкель…) говорил: «Давайте вашу зачетную книжку». В этот момент бывали и огорчения: «удовлетворительно» означало семестр без стипендии. Хуже приходилось тем неудачникам, у кого не спрашивали зачетную книжку и приглашали приходить в другой раз. Со мной такого, слава Богу, не было.  Н. Гернгросс, С. Успенская, И. Буровина, В. Кобак Еще одна тема для воспоминаний – общежитие (Танточку, знатока русского языка, это новое советское слово смешило, и она произносила его не иначе как «житие обще»). Я общежитие посещал часто. Меня привлекали дружеские беседы, жажда общения, дух коллективизма, а позже – сердечная привязанность. Жил я недалеко от института и общежитий, в десяти минутах ходьбы. На первом курсе общежитие располагалось в 1-м корпусе, потом во 2-м, т. е. непосредственно на территории института. Места для меня знакомые. В 1-м корпусе во время войны и блокады я учился в 8-м классе вечерней школы. В парке института гулял с друзьями в компании ГаВаЛюКе и Володи Кобзаря. Позже ходил на вечера в студенческий клуб и читал там стихи Маяковского. Клуб располагался в бывшей церкви, примыкающей к 1-му корпусу института. Потом общежитие перевели на Прибытковскую улицу, а на последних курсах оно переехало в студенческий городок во Флюговом переулке (между Лесным и Полюстровским проспектами). В 1948–1951 годах моими друзьями и задушевными собеседниками были Ося Дядькин, Женя Каймаков, Андрей Петров, Никита Гернгросс, Лева Журавлев, Ира Буровина, Светлана Успенская. В числе добрых знакомых, а впоследствии друзей, не могу не вспомнить Витю Пересаду, Мулю Готсбана, Стасика Баженова, Толю Арша, Юлия Уханова, Галю Гридасову (Баженову). Некоторых из них, увы, уже нет в живых. Каждый из них сыграл какую-то роль в моей судьбе. Я вспоминаю о них неизменно с благодарностью. Бесспорно, «в младые годы узы дружбы составляют все». Очень важно помнить это в старости и не обижаться на детей. Последние год-полтора моей студенческой жизни были согреты общением с Никитой Гернгроссом, Ирой Буровиной и Светланой Успенской. Обычная, в общем-то, коллизия – два парня и две девушки-подруги. Необычность заключалась в дружеском характере наших встреч. Мы много разговаривали и спорили, частенько пели песни под незатейливый аккомпанемент Никитиной мандолины, гуляли вечерами и белыми ночами, но не стремились уединиться по два. Теперь я думаю, что мы с Никитой еще не созрели для любви. Отдельно хочется рассказать о наших комсомольских стройках. Активисты электромеха предложили план строительства малых гидроэлектростанций в Ленинградской области. План был поддержан физмехом и другими факультетами. Материальное снабжение обеспечивало государство, бесплатной рабочей силой были студенты. Проектирование и руководство стройками осуществляли студенты-дипломники (электрики и гидротехники). Работы велись летом во время каникул и частично захватывали сентябрь. Большинство из нас, особенно ленинградцев, участвовали в стройках Алакусской ГЭС в 1948, Ложголовской ГЭС в 1949 и 1950 годах, Непповской ГЭС в 1949 году. Впоследствии выяснилось, что станции быстро разрушались и оказались невыгодными. Но тогда, во время строек, нас охватывал удивительный трудовой энтузиазм. Мы были молоды, здоровы и веселы. Тяжелый физический труд, неустроенность быта нас совершенно не огорчали. 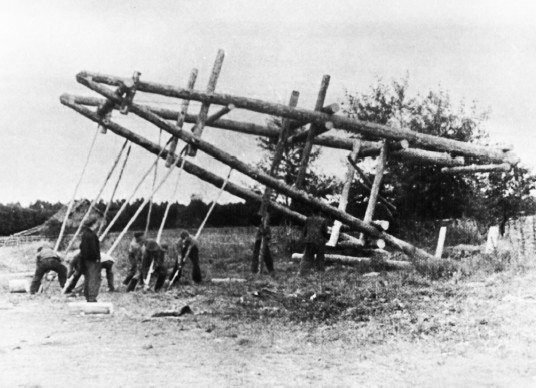 На строительстве линии электропередач в Ложголове. 1950 г. Совместная работа сопровождалась шутками, нехитрую еду готовили дежурные, спали мы в палатках или дырявых сараях мертвым сном. Как это ни странно, но у подавляющего большинства стройки остались в памяти как одни из самых приятных впечатлений о пребывании в ЛПИ. Что-то здесь, несомненно, есть – то ли в идее безвозмездного коммунистического труда, то ли в захватывающей массовости этого труда, то ли просто в молодости участников. За участие в стройках многие из нас были награждены почетными грамотами ЦК ВЛКСМ. В те годы было принято вручать грамоты по разным поводам: за профсоюзную работу, за успехи в спорте, за шефскую деятельность и т. д. У меня сохранились грамоты ЦК ВЛКСМ, Ленинградского облсовета и спортклуба «Политехник». На каждой из них помимо прочего запечатлены слова «Пролетарии всех стран – соединяйтесь!». Этот лозунг я вижу и на своем старом билете спортсмена-разрядника. Он присутствовал на всех партийных, комсомольских и профсоюзных билетах СССР. Без него не могла появиться ни одна газета, начиная от стенной газеты класса, школы или вуза, до центральных московских газет, включая «Литературную», «Учительскую», «Экономическую», а также «Советский Спорт», «Советские шахматы» и т. д.  На стройке Непповской ГЭС. 1949 г. Наверное, этот лозунг побил все рекорды мира по тиражу. Странно, я не помню, чтобы нас он раздражал. Шутить иногда шутили, но вяло. Следующая тема – военное обучение. Однажды в жизни я уже проходил его во время войны, на так называемом всеобуче. Если не считать блокады, на войне мне бывать не пришлось. Родившихся в 1927 году начали брать в самом конце войны. До меня очередь не дошла, а может быть, была отсрочка, поскольку я работал на номерном заводе. В вузе мне пришлось пройти военную подготовку еще раз. К ней привлекли студентов всех специальностей, кроме ядерщиков. На военной кафедре нас учили офицеры в чинах от капитана до полковника. В конце курса обучения, после месячных (или чуть более?) военных сборов и учебных стрельб, нам были присвоены звания офицеров запаса, командиров взводов дивизионной артиллерии. Самым запоминающимся событием явились сборы. Нас одели в солдатскую форму, поселили в армейских палатках на деревянных нарах, заставляли делать зарядку и пробежку, муштровали на плацу, водили строем в столовую и обратно, давали провинившимся наряды вне очереди и т. д. Словом, приучали к солдатскому быту. Поначалу было трудновато, но к концу сборов мы освоились и наш взвод, грохоча сапогами, пылил по дорогам с залихватской песней «Ласточка-касаточка». Песню сопровождал молодецкий посвист. Жители местного поселка таращили на нас глаза. Самым ответственным и напряженным явился для нас последний 1951/52 учебный год. В декабре 1951 состоялось распределение на работу, потом преддипломная практика, потом дипломная работа и под занавес прощальные застолья. Распределение происходило в кабинете ректора ЛПИ. Оно оказалось тайным, для многих – несправедливым, а для некоторых – даже трагическим. Кроме номеров почтовых ящиков зачастую не было никакой другой информации о предприятиях, на которых выпускникам предстояло работать. Евреям почтовые ящики вообще не предлагали, в лучшем случае заводы или другие заведения без перспектив научной работы. Многие остались без распределения – устраивайся сам. Среди последних оказались мои друзья Ося Дядькин, Изя Дворкин и Муля Готсбан. В те годы решающую роль в судьбах людей играли их анкеты. У меня сохранился черновик одной из первых анкет, заполненных при поступлении на работу после вуза в 1952 году. Документ красноречивый: анкета на шести страницах, не считая автобиографии, содержала 34 вопроса. Даже простое ознакомление с ними вызывало трепет. В моей анкете значились арест и смерть Отца, поэтому у меня не было никакой надежды на приличное распределение, особенно в почтовый ящик, т. е. (как теперь говорят) на предприятие военно-промышленного комплекса. Помню, распределение заканчивалось, коридор около приемной ректора опустел, а меня все не вызывали. Я в числе десятка оставшихся уже потерял надежду, как вдруг дверь приемной открылась, незнакомый человек спросил, кто здесь Кобак, и предложил мне отойти в сторонку и поговорить. Представившись как-то неопределенно и не совсем внятно, он попросил рассказать, что произошло с моим Отцом. Я выложил ему все, что знал, а знал я немногим больше того, что написал в анкете. Выслушав, человек попросил подождать и удалился в приемную. Потом вышел другой человек, тоже выслушал мой короткий рассказ об Отце и удалился. Видимо, они совещались. Под дверью толпились оставшиеся неудачники и подглядывали в щель. Я тоже заглянул и заметил, что второй человек разговаривает по телефону.  30-летняя юбилейная встреча выпускников физико-механического факультета ЛПИ. 21 мая 1982 г. Потом снова появился первый человек, отвел меня в сторонку и каким-то слегка торжественным голосом заявил, что приглашает меня в большой НИИ, где я смогу работать в области радиолокации. «Работа интересная, и вы не пожалеете, если согласитесь», – сказал он. Боже мой, конечно, я был согласен! Я чуть не бросился на шею благодетелю. Как впоследствии выяснилось, благодетелями были будущий мой начальник отдела и заместитель директора по режиму (одновременно полковник КГБ). Они приехали на распределение без предварительных заявок, не получили полноценных специалистов и решились взять «брак». Кроме меня они пригласили Витю Пересаду. Нам повезло! Окончание ЛПИ весной 1952 года было для всех нас долгожданным, но одновременно и грустным. Мы стремились в будущее, переходили рубеж, отделяющий молодость от зрелости. Инстинктивно мы чувствовали значительность прошедших лет, но не осознавали ее до конца. Прощались друг с другом второпях, обнимали друзей с глазами, устремленными куда-то вдаль. Лишь много позже нам стала ясна пронзительная грусть тех дней. Многие поколения студентов до и после нас расставались и с годами совсем теряли связи. Нашему курсу повезло. К десятой (1962 г.) годовщине нашлись энтузиасты и возник оргкомитет, положивший начало нашим регулярным встречам раз в пять лет. Это была замечательная идея. Юбилейные встречи стали для большинства участников не просто радостными, но счастливыми событиями, встречами с друзьями, с молодостью. Встречи всегда проходили в мае в Доме ученых в Лесном, а последняя, в 1992 году, – в Большой физической аудитории и на кафедре общей физики в Главном здании ЛПИ. В 1992 году у нас уже не было средств, чтобы снять помещение в Доме ученых. Не было банкета и фотографирования, но встреча прошла прекрасно. Само пребывание в Большой физической аудитории настроило нас на лирический лад… ДЕТСТВО В ЛЕСНОМ Галина Всеволодовна Кравченко Об авторе: Галина Всеволодовна Кравченко родилась в 1930 году в Лесном. Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета. В начале 1960-х годов работала в Абакане, в газете «Советская Хакасия». С 1963 по 1991 год преподаватель кафедры методики культурно-просветительной работы Высшей профсоюзной школы культуры. Главная область интересов – теория и практика экологического воспитания молодежи. * * *Дома умирают, как люди – от старости или трагически. Редко какому из домов бывшего Лесного удалось дожить до своих преклонных лет. Их трижды уносило ветром беды и перемен: в революцию, в блокаду и генеральной застройкой второй половины XX века. Вместе с ними унеслось, растворилось в пространстве и времени, оставшись только в истории, и само его имя собственное, которое звучало как пароль, как присяга: «Лесной». Потом здесь появилось пятно пятиэтажек. Поступь новой эпохи рисовалась однообразно и прямоугольно. А старый мир исчез. Совсем и навсегда. Исчез единственный в своем особом облике проспект – нет, сам-то он остался, но совсем потерялось и стерлось его прежнее лицо, неповторимое и пленительное, оно завораживало и влекло в свои потаенные дали, казалось – хранило тайну и обещало интригу. И секрет этот был. Потому что тогда, когда он еще назывался своим настоящим именем – Старо-Парголовский, и до того, как все это случилось, если сойти летом с трамвая на Спасской и выйти к началу проспекта, то за первым особняком в стиле мавританского замка не увидишь ни одного дома, ни одного строения, все они отступили в глубину садов, а справа и слева от пути, насколько хватает глаз, только кроны деревьев, подбитые шпалерой желтой акации. Ее плети смыкаются с кружевом их ветвей, образуя навесы, своды, аркады, и затененные пешеходные дорожки с обеих сторон скрылись в этих нескончаемых, увитых листвой тоннелях. Что это – городская магистраль или сказочная лесная дорога? Могучая булыжная грудь проспекта широка и горделива, ведь пролег он на подъеме и, все набирая высоту, устремился дальше, прямо к Поклонной горе. Старая Парголовская дорога. Царская дорога к Шведскому королевству. И на всем его пути как нарастающий лейтмотив – сосны, сосны Лесного: одиночные в ближайших дворах, они стояли отрешенно и строго, словно какие-то доисторические вехи; дальше, за ними, явились уже сосновые рощи; и, наконец, справа, на высоте, встает настоящий сосновый бор без подлеска. Янтарные колонны под сводами крон, бархат изумрудного мха. Сосновка. А сады и поляны слева сначала только намеком, а потом все круче и круче начинают уходить под уклон. Исчезли сады и палисадники, пруды и куртины, клены, ясени, плакучие березы, дубовые рощи, жасмин, сирень, бузина. И еще многое-многое, что составляло и обрамляло этот былой мир и уклад его жизни. Мне могут возразить, возможно, скажут – смотрите, сколько всего еще осталось – есть и березы, и клены, липы и вязы, черемуха, жасмин и сирень… Да, и вдоль проспекта, и во всех дворах есть и деревья, и даже цветущий кустарник, но все они уже совсем в другом мире, да и сами они уже не те, и заботы у них теперь другие, среди которых две главные: дотянуться до солнца и прикрыть собой безликую наготу стен. Исчезли улицы: Новая, Лесная, Янковская, Объездная, Раздельная, Яковская, Ананьевская, Васильевская, Михайловская… Нет больше наших старых дворов, и нигде не осталось тех убитых до тверди прихотливых дорожек, по которым так славно, так вольно было разбежаться или катиться на велосипеде! Дорожки и тропинки эти тоже бежали от двора ко двору, от дома к дому, то напрямик по диагонали, то огибая палисадники, сараи, огороды. Навсегда исчезли и сами дома – почти сплошь деревянные, исконно бревенчатые или фигурно обшитые рейкой, чаще всего двухэтажные, непременно с верандами, многие с теремками и башенками, а иные еще и в кружеве резьбы или в радуге витражей. У каждого свое лицо. Загородный деревянный модерн. Старо-Парголовский, 32 Участки домов № 32 и 34 по Старо-Парголовскому проспекту в начале XX века принадлежали домовладельцам Шмитту (№ 32) и лесопромышленнику Липатову (№ 34). Под каждым номером было по нескольку флигелей, и только один из них выходил на проспект, остальные рассыпались по склону и уходили далеко вглубь участков (на этом месте стоят сейчас корпуса дома № 40 по проспекту Тореза).  Угол Институтского и проспекта Тореза. Современный вид. Здесь был парк Турчиновича, за ним – участки домов № 32 и 34 по Старо-Парголовскому проспекту После революции и до конца 1930-х годов дом № 32 состоял из девяти, а № 34 – из пяти отдельных жилых строений. Ближними к проспекту были протянувшийся вдоль него одноэтажный флигель 32-го, за ним, стоявшая чуть наискосок и торцом к проспекту, дворницкая дома № 34. Главные же, «господские» дома стояли чуть ниже, в глубине участков, остальные – вокруг них и еще дальше под уклон. Все квартиры в них сдавались в аренду. После революции жильцы, которые там оставались, стали съемщиками национализированного государственного жилья. Появились, как и во всем городе, ЖАКТы[10] и управдомы. Поскольку оба эти участка примыкали друг к другу и не были разделены какой-либо видимой границей, постройки тесно переплелись между собой, сомкнулись садами и объединились общими внутренними дворами, так что не сразу можно было определить, какой флигель к какому номеру дома относится. Да и двор-то по существу был один, только состоял он из нескольких свободно соединяющихся друг с другом площадок. Все это вместе образовывало свой замкнутый посад, некий оазис среди соседних свободных земель. Если смотреть от проспекта, то слева был так называемый «парк Турчиновича», справа – пустырь с одиночными соснами до самой Васильевской улицы[11]. Внизу, за последними нашими домами, огороды, и только за ними – Раздельная улица, она возникала прямо среди картофельного поля и вела к трамвайному кольцу у «Светланы». На пустыре справа незадолго до войны для рабочих завода «Светлана» построили стандартные дома: двухэтажные деревянные бараки, каждый – с двумя входами и под черной рубероидной крышей. Вид этой внезапно возникшей колонии представлял бы предельно унылую картину, если бы не такой же светлый, как и сам песчаный склон, простодушно-желтоватый цвет возведенных построек. Но жизнь их оказалась совсем короткой. Во время блокады их разобрали на дрова. Однако само место, где совсем недолго простояли бараки и которое до этого нам казалось таким, будто там ничего никогда и не было, имело свою давнюю историю. Именно здесь в конце XIX – начале XX веков находились усадьба и парк Николая Васильевича Латкина, известного в те времена ученого-географа и золотопромышленника, а в 80-е годы XIX века и директора Дома милосердия на Большой Объездной (ныне – улица Орбели). Мне говорили, что в той стороне Старо-Парголовского, недалеко от Исакова переулка, в одном из дворов еще долго сохранялся мраморный фонтан. Видимо, это было последнее напоминание о бывшем имении Латкина. Над Лесным, каким я застала его в своем детстве, уже пронесся тот первый ураган беды – вот и появились вокруг нас пустыри на месте бывших усадеб. Эту картину запустения очень наглядно передал в своем очерке первый историк Лесного С.А. Безбах: «После революции и отмены права собственности на землю строгое разграничение участков постепенно исчезло. К этому времени в связи с разрухой и топливным кризисом была снесена большая часть заборов, да и самые дома также часто шли на топливо. В эти годы Лесной имел печальный вид. Множество пустырей с грудами кирпичей и остатками труб, обозначавшими места исчезнувших домов, широкими прорехами разделяли уцелевшие постройки. Самые дома, зачастую наполовину заселенные, занесенные снегом зимой и окруженные бесчисленными огородами летом, тоже выглядели невесело». Мы жили на большом удалении от проспекта, поэтому самые верхние, небольшие и одноэтажные, почти деревенские дома помнятся плохо. Каждый стоял в своем палисаднике, один из них был с мезонином. Даже двухэтажный шмиттовский особняк, в котором до последних его дней жил кто-то из семейства бывшего домовладельца, запомнился лишь своей основательностью, добротностью и каштановым цветом бревенчатой кладки. С севера он замыкался брандмауэром. Эта каменная стена долго еще оставалась потом, после войны, когда самого дома уже не было. Она возвышалась среди густой заросли акаций и сирени как памятник былому, напоминая собой руины какой-то старой крепости и придавая пейзажу романтический настрой. Между палисадниками и дальше вниз, под сенью акаций, шла самая уютная и таинственная в наших дворах дорожка, по ней мало кто ходил, только от дома к дому. Летом там, под навесом листвы, всегда было прохладно и пахло почти как у лесного ручья. Слева от нее, вдоль и чуть ниже, в овражке, уже на границе парка Турчиновича, весь окруженный зеленью, прятался низенький светло-серый домик. В нем жила большая семья Павловых, где были уже взрослые братья и сестры. В блокаду дом Павловых сломали первым. 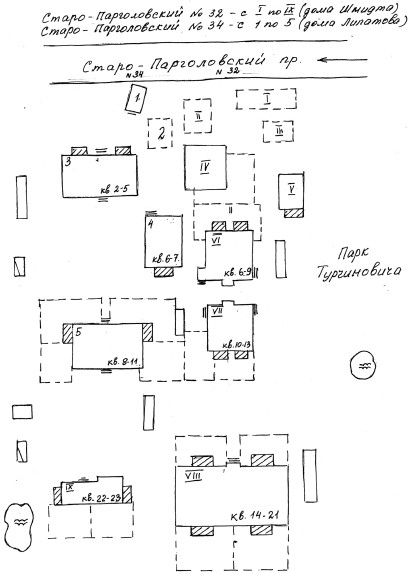 Примерный план расположения домов № 32 и 34. Дом № 32: IV – дом О.М. Шмитта; V – дом Павловых; VI – «кондратьевский» дом; VII – «станкинский» дом; VIII – дом, где жили мой дед В.А. Трофимов и вся семья моего отца; IX – «Шаповаловский» дом; 1 – дворницкая дома № 34; 3 – дом Липатова; 4 – дом семьи Нины Завитаевой; 5 – мой дом (до войны) Справа и еще дальше от проспекта стояли два двухэтажных и совсем одинаковых дома, только развернутых в разные стороны, как бы зеркально отраженных в плане. В нашем обиходе их называли «кондратьевский» и «станкинский». Своей парадной стороной, каждый с четырьмя застекленными верандами, они смотрели один – на восток, второй – на запад, а друг к другу были обращены их два крыльца: одно – под крышей на резных столбиках и с боковыми стенками от верхней ступени, второе – пологое и без навеса. На высоком крыльце первого дома летом часто сидели, оно выходило на теплое вечернее солнце. Кондратьевы жили на первом этаже: сам Кондратьев – похожий на цыгана, чернявый мужик, суровый и молчаливый, с чапаевскими усами, его и звали Василий Иванович, жена, Анна Афанасьевна, и два их сына – Николай и Борис. Кондратьев был пожарным, ходил уверенно и твердо, смотрел прямо перед собой. Анна Афанасьевна была скуласта, тоже смуглолица, но ходила, наоборот, пригнувшись, словно придавленная какой-то невидимой тяжестью. Она почему-то помнится мне в низко повязанном на лоб платке, узлом на затылок, бесшумно передвигающейся где-то в глубине своих полутемных сеней. Там, на комоде, стояло молоко, за которым приходили соседи. У Кондратьевых была корова. Но мы брали молоко не у них, а ходили на Раздельную к Скавронским. Братьев я помню уже подростками, летом их стригли наголо. Они считались озорными и драчливыми, мне предписывалось держаться от них подальше, однако я никогда не видела, чтобы они в наших дворах кого-то обижали. Оба погибли на войне. Борис – на Невском пятачке, Николай пропал без вести. На втором этаже этой же половины дома жили Волковы. Петя Волков и его сводная сестра Зина Шкаликова, сверстники моих родителей. Зина была подругой моей мамы. В 1920-е годы все они учились в 168-й школе на Малой Объездной – бывшем Коммерческом училище. Зинаида Зиновьевна обладала красивым и редким голосом – контральто, сохранившимся до самых ее преклонных лет. Но профессиональной певицей она так и не стала: ее полностью поглотили заботы о своей семье. В последние годы жизни она выступала с хором ветеранов Дворца культуры им. Крупской. А в те далекие годы, когда у нас дома в старом Лесном собирались гости, они с мамой исполняли на два голоса романс Полины и Лизы из «Пиковой дамы». Но еще чаще у нас звучали украинские народные песни под аккомпанемент мандолин. К Волковым на второй этаж вела одномаршевая лестница в ущелье глухих стен, как трап на корабле. Перила крепились прямо на эти стенки, и только наверху, на площадке над ней – ограждение на резных столбиках. В этих домах было по четыре квартиры (число их обычно угадывалось по числу веранд, их в нашем окружении чаще называли террасами); две другие квартиры второй половины дома имели свое отдельное крыльцо, выходившее на дорожку, которая шла вдоль дома Павловых. Напротив стояли сараи. Дорожка здесь, уже не таясь, пересекала ту, что шла между двумя этими домами к верхнему двору 34-го, затем огибала палисадник и выходила на последние, нижние дворы. Сюда были обращены все четыре веранды и палисадники другого дома. В одной из квартир второго этажа жили Стан-кины. Фамилия эта в разговорах взрослых упоминалась часто, но я из их семьи помню только Лялю Станкину, стройную кареглазую девушку. Подрастающей девчоночьей половине нашего двора она представлялась идеалом женского очарования. Одевалась очень красиво, даже изысканно, летом на ней всегда были какие-то воздушные платья и блузки из модных тогда креп-жоржета, маркизета, шифона. За ней тянулся аромат дорогих духов… Под Станкиными жила дама с двумя собачками – Милитина Максимовна. Два шпица – белая-белая волнистая шерсть и бусинки черных глаз. Они бежали рядом парой, у них не было ошейников, а поводки крепились постромками на груди. Милитина Максимовна шла за ними, держа поводки в одной руке, и выглядела важной и величественной. Она слыла образцовой и педантичной хозяйкой. Ее сад, куда выходила терраса, был очень ухожен, но не совсем обычен: в нем почти не было ярких летних цветов. Красота его являлась в плавных изгибах песчаных дорожек и закругленных клумб. Почти везде цвет только зеленый, листья разных его оттенков и формы. Желтый песок дорожек и серый камень бордюра клумб. В этом саду я впервые увидела ревень и резеду. Я смутно чувствовала, что Милитина Максимовна, ее тихий и аккуратно одетый муж, ее собачки и садик, весь их уклад – все это как будто пришло из какой-то другой жизни, как продолжение чего-то мне неведомого, словно персонажи в спектакле вдруг явились совсем из другой пьесы. Но это-то и было особенно интересно и по-сказочному завораживало. У Милитины Максимовны была уже взрослая дочь Женя, высокая рыжеватая молодая женщина. Незадолго до войны они почему-то переехали в наш дом, в нижнюю квартиру, и сада у них уже не было. В блокаду все умерли от голода. Во второй половине «станкинского» дома жила со своими родителями Неля Фоминых, девочка моего возраста. Как я узнала позднее, ее отец был заместителем директора одного из крупнейших Ленинградских заводов – завода имени Сталина (теперь – «Металлический завод»). С самого раннего детства я уже слышала об этом заводе, знала, что на нем делают турбины, знала потому, что в его конструкторском бюро уже тогда работал мамин младший брат Борис (он беспрерывно проработал на заводе 49 лет и прошел путь от чертежника до ведущего конструктора паровых турбин).  «Станкинский» дом, в левом крыле на втором этаже жила семья Фоминых. Из семейного архива Н.А. Фоминых Несмотря на то что наши сады соприкасались, мы с Нелей вместе почти не играли – она принадлежала к ватаге верхнего двора, я – нижнего. Разделял наши сады глухой и высокий дощатый забор, в щели которого я иногда видела Нелю в ее тенистом саду, длинном и узком, где, как мне кажется, были только деревья. С нашей стороны у забора росла черемуха. На доступной с земли высоте ее ствол разветвлялся, образуя изгиб. Там мы любили сидеть как в кресле. В углу, где сходились три сада, рос пышный куст бузины.  А.Л. и Л.П. Фоминых с детьми Альфредом и Нелей В одном из этих двух домов жила Маргарита Евгеньевна, учительница немецкого языка в Коммерческом училище. Как-то папа сказал, что она преподавала еще и физкультуру, была отличной гимнасткой. Маргарита Евгеньевна вела замкнутый образ жизни, обычно ее можно было встретить в нижней части парка Турчиновича, где она прогуливала своего бульдога. Еще дальше вниз от «станкинского» дома, с другой стороны поляны, весь в оплете ветвей кленов, ясеней и берез, стоял самый большой, двухэтажный, и, пожалуй, самый красивый из всех наших домов. Он, так же как и оба перед ним, был обшит рейкой цвета северного неба. Но в отличие от них он имел нарядный и не совсем обычный фасад. Если существовал такой стиль – загородной эклектики, то, наверное, это был как раз он. Симметричные башни застекленных веранд завершались треугольными фронтонами, а между ними, в глубине, серая бетонная тумба с гребешком аттика наверху. Внутри за ней – центральная и единственная лестница, куда выходили двери всех квартир. Над парадным, одно над другим, два закругленных витражных окна – одно высокое, почти в два лестничных марша, второе – словно его отсеченная верхушка. Цветные квадратики стекол веселили и ласкали глаз, но еще лучше было смотреть на них изнутри, на свет. Пурпурные, синие, зеленые и желтые и с матовым узором, как кружева. Ступени лестницы были каменными, а площадки выложены белой и вишневой плиткой. Когда в начале 60-х годов этот дом сносили, он сопротивлялся до последнего: лестницу пришлось взорвать. В этом доме было больше всего квартир – восемь (еще четыре веранды выходили на запад). Квартиры с 14 по 21 номер, т. к. нумерация шла последовательно по всем флигелям. Одна квартира на втором этаже с южной стороны была сдвоенной (18 и 19), в ней жили родители моего отца и его братья.  Баба Зина – З.Н. Семенова. Фото 1912 г. Баба Зина, Зинаида Николаевна Семенова, и дед, Владимир Александрович Трофимов, всю жизнь прожили в гражданском браке, и получилось так, что мой отец, как и его младший брат Василий, носили фамилию и отчество первого мужа моей бабушки, отца ее старших сыновей. Дед был учителем русского языка и литературы и преподавал в Коммерческом училище, а потом работал на кафедре русского языка в Ленинградском университете. Об этом я знала. Но никто не рассказывал мне тогда, что дед еще более тесно был связан с общественной жизнью и историей Лесного. Во-первых, сразу после того, как летом 1917 года Лесной был включен в черту города, он стал председателем избранной Лесновско-Удельнинской подрайонной думы. Во-вторых, он был одним из основателей школьного краеведческого движения – кружка изучения Лесного в Коммерческом училище. Этот кружок, в свою очередь, послужил истоком создания в 1923 году «Отделения Общества „Старый Петербург“ в северных окрестностях», которое «взяло на себя продолжение и развитие работ кружка изучения Лесного, но уже на территории всей северной, заречной, части города». С. А. Безбах был учеником деда.  В.А. Трофимов. Фото 1909 г. с дарственной надписью В двух квартирах первого этажа жили Андреевы и Лисицыны. «Вовка и Ленька» Андреевы были двоюродными братьями Кондратьевых и так же, как те, и как Дима и Зоя Лисицыны на несколько лет старше меня. Братья Андреевы росли без особого пригляда. Они часто, как у нас говорили, «болтались на улице»: просто так или гоняли в футбол, то есть бегали за мячом, отнимая его друг у друга, одни или еще с кем-то из ребят. Оба были смуглы, коротко, но как-то не очень ровно стрижены, глаза – черные угольки. Они носились во дворе, как взъерошенные галчата. Баловались рогатками. В их семье жила еще старшая сестра по матери – Нина. Она заметно отличалась от братьев: умница, серьезная, работящая. У нее ладилась вся домашняя мужская работа. После войны она окончила Педиатрический институт и поступила в аспирантуру. Когда началась война, старший из братьев Андреевых и его двоюродный брат Николай учились в ремесленном. Вместе с училищем их отправили в эвакуацию на Урал, на завод в Нижнем Тагиле, откуда они потом сбежали. Бежали от голодной жизни. Пробираясь домой, подо Мгой попали к немцам. О Николае больше никогда ничего не слышали. Владимира угнали в Германию. После войны он вернулся. Леня был призван в конце войны и служил на Дальнем Востоке. Дима Лисицын отвоевал на Карельском, его тоже призвали не сразу. А в конце 30-х он был худеньким подростком с острым личиком, нрава спокойного и тихого, но с чуть заметной хитринкой в глазах. Зою мы звали Зайкой, она немного косила, но зато ее необыкновенно пышные волосы вились так, что, казалось, их нельзя было расчесать, и золотисто-пшеничным снопом возвышались над ее головой. На всю округу Лисицыны славились своим великолепным садом. Каких цветов там только не было! За ними ухаживала Александра Андреевна, строгая на вид, с неизменной папироской в плотно сжатых губах. Дима и Зайка ей помогали. Они воспитывались в труде. До войны между семьями моих родителей не было очень тесных и теплых отношений, не было и каждодневного общения. Мы оказывались у бабы Зины обычно только по праздникам или в связи с какими-то другими событиями. Она тоже иногда приходила к нам. Перед этим созванивались. У нас тогда уже были телефоны, что в Лесном встречалось еще не так часто. Наш: «Лесная – 26», их: «Лесная – 4-13». Дома стояли наискосок друг от друга, их разделяли только сараи. Тогда я не могла и предположить, что через несколько лет этот дом станет моим вторым родным домом, что я проведу в нем всю свою юность. Последний, девятый, флигель 32-го пошел почему-то вбок и стоял уже за домами 34-го. Одноэтажный бревенчатый домик всего на две квартиры. Обе его веранды выходили крыльцами в сады. Там росла коринка, а справа был пруд. Дом называли «шаповаловским»: в нем жили уже взрослые, но еще совсем молодые брат и сестра – Евгений и Елена Шаповаловы (Жека и Ляля), и их мама, Мария Порфирьевна (кажется, тогда был жив еще и отец, но я его не помню). Жека «не разлей вода» дружил с моим дядей Васей, младшим братом отца, и был своим в доме бабы Зины. Он работал в «Ленэнерго» на Марсовом поле. Погиб во время блокады при артобстреле. Ляля перед самой войной вышла замуж за своего сокурсника-грузина, студента Института им. Лесгафта. Его мобилизовали в первый же день войны, и он пропал без вести. У Ляли родилась дочь Татьяна, впоследствии она окончила университет и стала биологом. В одной квартире с Шаповаловыми, в узкой маленькой комнате с единственным окошком, жили Никитины – две девочки, Тамара и Вера, со своими родителями. Все они были красивы здоровой и доброй красотой. Помню приветливое, широкое лицо мамы, Марии Михайловны, ее слегка вьющиеся каштановые волосы до плеч, помню облик отца – человека среднего роста, крепкого и ладного – и до сих пор как будто слышу его жесткий белорусский выговор. Кажется, он работал завом какого-то овощного магазина. Девочек стригли коротко, но оставляли челку до глаз (тогда так было модно – как у Светланы Сталиной на знаменитом портрете вождя с девочкой в матроске на руках). Верочка была моей подружкой. Старо-Парголовский, 34 Главный дом 34-го – двухэтажный, белый – был сложен из кирпича и оштукатурен, со скромным рельефным орнаментом по фасаду. Он стоял высоко, только чуть отступив от проспекта и обратившись к нему всеми четырьмя верандами и своим парадным входом. Со стороны двора он целиком открывался взору и смотрел с высоты уверенно и строго. В центре – крутые ступени крыльца черной лестницы. Это и был собственно «липатовский» дом. Но в наше время никого из Липатовых в нем уже не было, и мы обычно называли его «завитаевским»: Завитаевы поселились здесь еще при Липатове. Самыми молодыми среди них были Игорь, Юра и их сестра Валентина. Кроме них в этом доме жили Толя Горячев и Соня Бого-рад. Потом в этот же дом въехала большая семья Прокофьевых с тремя детьми – Юрой, Милой и Геной. Все они были очень высокие. На первом этаже жили три сестры Полант, женщины средних лет. Позже к ним приехала и четвертая, младшая сестра, с девочкой Нелей, моей ровесницей. Позднее я узнала, что ее отец был начальником полигона на Пороховых. В конце 1930-х он был арестован и расстрелян. Так Неля Николаева оказалась среди нас…  Нина Завитаева с братом Авой, 1931 г. Завитаевы жили и в соседнем деревянном доме, на втором этаже. Это была семья Нины Завитаевой – ее отец Владимир Андреевич, мама – Ольга Петровна Пуссеп и старший брат Володя. Во дворе его звали Ава (на самом деле его звали Владислав, он, видимо, маленьким называл себя «Ава», так и пошло – из семьи во двор. Кроме того, в своих компаниях он числился как «Завитаев», но на самом деле носил фамилию по матери – Пуссеп). Нинин папа занимался извозом, у него была лошадь. Мама работала в ЖАКТе. Они держали коз, а потом и корову.  Нина – школьница. 1940 г. Нина была девочкой стройненькой, голенастой, спортивного склада. Уже с детства в ней чувствовался прибалтийский тип. Светлые косички крендельком подхвачены на затылке, пухлые губы слегка надуты, как будто она всегда сердилась. На самом деле в ней и была какая-то настороженность, даже замкнутость, она любила держать дистанцию. Ее брат Ава был круглолиц и румян, плотно сбит, не блондин, как сестра, но глаза – синие-синие. Во время войны он окончил авиационное училище, летал стрелком-радистом и в небе над Восточной Пруссией был ранен – раздробило ступню. В полевом госпитале ее ампутировали. Я помню, как он вернулся, сильно хромая, но внешне здоровый и сильный, счастливый возвращением и Победой. Толя Горячев тоже вернулся, а Юра Прокофьев ушел добровольцем и погиб. Погиб под Ленинградом и Нинин отец. На первом этаже проживал со своей матерью некто Калинин. Человек средних лет и среднего роста, строгий и подтянутый, он жил какой-то своей, неизвестной нам жизнью, почти ни с кем не общался. Проходил быстро и деловито, не задерживаясь во дворе. Его почему-то всегда называли по фамилии. Говорили о нем сдержанно, и в то же время как о человеке достаточно значительном. Позже Нина рассказала мне, что до революции он служил в царской армии, был офицером, потом каким-то образом вступил в партию и работал на заводе имени Сталина. Кажется, именно он устроил на завод маминого младшего брата Бориса, одаренного и музыкально, и технически, выпускника школы, перед которым как перед сыном репрессированного отца были закрыты все дороги, и, прежде всего, – к высшему образованию.  Нина – студентка ЛЭТИ. Начало 1950 гг. Обе веранды «калининского» дома смотрели вниз, на закат, летом они совершенно затенены листвой красных кленов. Дом стоял вдоль южной стороны двора. Во дворе находилась волейбольная площадка и росло несколько яблонь. Замыкал прямоугольник двора снизу второй штукатуренный двухэтажный дом 34-го. И хотя величиной он не уступал липатовскому и при первом взгляде казался очень похожим на него, но уже тогда был запущен и сер, стены его были плоскими, без затей. Какой-то уют и свое лицо придавали ему только веранды, которые выступали не с фасада и не с тыльной стороны, а, как крылья бабочки, раскинулись в стороны. И тоже две лестницы – парадная и черная. Четыре палисадника вокруг, с парадной стороны – узкий проход между двумя заборами, а в самом начале его, посередине, стояли две большие сросшиеся березы, поэтому дорожка раздваивалась, выходя на ту, что шла вдоль палисадников. Это был мой родной дом, в нем прошло все мое детство… Парадная лестница была светлой, просторной и гулкой – там витало эхо! Площадка верхних квартир балкончиком с резными перилами, белые, беленые стены и высоко, как в храме, окно. Мы ходили по этой лестнице обычно только тогда, когда нужно было идти куда-нибудь в сторону Старо-Парголовского. Центром нашей повседневной жизни был двор с другой стороны, со стороны черного хода. Лестница там напоминала причудливый деревянный колодец с маршами крутых ступеней и стенками плоских резных перил, с глухо зашитым досками кошельком чердачного хода, со встроенными на площадках «холодными» шкафиками для каждой квартиры. На верхней площадке, утопленное между тумбами этих шкафчиков, – окно с очень широким подоконником, на нем было удобно лежать, выглядывая на улицу.  В. Пуссеп. 1944 г. Это был главный наблюдательный пункт. Из этого окна нас звали домой, а иногда мы, дети, сами лежали на окне и смотрели во двор. Обзор отсюда отличный: весь двор как на ладони, слева сараи, посреди грядки, за ними шаповаловский дом, дальше палисадники и огороды, а совсем вдалеке – дома Раздельной улицы. Туда мы и ходили за молоком к Скавронским. Позже – и за хлебом, когда вместе со стандартными домами появился в той стороне хлебный ларек. Отсюда мы смотрели, кто из ребят вышел гулять, что делается во дворе. Иногда, когда уже построили стандартные дома, случалось наблюдать и безобразные сцены, они были связаны с пьяными, которые оказывались в поле нашего зрения. Однажды из этого окна я увидела, как по периметру нашего двора один пьяный бежал с топором за другим. И – догнал, и – ударил. И тут именно Милитина Максимовна – чопорная «дама с собачками», мгновенно, под общие «ахи» и «охи», оказала пострадавшему первую помощь, промыла и перевязала рану. На меня это произвело такое впечатление, что даже не осталось ужаса от случившегося. Во второй половине дня вся лестница освещалась долгим и жарким закатным солнцем и издавала чудесный запах сухого нагретого дерева. Крыльцо с этой стороны, как и у завитаевского, тоже было высоким – в четыре или пять ступеней, тогда как у парадного была всего одна ступенька, ведь все наши дворы и дома шли под уклон. Семья моего деда по матери, Антона Порфирьевича Кравченко, поселилась в этом доме в начале 20-х годов прошлого века и жила в квартире второго этажа на южной половине (№ 10). Но самого деда в Лесном я уже не застала. По профессии он был дамский парикмахер, отличный мастер, и до революции имел клиентуру в высшем обществе, какое-то время у него была своя парикмахерская на Лиговке, в доме Перцова. Очевидно, этого было достаточно, чтобы дед как «бывший» уже в конце 20-х годов попал под колесо репрессий. Первый его арест закончился высылкой из Ленинграда (статья «минус 5 городов»). Вторично его «взяли» в конце 1936 года, а 5 февраля 1937 года он погиб в Курской тюрьме. Ему тогда только что исполнилось 56 лет (обо всем этом мне, конечно, стало известно много позже, а скупые конкретные факты – только в конце прошлого столетия, когда мы получили справку о его «реабилитации»). Поскольку я узнала подлинную причину его отсутствия много лет спустя, это не сказалось на моем детском мироощущении, я знала только, что дед Антон в Курске, и мы с мамой и братиком, которому тогда не было еще и года, ездили повидаться с ним летом 1936 года. Мама тогда единственный раз ослушалась моего отца, видимо, ее вело предчувствие. В доме на Старо-Парголовском остались моя бабушка Клавдия Анатольевна, мама, Мария Антоновна и ее братья Борис и Юрий (Георгий Антонович, старший). Я знала от бабушки, что ее старший сын Толя пропал в Гражданскую войну, его увели с собой белые, когда она и все дети, спасаясь от голода в Петрограде, оказались в Терпении, большом селе под Мелитополем. Оба родителя моей мамы были родом из городов Причерноморья – Одессы и Николаева. Мы и называли бабушку по-малоросски – бабуся. Девочкой она осталась сиротой и воспитывалась в семье своего дяди-моряка. Она была очень набожной. В ее маленькой комнате всегда горела лампадка перед иконой, иногда тайком она брала меня с собой в церковь у Круглого пруда. Когда мои родители поженились, мой отец, Всеволод Евдокимович Семенов, тоже пришел в этот дом, но у него был и свой, родительский, наискосок от нашего, за сараями, – красивый «бабин Зинин» дом с цветными стеклышками. Мой отец окончил Железнодорожный техникум, но потом вдруг пошел в артисты. В годы моего детства он работал в «Александринке» и снимался в кино. Мне всегда казалось, что вместе с ним в дом входит праздник. Папа любил устраивать сюрпризы. Не только в Новый год, но и в другие праздничные дни нас – меня и моего братишку Виталия – нередко встречало в столовой затейливое сооружение из новых игрушек. Папа любил делать оптовые закупки гостинцев. Когда у него появлялось немного лишних денег, привозил домой то ящик обожаемого нами яблочного пюре, то вдруг торбу лимонных корочек. Несмотря на то что иногда бывал очень строг, он понимал и уважал детскую душу. Однажды он даже исправил Маршака. «Сказка о глупом мышонке» оканчивалась печально и всегда вызывала у малышей недоуменный вопрос. Но не так было в моей книжке. После слов «прибежала мышка-мать, а мышонка не видать», у меня какими-то веселыми буквами было написано: Наш мышонок не пропал, (Только через много лет я поняла: сказка про глупого мышонка – совсем не детская.) Иногда папа брал меня на колени, гладил по голове и говорил: «Моя лошадь!» Почему «лошадь»? Мне было странно, но нравилось. Хорошо, что не «зайка», не «киска» и даже не «лошадка». Значит, не похожая на игрушку, а сама по себе, сильная, а может, и нужная в доме. Мама внешними проявлениями ласки меня не баловала. Она всегда была рядом, но в то же время недосягаема для меня – как икона в бабусиной комнате. Мне казалось даже, что она была похожа на эту икону – тот же овал лица, такая же гладкая прическа и то же выражение глаз, больших, темных и глубоких.  Первые дни весны. Мама на окне нашей террасы. 1932 г. В середине 1930-х годов женились и мамины братья, дядя Юра остался, а «Боб» уехал к тете Люсе Масальской на Гагаринскую. Но все равно они почти в каждый выходной[12] приезжали и много времени проводили с нами, детьми. Они с тетей Люсей всегда модно и элегантно одевались, оба обладали тонким художественным вкусом и любили, чтобы все выглядело красиво, чисто и аккуратно. Боб увлекался фотографией и не расставался с «Лейкой». Очень много фотографировались на даче в Толмачеве. Снимки были отличные.  Мы с папой в парке Турчиновича. Июнь 1936 г. Мы с моим братишкой, видно, вслед за взрослыми, как-то незаметно присвоили себе это право – называть своего дядю «Боб», и так называли его уже всегда. Он был не против, а нам становился еще ближе, оказывался как бы посредником между поколениями. К тому же он часто выступал нашим товарищем по буйным играм, сам заводил их и подначивал: «Ну, что, ребята, будем „барахлить“»? Это значило кувыркаться, толкаться, бороться, спихивать друг друга с дивана. На первом этаже, в 9-й квартире нашего дома, жили Залевские – Иван Семенович, Мария Петровна и их дети – Дима и Алла. Перед войной Дима был уже студентом Лесотехнической академии, а Алла училась в старших классах. Сам же Иван Семенович служил бухгалтером в Лесотехнической академии и был в нашей округе личностью весьма примечательной своим сходством с Лениным. Об этом говорили шепотом, но не согласиться было нельзя. Такой же рост, такой же круглый, уходящий к затылку лоб, черты лица и бородка клинышком, смотрящая вперед. Пожалуй, только походка более важная и размеренная. Вот он вышагивает, возвращаясь со службы по Институтскому, идет мимо Серебряного пруда, нашей «Серебки», – в тройке, с большим кожаным портфелем, глядя прямо перед собой и только лишь легким намеком на поклон отвечая тем, кто с ним здоровается. Мария Петровна была несколько грузной и, как тогда говорили, «крупной» женщиной с большими и добрыми карими глазами. Дима лицом очень походил на мать, но был по-юношески строен и худощав. Он никогда не расставался с велосипедом, что потом и сыграло свою роковую роль.  Мама в комнате братьев. Начало 1930-х гг. И Алла, и Дима были отличными товарищами. С ними возникало удивительное чувство отсутствия разницы в возрасте – они общались с нами на равных, просто как старшие брат и сестра. Когда я однажды летом, гуляя во дворе босиком – так хотелось, а мне не разрешали, а все бегали босиком, и вот я наконец-то выпросила! – около помойки стеклом пропорола себе ногу, Дима тотчас же помчал меня на велосипеде в поликлинику у Круглого пруда. Алла во время войны оставалась в Ленинграде и служила в армии, вышла замуж за военного, потом окончила Лесотехническую академию. У Залевских был рыжий сеттер, звали его Каро. Он свободно бегал в наших дворах. Под нами, на первом этаже в 8-й квартире жили Овчаренки. Там были две девочки – озорная и черноглазая Иринка и ее двоюродная сестра Наташа Толкачева, с густыми веснушками, белая и пухленькая, как сдобная булка. Молчаливая и спокойная, она обычно гуляла одна, чем-то занимаясь в своем саду. Их мам звали Валентина и Софья Тимофеевны, бабушку – Алиса Александровна. Дед был архитектором. В этой квартире в середине 30-х годов произошли перемены. Толкачевы остались, а Овчаренки с Иринкой уехали в город, на Декабристов, и в наш дом въехали Кроуги – высокая дама с двумя мальчиками-подростками. Года через два вместо них в наш дом переехала Милитина Максимовна со своей семьей, а Кроуги поселились в бывшей дворницкой, в крохотном домике на проспекте. Я очень любила бегать к ним «на горку» и сидеть в их полутемной каморке у единственного окна. Мама Алика и Димы разрешала мне рассматривать различные интересные и красивые старинные вещицы, которых было много в их до предела заставленной комнате. Доставала и старинный альбом с фотографиями. На одной из них была она сама – ни в чем, но вся, почти до пят, закрытая волной своих распущенных волос. Она сидела со мной рядом, что-то объясняя и рассказывая, помню ее удлиненное лицо и высокую прическу. Всегда ласково встречала меня и охотно выполняла все мои просьбы. Мальчики тоже всегда относились ко мне приветливо и доброжелательно, но оставались в стороне, занятые своими делами, ведь они были старше. Оба напоминали мне царевичей из детских сказок, потом я поняла, что это и называется аристократической красотой. Старший, Алик, более мужественный, Дима – больше похож на мать, с тонкими темными, как будто акварельной кисточкой выписанными, бровями. Алик погиб на фронте. Но об этом никто из родных не узнал. И Дима, и мама умерли. Первой блокадной зимой… Квартира напротив нашей (№ 11, на втором этаже) была настоящей коммунальной квартирой. Как и у нас, там было пять комнат, но жили в них три никаким родством не связанные семьи. Две восточные смежные комнаты с террасой занимали Рыбежские – Петр Порфирьевич (он, кстати, был братом Марии Порфирьевны Шаповаловой), Мария Васильевна и их сын Юрий. Он дружил с Димой Залевским, они вместе гоняли голубей. Голубятню построили у чердачного окна. Марию Васильевну я очень любила и называла «тетей Муней», так видимо, звали ее в семье. Она была необыкновенно ласковой и уютной. Какая-то взаимная симпатия установилась между нами с самых первых лет моей жизни. Она всегда совершенно искренне восхищалась любой моей детской заявке на оригинальность, а я, поощренная этим, многое демонстрировала специально для нее, особенно свои «танцы». Мария Васильевна была невысока и округла, шатенка с зеленоватыми глазами и с удивительно нежным и красивым от природы цветом лица, щеки ее – точно персики, с легким пушком и румянцем, полные губы – ярко малиновые. И никакой косметики, только живые краски живого лица. Косметика вообще была тогда не в почете. Ни одно лицо из моего раннего детства мне так не запомнилось. Может быть, потому, что краски и цвета для меня всегда очень много значили сами по себе. Во всем, что меня тогда окружало, главным было – какого оно цвета. Но тетя Муня обладала и еще одним неоценимым для меня достоинством – она пекла оладьи, вкуснее я больше никогда и нигде не ела. Часто вечером она приходила к нам со стопкой своих только что испеченных пышных оладий. На столе появлялись самовар и варенье, и мы все вместе долго пили чай за нашим большим обеденным столом, под абажуром цвета чайной розы, по полю которого летели силуэты черных ласточек. Иногда я пробиралась и к ним в квартиру и наблюдала в уголке их тесной и чадной кухни, как она печет эти оладьи на своем примусе. В средней, самой маленькой комнате этой квартиры жила молодая семья Пинаевых, у них родилась девочка. В двух остальных комнатах жили Рябинины – пожилая дама Лидия Александровна и ее дочь Нина Николаевна с мальчиком моих лет Сережей Мочаловым. Его отца я никогда не видела (или не помню), говорили, что его родители развелись, но больше никто ничего не знал. Зато все знали и видели, что у Сережи совершенно необыкновенные игрушки, каких не было ни у кого: огромный грузовик, на котором можно прокатиться, сборный домик, куда можно войти, и многое другое – и все это ему сделал сам папа. Мама Сергея казалась строгой, одевалась просто и скромно, в деловом стиле времени, коротко стриглась. Бабушка же, наоборот, была верна старине, носила пенсне, ходила в каких-то пальто-салопах и в бархатной шляпе, такой как у «Неизвестной» Крамского. У них дома хранилось много старинных вещей и книг. Иногда зимними вечерами Лидия Александровна доставала нам «Ниву», и мы с Сергеем, еще не умевшие читать, внимательно разглядывали в этих журналах картинки, не совсем обычные для нас и про какой-то другой, незнакомый нам мир. В середине 1930-х годов в этой семье появилось новое лицо – Борис Павлович Константинов. Он стал Сережиным отчимом. Потом у них с Ниной Николаевной родился и свой общий сын – Шурик. Как мне представлялось, Борис Павлович был в то время студентом или аспирантом Политехнического (Индустриального) института[13]. Позже я узнала, что он в это время уже работал в акустической лаборатории, где и познакомился с Ниной Николаевной. Всегда приветливый и жизнерадостный, он находился в каком-то прямом контакте со всеми ребятами нашего двора[14] и, несмотря на достаточно плотную комплекцию, был очень подвижен и легок – он буквально взлетал на наше высокое крыльцо. Белокурый и круглолицый, он, как мне кажется, уже тогда начал лысеть и выглядел старше своих лет, а ведь ему не было еще и тридцати. Говорил с легкой картавинкой. Несмотря на его молодость, только Сергей называл его «дядя Боря», все остальные, и дети тоже, называли его по имени-отчеству. Может быть, взрослые уже тогда знали, что он талантливый физик, а может быть, зная это, предугадывали в нем и состоявшегося в будущем выдающегося ученого. После войны Борис Павлович стал профессором Политехнического института. Затем – академик и вице-президент Академии наук СССР. С 1957 года и до конца жизни – директор Физико-технического института им. Иоффе. Светлое двухэтажное здание этого института давно вписалось в пейзаж Лесного и стало одной из главных сохранившихся его примет[15]. Окруженное старыми соснами, оно смотрит своим фасадом на парк Политехнического. А в Гатчине на его основе в середине прошлого века был создан Научно-исследовательский институт ядерной физики. Он имеет мировую известность и носит имя Бориса Павловича Константинова. Перед входом в институт, как и перед Физтехом, стоит его бронзовый бюст.  Академик Б.П. Константинов В этом институте почти с момента его основания начали работать мои друзья – физик-теоретик Юрий Викторович Петров (Юрка Петров, сын преподавателя Политехнического института, до войны они жили на Яшумовом, у кольца «девятки»), доктор физико-математических наук, горнолыжница Раиса Федоровна Коноплева (Рая Комарова, ее дом стоял на углу Институтского и Английского проспектов) и ее муж, заместитель директора института по науке Кир Александрович Коноплев, «Снежный барс» – альпинист, покоривший все семитысячники в нашем бывшем Союзе. И он, и она окончили физмех Политехнического. В послевоенные годы Борис Павлович со своей семьей жил в институтском доме на уже не существующей Приютской улице. Но его тянуло на старые места. Несмотря на то что в наших дворах к концу войны очень многое изменилось и из всех домов осталось только пять, они с Ниной Николаевной нередко приходили сюда и прогуливались вдоль палисадников уцелевших домов. И когда нам случалось встречаться, на их лица набегал свет воспоминаний. А мне Борис Павлович так и помнится из детства своим улыбчивым лицом и тем вопрошающе-заинтересованным выражением, которое возникало у него при разговоре с любым собеседником и какое бывает только у очень искренних и открытых людей. Он был не просто открытым, он был солнечным человеком. Виталий В конце 1935 года маленькое, но сразу же очень лучезарное солнышко появилось и у нас – родился мой брат Виталий. Вместе с ним пришло какое-то иное ощущение себя в этом мире, словно оно получило свое продолжение в пространстве и новую, какую-то двойственную, основу. Внешней формулой этого ощущения стало «мы»: «мы с Савосей», «нам с Савосей», «это мне – а Савосе?». Теперь все было «вместе с Савосей». Дело в том, что из-за вздорного спора моих родителей и бабуси о том, как назвать ребенка, он на всю жизнь получил как бы двойное имя. Отец хотел назвать его Севастьяном, но бабуся воспротивилась и в конце концов победила – в записи он стал Виталием, однако, поскольку спор затянулся, моего братика все стали звать Савосей (иногда Севой), так и оставалось на протяжении всего его детства, а в семье и значительно дольше. Мой маленький брат с самых первых дней активно заявлял о себе, был очень живым и деятельным. Он сразу же стал общим любимцем нашего дома и двора. Рано начал говорить, раньше многих – читать, но особенно удивляли нас его математические способности. Чуть ли не в младенчестве Виталий знал уже всю цепочку чисел до двадцати. Помню: лето, он сидит на столе, на террасе, в окружении игрушек и радостно, без ошибок, называет все числа. К пяти годам он уже свободно складывал и вычитал в пределах сотни. Это очень пригодилось нам потом, в первое лето войны, когда мы с мамой оказались в чужом городе, карточки тогда еще не ввели, а в простых магазинах уже ничего не было, снабжение шло через ОРСы[16] и закрытые магазины. Мой братишка сначала выбегал на разведку, узнавал, где что «дают», а потом с парой рублей в кулаке отправлялся на промысел. Естественно, ребенка почти всегда пропускали, и он стал нашим главным добытчиком и кормильцем. Виталию было тогда пять с половиной лет, до школы оставалось еще два года. Не удивительно поэтому, что, когда настала школьная пора, мы задумались; чему же он будет учиться в первом классе? И решили: все же есть чему – тогда этот предмет назывался чистописанием, нужно «поставить руку». Перешагнул он через второй класс, пошел после первого сразу в третий.  Грамота участника Олимпиады по математике В. Семенова. 1950 г. Виталий окончил 117-ю школу на Институтском (в ней тогда преподавал замечательный математик Иосиф Борисович Лившиц, ребята звали его «Швейк»). Он поступил в Политехнический институт, окончил радиотехнический факультет, стал хорошим специалистом, работал в НПО «Импульс» и преподавал математику в институте, но степенями не обзавелся, любил повседневную суету жизни – всегда всем что-то доставал, кого-то куда-то устраивал. Славился как один из лучших репетиторов для поступающих в институт. Своих учеников он называл «мои чижики». Но все это было уже потом. Однако уже в те, самые ранние его годы проявились черты характера, которые затем, соединившись с силой обстоятельств, сложились в линию жизни. Был такой случай. Как-то летом, когда ему шел третий год, он, одетый в свою фланелевую толстовочку, гулял во дворе и вдруг исчез из моего поля зрения. Я, встревоженная, прибежала домой, но не успели мы отправиться на поиски, как братишка явился, очень важный, с большой горбушкой черного хлеба. Когда его спросили – откуда? – он рассказал: «Я нашел три копейки, пошел в булочную и купил хлеб». Хлеб тогда продавали на вес, ему отрезали по деньгам. Булочная, правда, была недалеко, на Раздельной.  Мы с Виталием тем летом, когда он купил хлеб на Раздельной. За нами – стандартные дома завода «Светлана» В те же годы у него появилась первая сердечная симпатия. Во вторую квартиру шаповаловского дома въехал летчик со своей молодой женой, и вскоре у них родилась девочка – Кира. Едва она начала ходить и появляться во дворе, Виталий привязался к ней так же, как я к жившей здесь Верочке Никитиной, – и мы с ним часто оказывались у одного и того же крыльца. Называл он свою симпатию «Килькой»… А Бориса Павловича Константинова он называл почему-то «Борис Испаныч»! Может быть, «Палыч», как произносили взрослые, трудно было по-детски осмыслить и казалось нелепым приставлять «палку» к человеку, другое дело – «Испаныч»! Это звучание могло иметь для него гораздо более значительный смысл, ведь «Испания» тогда была на слуху, это слово повторялось каждый день – в Испании шла гражданская война. Как только Борис Павлович где-нибудь появлялся, мой брат уже издалека радостно приветствовал его: «Борис Испа-а-ныч»! Я до сих пор помню, как звучал этот возглас, в нем чувствовалось и восхищение, и одновременно какая-то мужская солидарность. Так, завидев издалека, приветствуют друг друга лучшие друзья. Улида – моя. Дворы – мои Особую прелесть жизни в старом Лесном составляло то, что она, как в деревне, не замыкалась домом, квартирой, а продолжалась за их порогом. И не только для детей, но и для взрослых – палисадники, сараи, дворы были такими же «своими» для жизни, как кухни и комнаты. Там сушили белье, выколачивали плетеными выбивалками зимнюю одежду, срывали перед обедом с грядок укроп и редиску, пилили и кололи дрова, мастерили, возились с велосипедами и прочей механикой наши отцы, дяди и старшие ребята. Когда подходила «большая стирка», с кипячением, стирали тоже во дворе: в бревенчатой избушке – прачечной, с огромным, вмазанным в печь котлом.  Вид на наши дома со стороны парка Турчиновича. На велосипеде – В. Пуссеп Для нас же, детей, все эти дворовые пространства, казалось, просто были самой естественной и органичной, единственно возможной средой обитания – как океан для рыб, как небо для птиц. Уж мы-то знали здесь цену каждому уголку, каждой дорожке и площадке. «Классики» можно было рисовать перед крыльцом – здесь земля была ровная и плотно убитая. Тут же прыгали через скакалку, а старшие иногда играли в «рюхи» (в городки). Для лапты подходила дорожка вдоль «шаповаловского» дома, «штандер» начинался обыкновенно под тополем, словно его прямой, высоко оголенный ствол задавал высоту «свечки» мяча. По дорожкам, которые по периметру охватывали наш и соседний, за сараями, «бабин Зинин» двор, наматывали круги на велосипеде. Девчонки до педалей еще не доставали, гонялись «под рамой». Я завидовала, мне не разрешали. Младшие ребята трехколесным велосипедам предпочитали самокаты. Прятки были везде – годились и тайнички за сараями, и грядки посреди двора, между которыми можно было затаиться за плетями гороха, укропа или цветущего картофеля, и лазы в кустах спиреи – живой изгороди наших садов, и глухие уголки палисадников. В «казаки-разбойники» гонялись на задворках сараев и дальше, среди запущенных куртин соседнего, уже сильно поредевшего и заброшенного парка Турчиновича. Мальчишки, конечно, играли и в войну, то есть носились по всем дворам с палками, но мы, девочки, в этом участия не принимали. Было еще такое: гоняли обручи по дорожкам, подхлестывая их специальными короткими палочками. Получалась очень хорошая спортивная тренировка – бежать за убегающим колесом. Во дворе Коммерческого училища ребята крутились в полете на «гигантских шагах». Самой тихой и чисто девчоночьей игрой в нашем дворе была игра в магазин. В ней мы в полной мере отдавали должное всем растущим вокруг травам. Они и составляли то, чем торговали в «магазине». Кислица была капустой; листок одуванчика всегда селедкой; клевер – «кашка», естественно, крупой: нужно только растеребить цветок; белые сладкие зевчики глухой крапивы – конфетами. Об остальном уславливались. Листья подорожника служили тарелками и подносами, на которых раскладывался товар. Росла в наших дворах, и изобильно, еще такая низкая ромашка без лепестков – одни желтые шарики на пушистых веточках-стебельках, она тоже всегда шла в ход. Не знаю, как на самом деле она называлась, теперь ее совсем нет. Весами были щепочки, гирями – камушки. Стеклышки – деньги. Как-то утром, когда мы только начали играть и еще не успели разложить весь свой «товар», девочки вдруг все побросали и с криками: «Ой, сейчас начнется!» побежали к шаповаловскому дому. Я побежала за всеми. Но мы оказались не у Веры с Тамарой, а в квартире напротив, где жила семья летчика. У них в комнате был приемник – высокий коричневый ящик с маленьким окошком внизу, в нем горел зеленый огонек. Замерев, мы слушали «Приключения доисторического мальчика» – детскую радиопередачу с продолжением.  Ребята нашего двора. Верхний ряд: Т. Грачев, Л. и В. Андреевы, Д. Лисицын, Т. и В. Никитины, А. Залевская. Внизу: Ю. Рыбежский, В. Пуссеп, Н. Кондратьев, Г. Кравченко. Фото Б.П. Константинова Иногда в наших дворах появлялись захожие, но это были интересные и ценные люди. Например, старьевщик. Наши бабушки выносили тогда из дому всю старую ветхую одежду, и когда-то любимые наши вещи навсегда уезжали в его большой тележке. Старшие говорили, что из ветоши делают хорошую бумагу. Бывало, появлялся даже шарманщик. Ближе к осени раздавались призывы стекольщика. Но чаще других являлся самый вожделенный для нас, ребят, – точильщик. Его зычные, нараспев, выкрики: «То-о-чить ножи-ножницы!» оглашали всю округу и предваряли его зримое возникновение. Вот он торжественно входил в наш двор со своим тяжелым станком на плече, разворачивался и устанавливал его на лужайке перед сараями. Мы – вся сбежавшаяся детвора – становились полукругом в ожидании захватывающего зрелища, состоявшего из вращения и мелькания каменного колеса, мерного покачивания педали, протягивания лезвия по ободу набравшего скорость точила, из наката возникавшего при этом скрежещуще-мелодичного звука и фейерверка возносящихся и разлетающихся искр. Каждое лето бороздили наши дворы студенты-лесотехники. Они приходили небольшими группами со своими теодолитами, нивелирами, штативами и рейками, похожими на гигантские градусники, выбирали место и устанавливали треноги, налаживали приборы и долго молча смотрели в трубки, а кто-то из них в отдалении стоял с рейкой. Они были деловиты, сосредоточенно молчаливы, медленно переходили с места на место, почти никогда с нами не заговаривали, как будто нас тут и не было. Нам казалось, что они не только не замечают нас, но и слишком по-хозяйски распоряжаются нашими полянками, дорожками и вообще всем пространством наших дворов. Однако за лето мы настолько привыкали к их присутствию и работе, что тоже почти переставали их замечать, интерес вызывали лишь их первые появления в сезоне. Зимой все было белым-бело: снежный покров, все нарастая и уплотняясь, лежал с ноября до самой весны, когда в марте он все чаще становился влажным и рыхлым. Мы ловили те дни, когда снег начинал прекрасно слипаться, с хрустом накатывали по целине шары, громоздили их друг на друга, и к вечеру у каждого крыльца выстраивалась снежная стража. От каждого дома отходила лыжня, шла вдоль дорожки, соединялась или пересекалась с другими. На лыжах катались с уклона в парке Турчиновича, с береговых склонов замерзших прудов, уходили на Старо-Парголовский и на Серебку. Старшие часто отправлялись в сторону Поклонной горы, на «Исаковку» (склон вдоль Исакова переулка, теперь – Манчестерская улица). Зимний спортивный инвентарь был в каждой семье: лыжи, коньки, санки и почти у всех – финские сани. На них мы весело съезжали со склона в парке Турчиновича и гонялись по самой середине Старо-Парголовского – никакого транспорта там практически не было. Зимой рано темнело, зажигались фонари – ряд деревянных столбов вдоль всего проспекта с лампочками под шляпами эмалированных плафонов. На искрящийся снег они отбрасывали круги желтого электрического света, а если прищурить глаза и покачать головой, то увидишь бесконечный ряд маятников из длинных золотых метелок.  Середина 1950-х: моя мама, М.Л. Кравченко, на зимнем Старо-Парголовском проспекте. Прошло почти 20 лет, а проспект все так же пустынен. Справа – бывшая дворницкая наших домов, в роще слева – дом Соловейчика, а вдали, на углу Яшумова, – дом Ростовцевых. И те же ряды столбов с лампочками под шляпами плафонов. Именно здесь мы с мамой увидели девочку на коньках в 1938 г. Помню, как однажды, когда мама вела меня вечером из детского сада, мы увидели в свете этих фонарей на самой середине проспекта девочку на коньках. Она лихо раскатывала то с правой, то с левой ноги, а вокруг – никого, только зимняя вечерняя сказка. Я узнала ее. Это была Нонка Кареткина, которая еще в прошлом году тоже ходила в детский сад, а теперь уже училась в первом классе. Жила она на Воронцовом, за Яшумовым. Тоненькая девочка с льняными, круто вьющимися короткими волосами, она и в детском саду отличалась своим отчаянным мальчишеским нравом. Почему-то эта зимняя картина врезалась мне в память на всю жизнь. Это был 1938 год. В центре же самой первой картины моего детства, от которой я веду отсчет памяти и о самой себе, был маленький, простенький сиреневый цветочек, что-то вроде вьюнка, который прятался в траве запущенной клумбы чужого сада. Помню мгновенно охватившую меня неодолимость стремления – и вот уже цветочек на оборванном стебельке в моем кулачке. Как только я выбежала за калитку, на меня налетели какие-то взрослые и стали очень ругать. Не помню, мои это были или нет. Может быть, и ругали-то не всерьез, имелось тогда такое обыкновение, в том числе и у моих, еще очень молодых, дядей – подтрунить над малышом. Но в тот момент я впервые испытала целый всплеск новых для меня чувств: вины, обиды, удивления жестокостью взрослых и их, так грубо проявленной, властью надо мной. Я знала, что совершила неразрешенное, что поступила против установленных правил, но тогда же инстинктом младенчества я поняла – желания могут быть сильнее запретов. Мне тем летом, по-видимому, шел третий год, потому что эпопею «Челюскина» – капитан Воронин, Отто Юльевич Шмидт, девочка Карина, которая родилась на льдине, – я помню уже хорошо, а это случилось зимой 1934-го, когда мне было уже три с половиной. Переулок фантастики В детский сад я пошла осенью 1935 года, и с тех пор география моей среды обитания значительно расширилась и в жизнь вошло понятие «дорога». Детский сад был в Клубе ученых (Дом ученых в Лесном). Его организовали для детей преподавателей Политехнического института, но меня туда приняли, потому что мой папа вел в Клубе драматический кружок. На дорогу от нашего дома до детского сада уходило примерно полчаса. Через парк Турчиновича мы выходили к Старо-Парголовскому, на пересечение его с Яшумовым и Малой Объездной. Здесь с нашей стороны стоял одноэтажный, приземистый деревянный дом, в котором был наш ближайший продуктовый магазин. Витрины его видятся мне и сейчас, в нем продавалось все: и гастрономия, и крупы, и овощи. В белых эмалированных ванночках под стеклом лежали селедка, миноги, красная и черная икра, топленое масло, огурцы, кислая капуста, клюква. Мы переходили проспект и шли по Яшумову переулку (теперь улица Курчатова), по левой его стороне, где стояло несколько двухэтажных деревянных домов. С правой стороны домов почти не было, там отходил Пустой переулок (ул. Шателена), за ним шел сосновый лесок. Потом на этой стороне появилось светлое двухэтажное здание музыкальной школы (в 1945 году оно отошло к Институту постоянного тока).  Окончание строительства циклотрона Физико-технического института. Фото весны 1941 г., из фондов музея истории ФТИ На самом повороте Яшумова справа и слева были глубокие овраги. С левой стороны – круглый и пустой овраг, похожий скорее на котлован, зимой с его крутых откосов ребята катались на лыжах и санках. За ним виднелось несколько причудливой формы домишек, с какими-то мезонинами, башенками и чердачками, они принадлежали уже Воронцову переулку. В одном из них как раз и жила Нонна Кареткина из нашего детского сада. Там же стоял дом известной до революции детской писательницы Клавдии Лукашевич, но ее самой в нем давно уже не было. С другой стороны переулка, в зажиме его поворота, на дне оврага притаились теплицы, зимними вечерами там загадочно и тускло горел желтоватый свет. За оврагом начиналась территория Физико-технического института. К началу 1940-х годов на ней уже возвышался купол циклотрона. Почти вся противоположная сторона Яшумова переулка за поворотом тоже представляла собой индустриальный пейзаж. В этом было что-то волшебное: как раз на середине переулка вы вместе с ним поворачивали направо и перед вами открывался совершенно другой мир. Привычный Лесной с его дачками, палисадниками и верандочками внезапно исчезал, а взору открывался какой-то новый, грандиозный и непостижимый мир, теперь я бы сказала – что-то из области научной фантастики. Мы вступали в этот мир и проходили сквозь него, и неизбежно на этом участке пути возникало какое-то радостное и приподнятое чувство. Здесь нам было интересно. Чувствовалось, что везде вокруг совершается, пусть и невидимая и неведомая нам, но очень важная работа. Мы, малыши середины 1930-х годов, конечно, не могли тогда знать и понимать, что, проходя здесь каждый день по пути в детский сад, мы становились современниками и свидетелями рождения первого в нашей стране наукограда. Более того, мы оказались его ровесниками! На наших глазах возводились корпуса «Позитрона» (тогда – НИИ-34) и поднялось четырехэтажное здание НИИ постоянного тока. Его светло-серый квадрат фасада казался сошедшим прямо с чертежной доски: от середины до краев проведены линейкой полоски сплошных окон, между ними стеклянная вертикаль, внизу под ней четкий ряд ступеней центральной лестницы, циркулем – по обе стороны от нее – круглые окна, похожие на два огромных иллюминатора, и опять по линейке, в обе стороны от крыльца и по всему фасаду, две черты пристенного газона. Цветы там почти никогда не росли, но зато верхняя часть поребрика примерно в полуметре от земли образовывала ровную, как будто специально выложенную плитками дорожку. Какое же удовольствие было для нас, малышей, которых еще водили за руку, вскочить на этот поребрик, пробежать по всей его длине, потом чуть-чуть посидеть в чаше иллюминатора, сползти на ступени крыльца и затем, в обратном порядке, повторить все это на втором крыле фасада. Это был наш ритуал, игра, поджидавшая нас на середине пути. Жаль, этого газона давно уже нет. Само же здание – образец конструктивизма – существует и по сей день. Но без газона, без одной, казалось бы, незначительной детали, и все здание уже не то, оно смотрится ординарным и плоским, и оборвалась моя живая связь с ним[17]. Исчезла и еще одна, несомненно, более ценная и значимая, можно сказать, даже грандиозная достопримечательность этого места. Рядом, на площадке, раньше стояли две высоковольтные опоры с подвесками гигантских керамических изоляторов – рабочий полигон института. Пусть он пережил свое прямое назначение, но сохранить его – значило бы оставить нетронутым индустриальный пейзаж 1930-х годов, сохранить то, что мы называем памятником промышленной архитектуры. А в данном случае это и памятник технической мысли, истории науки и всей полной энтузиазма эпохе индустриализации страны (в те годы не случайно и Политехнический институт назывался Индустриальным). Ни опор, ни гирлянд изоляторов – пустая площадка.  Ул. Курчатова, 14. НИИПТ. Современный вид За поворотом Яшумова мы редко шли одни. К нам присоединялись мамы с детьми со стороны Ольгинской улицы (теперь улица Жака Дюкло). Среди них были и Нонна Кареткина, и ее двоюродная сестра Лера, Леля Стефанова и Алик Наследов, они жили в новых физтеховских домах. И все мы с восторгом, наперегонки бежали по поребрику НИИ постоянного тока. За институтом, между ним и трамвайным кольцом, оставался еще небольшой оазис жилых домов. Здесь жили Юра Петров и Юра Валов («Валик»), Таня Коновалова и Юля Дынькова. Всех их я знала по детскому саду. Мальчишки ходили, как и я, в немецкую группу, а Таня и Юля – в английскую, к мисс Нельсон. После войны все мы – Тамара, я, Таня и Юля – оказались в одном классе. Вместе с нами оканчивали 103-ю среднюю женскую школу на Раевском Нина Завитаева, Неля Николаева и Рая Комарова. В нашем же классе учились и окончили школу Тамара Мамонтова, которая с довоенных лет жила на Новой улице, Люда Моссак и Муза Ганова с Яшумова и Пустого переулков, Нина Витенкова и Наташа Брызжева – их дома стояли на Старо-Парголовском, Наташин – почти у самой Сосновки[18]. Всех нас было тогда двадцать семь – со всего пространства от 2-го Муринского до проспекта Бенуа и Гражданки, окончивших в 1948 году 103-ю среднюю школу Ленинграда. И еще меньше – восемнадцать в предыдущем, первом послевоенном выпуске. Из окон нашей школы был виден военный аэродром в Сосновке. Там стояли «У-2» и американские «дугласы». Однажды, когда мы сдавали последние экзамены, нескольких девочек из нашего класса летчики даже прокатили в небе над Лесным, Невой и Ладогой в открытых кабинах. Последними в ряду по Яшумову переулку были кинотеатр «Унион» и угловой белый дом с гастрономом внизу. И кинотеатр, и магазин, и часть жилых домов оставались еще после войны, вплоть до середины прошлого века. Но картина Яшумова переулка 1930-х годов не была бы правдивой и полной, если ничего не сказать о платформах грузового трамвая, время от времени проплывавших прямо по его середине. Еще издали можно было услышать его резкий, тревожно-дребезжащий сигнал, и вот он уже выворачивал от «Политехника»[19] и медленно, пустыми платформами вперед, не переставая сигналить, катился в сторону Сосновки. Там разрабатывался песчаный карьер, и трамвай, уже груженый отличным карельским песком, моторной платформой вперед, совершал обратный путь. А на месте карьера, на грунтах, изобилующих источниками, образовалось озеро чистой воды, получившее народное название «Бассейка». Одноколейный трамвайный путь по Яшумову – тогда переулок уже был переименован в улицу Курчатова – тоже просуществовал до середины прошлого века: расширяя карьер, песок продолжали возить и после войны. Но наш путь продолжался, и мы подходили к воротам парка Политехнического института. Летом слева от них почти всегда стояла высокая тележка с мороженым. Оно закладывалось в специальную круглую металлическую розетку, которая держалась на толстой ручке-поршне. Сначала закладывался вафельный кружок, потом мороженое, потом снова кружок в клеточку и с каким-нибудь именем. Так и подавал его мороженщик в белом фартуке, наклоняясь к нам с высокой ступеньки и поршнем выдавливая из формы очередную порцию. Вот это было мороженое! За воротами я снова оказывалась в еще одном, отличном от нашего, мире. Свободно войти в парк тогда было нельзя, требовалось пройти через проходную и предъявить пропуск. Пропуск выписывался на ребенка, то есть на меня, а маму или еще кого-нибудь пропускали как сопровождающих.  Перед поездкой в Колтуши на Биологическую станцию И.Л. Павлова. 1936 г. Парк с тех пор почти не изменился, только постарел, и в центре, в круге перед главным зданием, тогда был более ухожен. Слева от аллеи широко раскинули свои мохнатые ветви две роскошные голубые ели. По всей окружности шла окантовка кустарником барбариса. Сквозь зелень, а зимой сквозь заснеженные ветви просматривается торжественное главное здание института. Дальше – такой же белый, но более скромный – второй корпус. Все говорит о красоте, гармонии, о каком-то величавом спокойствии, строгости и достоинстве. Даже причудливый силуэт водонапорной башни как-то органично вырастал среди хоровода окружавших его сосен, возвышался над ними и сам чем-то похожий на гигантскую сосну казался их властелином.  Старшая немецкая группа, в центре – Антонина Карловна. 1938 г. Первый же день пребывания в детском саду был отмечен в моей биографии тем, что впервые в жизни я получила в руки ножницы. Дома мне брать ножницы никогда не разрешали. К детскому же саду (так велели) мне сшили новый синий сатиновый халатик. Когда я вернулась домой, то оказалось, что на карманчиках сверху посередине аккуратно вырезаны два маленьких треугольничка. Реакция со стороны домашних была странноватая: ни выговора, ни шума, наоборот – немая сцена. Детский сад Клуба ученых в довоенные годы, если писать о всем его укладе, умении организовать детскую жизнь, атмосфере исключительной доброжелательности и высокой культуры, заслуживает, по крайней мере, отдельной главы.  Кукольный уголок немецкой группы в детском саду. Справа налево: Р. Кельзон, Э. Желудева, Л. Клява, Г. Кравченко. 1936–1937 гг. Но здесь она как-то не укладывается, и не только из-за объема наплывающих воспоминаний, но и из-за того, что она потребовала бы иного подхода, иного ракурса отражения и размышлений. Детский сад был для нас чем-то вроде дошкольного Лицея (в том первоначальном, пушкинском значении этого слова). Две английские и две немецкие группы. В английских воспитательницами были Елизавета Жозефовна и легендарная мисс Нельсон – невысокая, суховатая пожилая дама с буклями (тот же типаж, что и мисс Хадсон в «Шерлоке Холмсе» Игоря Масленникова). У нас воспитательниц звали Ольга Васильевна – в младшей немецкой группе и Антонина Карловна – в старшей. Заведующая детским садом – Тамара Ивановна. И еще нас курировала одна очень важная и серьезная дама с орденом Красного Знамени на груди – Конкордия Федоровна Рожанская (фамилия запомнилась потому, что ее произносили, говорили еще, что она прямо связана с Крупской). Раньше, чтобы попасть в помещение детского сада, нужно было пройти через главный вестибюль Клуба ученых, где в правом углу стояли мраморные «Три грации». Слева – дверь в наше крыло. Вдоль коридора – шкафчики для одежды с опознавательными знаками в виде нарисованных на дощечках ягод, овощей и фруктов. Три группы слева, одна – справа, окнами во двор, в конце коридора – большой зал для игр, музыкальных занятий и праздников. Перед самой войной за ним пристроили еще один зал, где устроили спальню для отдыха в «тихий час». (Над ним во внешкольном отделе Клуба появился такой же зал, оборудованный как концертный. Уже в школьные годы мне случалось выходить на его сцену.) Немецкий язык мы учили в разговоре, настольных играх и слушая сказки, их в младшей группе нам читала Ольга Васильевна. Но кроме сказок она читала, а мы разглядывали и обсуждали короткие рассказы в картинках, по существу – комиксы, которые в нашей русской детской литературе совсем не встречались и которые назывались «бубенштрайхен» («проделки мальчишек»), всякие там «Плим и Плюм», «Макс и Мориц». Меня удивляла не только форма рассказа, но и какой-то иной, более жестокий смысл содержания. «Проделки» часто оказывались далеко небезобидными, а назидательные истории иногда заканчивались трагично. Немецкому «Степке-растрепке», не желавшему стричь ногти, отрезали их вместе с пальцами, а мальчик, не хотевший есть суп, допрыгался до могильного холмика. Что это – первое ощущение разности менталитета? Правда, у Антонины Карловны истории были добрее. Там «Муммельхен» и «Пуммельхен», превратившись в очень маленьких человечков, бродили среди зарослей черники и другой ягодной и травяной поросли. Постепенно приобщали нас и к высокой литературе, к стихам Гете и Шиллера. На каком-то празднике я бодро читала «Лореляй». Русская поэзия тоже не оставалась забытой: «Зима не даром злится» и «Жаворонок звонкий» – это все из детского сада. Помню грандиозную танцевальную постановку «Подснежника», которую мы готовили к майским праздникам. Начиналось все с хоровода мальчиков в костюмах березок. В это время кто-то из детей читал стихи: В лесу, где березки столпились гурьбой, Под этот текст я выходила в центр, красиво поднимала руки над головой, потом по-балетному вытягивала ногу и говорила – уже я сама: Я вижу, погода тепла и светла, Тут со всех сторон выбегали девочки в сиреневых тюлевых пачках и начинали свой танец. Я же продолжала красиво стоять в центре в голубой пачке, подчеркивая тем самым, что я и есть тот единственный подснежник, о котором шла речь в стихотворении. Поэзия Серебряного века. Поликсена Соловьева[20]. Как мало и просто сказано. Но и как много – о том, что природа прекрасна, что она хрупка и беззащитна. Всего каких-то сто лет назад, но с каким, почти языческим, благоговением! Сегодня попранная глобальной цивилизацией естественная природа все больше уходит из жизни, уходит и как предмет поэзии и наших ощущений. Из детского сада вечером возвращались обычно по отдельности: на разбор детей отводилось около часа, кроме того, многие заходили в магазин. На обратном пути нас иногда провожала со своей мамой моя подружка по детскому саду Тамара Тумарева. Она жила совсем рядом с Клубом ученых, во втором профессорском доме, поэтому наш дальний путь служил им и хорошим маршрутом вечерней прогулки, на что они отваживались время от времени. Все вместе мы доходили до Старо-Парголовского, здесь начинали прощаться, но расходились не сразу: наши мамы еще немного стояли, разговаривая о чем-то своем, а мы с Тамарой бегали вокруг. Я пошла в школу Осенью 1938 года у меня появился другой постоянный путь: по Старо-Парголовскому и, через дворы, по Пустому переулку до той улицы, которая теперь называется Политехнической, а тогда называлась «Дорога в Сосновку» и которая тогда оканчивалась трамвайным кольцом у «Политехника». Я пошла в школу. Меня записали в новую, недавно открывшуюся среднюю школу № 1 Выборгского района. Говорили, что ее строительство курировал сам Киров, ее и называли Кировской стройкой первой пятилетки[21]. Оставив позади парк Турчиновича, мы шли к школе по Старо-Парголовскому. Деревянные двухэтажные дома справа (справа по движению) мне почти не запомнились, большинство из них стояло в глубине участков. Первые же дома левой стороны, наоборот, подходили к проспекту гораздо ближе. На самом углу с Яшумовым стоял белый одноэтажный особнячок с мезонином. Наверное, проходя мимо, я не раз видела и кого-то из его обитателей, но кто они, я узнала много-много лет спустя, когда дочь Раи и Кира Коноплевых Татьяна (о них я писала в связи с Институтом имени Константинова) вышла замуж за Гришу Ростовцева. Познакомились они как студенты-политехники. И оказалось, что этот белый домик на углу Старо-Парголовского и Яшумова родной Гришин дом. Он здесь родился и провел свои детские годы.  Домик Ростовцевых Он – Григорий Григорьевич в третьем поколении. Его дед поселился здесь еще в довоенные годы. Отец Григорий Григорьевич Ростовцев в 1930-е годы учился в нашем Коммерческом училище (168-й школе) на Малой Объездной, потом окончил электромеханический факультет Политехнического института.  Г. Ростовцев – студент Прикомандированный к авиаполку 13-й Воздушной армии в качестве механика по ремонту самолетов, он прошел войну от Сталинграда до Германии. Вернувшись в Ленинград, преподавал в Военно-воздушной академии им. Можайского, там он и познакомился со своей будущей женой, Евдокией Васильевной Меньших. У нее был не менее славный боевой путь: Невская Дубровка – Ораниенбаумский пятачок, затем Белоруссия – Польша – Германия. Путь фронтовой медсестры.  Старший лейтенант Г.Г. Ростовцев. Польша. 1944 г. Евдокия Васильевна прожила в доме № 41 по Старо-Парголовскому проспекту семнадцать лет: с осени 1948 до 1965 года, до момента гибели самого дома. Здесь у четы Ростовцевых родились дети, младшего сына они тоже назвали Григорием. Жизнь последнего «родового гнезда» окончилась. Когда-то поместье дворян Ростовцевых было в одной из южных губерний России. Не далее чем через один участок от дома Ростовцевых, чуть в глубине – добротный, кирпичный, в два цвета – красный и белый, двухэтажный особняк (если не считать высокого, с окнами, его подвала). В 1930-е годы здесь размещалась контора ЖАКТа. В подвальном помещении, видимо, проходили собрания, а иногда устраивались праздники для детей. Один раз я была там на Новогодней елке.  Е.В. и Г.Г. Ростовцевы с сыном Сашей у своего дома Особняк этот до сих пор на том же месте, правда, теснимый возникающими вокруг громадами современных зданий, он становится все более неприметным. Не знаю, находится ли он под охраной, но его история для меня остается загадкой. Чей он был? Когда построен? Кем? О других сохранившихся особняках Лесного написано немало, но об этом ни слова нигде не встречала. А между тем в справочнике «Весь Петербург» этот участок и еще несколько далее, за Яковской улицей, числились за Ратьковым-Рожковым (городским головой). Так может быть, это именно его дом? Почти сразу за ним мы подходили к маленькому переулку, который служил как бы продолжением Болотной улицы с другой стороны проспекта и упирался в Пустой переулок. По обе стороны его стояли два совершенно одинаковых охристого цвета одноэтажных домика, каждый с мезонином и верандами. «Дома колбасника Шеве», – говорила мне Нина Завитаева. Дома стояли в глубине садов, почти посередине между Старо-Парголовским и Пустым, но лицом к проспекту. А в садах перед ними – самое великолепное в нашем краю буйное царство сирени. По этому переулочку или дальше, дворами, мы выходили на Пустой, а там до школы было уже рукой подать. До сих пор помню ощущение того утра первого сентября, солнечного и уже чуть прохладного, когда мы, первоклассники, разбившись по буквам – а букв у тех первых классов было до «д» или даже до «е», – стояли парами между колоннами перед входом в вестибюль начальной школы. Обратившись лицами к нам, наши будущие учительницы проводили перекличку и выравнивали наш строй. Я заметила, что у всех других классов учительницы были молодые, а у нас – строгая пожилая дама, с почти седыми волосами, блинчиками косичек уложенными на ушах. Поля ее ажурной шляпы шевелил ветерок. Ее звали Ольга Андреевна. С ее возрастом меня примирила мысль, что она и есть «главная» учительница, так же как и главная буква «а». Она поставила меня в пару с Андрюшей Лаврухиным (а может быть, так поставили нас мамы, которые были знакомы, он тоже ходил в детский сад, только в английскую группу). С ним мы потом сидели за одной партой. Он был круглым отличником, а я – не круглой. Жаль, что детям в нашей замечательной школе пришлось проучиться совсем недолго, наверное, ни один класс не прошел в ней от первого до десятого. Во время войны там размещался госпиталь, потом здание занял Институт телевидения, и, как ни бился наш бывший директор Лаврентьев, орденоносец и герой Гражданской войны («хромой Лаврентий»), как ни обивал всевозможные пороги, детям школу так и не вернули. Только вспомнив первоначальный облик этого здания и его предназначение, можно понять теперь, что оно было одним из лучших произведений архитектуры конструктивизма. Несмотря на графический лаконизм и строгость его художественного решения, оно производило впечатление размаха и простора. При этом – максимальная функциональность, до мельчайших деталей продуманная планировка, какой-то особый комфорт, эстетика геометрии. Все здание школы соразмерно разделялось на две части: большую – для старших классов, и меньшую – для начальных. Автономность каждой из них подчеркивалась перепадом этажей, но они соединялись внутренней лестницей со стеклянными дверьми на площадках. Около них на переменах стояли дежурные. У каждого крыла был свой отдельный вход и свой вестибюль, старшие поднимались на широкое полукруглое крыльцо, а мы проходили через портик с прямоугольными колоннами под спортивным залом.  Первая школа Выборгского района, конец 1930-х гг. Фото из личного архива С.П. Николаевой Первый этаж старших классов шел на один пролет выше нашего, под ним, в цокольном этаже, – огромная столовая, куда нас приводили на большой перемене. Столы уже были накрыты нашими дежурными мамами. У каждого класса был свой стол. Когда я училась в первом классе, в столовой, через проход от нас, стояли столы третьих классов. За одним из них, лицом к нам, всегда сидел Юрка Петров, мой товарищ по детскому саду. За столом он почти никогда не молчал, что-то громко восклицал и смешил весь свой класс, в общем – очень воображал. Меня он совсем не замечал, я понимала: как можно знаться с такой мелюзгой, да еще девчонкой! Ни он, ни я не могли и предположить в те дни, что осталось нам проучиться в этой школе только два года, и что мы уже никогда ее не окончим, и что, когда начнется война, он потеряет все – и дом, и своих родителей, останется один и попадет к немцам. Потом все же какими-то неведомыми путями вернется в наш город, будет учиться не в школе, а в ремесленном и техникуме и окончит университет. Он переедет в Гатчину и всю свою жизнь свяжет с Институтом ядерной физики имени Константинова. Однажды он получит престижную международную премию и тогда сможет даже осуществить золотую мечту своего детства – немного пожить на необитаемом острове в Тихом океане. В нашей школе на половине старших, сразу за вестибюлем, был большой зрительный зал со сценой и огромным экраном. Когда отмечали одну из годовщин образования Советского Союза, каждый класс представлял какую-либо республику. Мы были киргизами. Вожатая нашего класса сказала, чтобы каждому дома сшили или достали национальный костюм. Девочкам велели заплести много косичек. С косичками у меня было плохо. В школе, над крышей, была даже обсерватория, но я в нее так никогда и не попала. Я только иногда думала, что, когда буду в старших классах, узнаю, как там внутри, и посмотрю на Луну и звезды. Как ни странно, но в третьем классе, когда нас приняли в пионеры, я мечтала полететь на Марс, засыпая, фантазировала и представляла картины полета. Возможно, что один только вид этой обсерватории, на которую я так засматривалась в детстве, послужил началом сохранившегося на всю жизнь интереса к тайнам звездного неба. Наш деловой дентр К началу 1930-х годов стиль конструктивизма в Лесном был отмечен еще двумя замечательными строениями. Это круглая баня и поликлиника на углу Институтского и 2-го Муринского проспектов. Они существуют и поныне, но претерпели изменения. Поликлиника надстроена, произошли в ней и внутренние переделки. На втором этаже не стало просторного холла с зимним садом, которому функционально и служила главная архитектурная достопримечательность здания – стеклянная стена-окно над козырьком центрального входа. В первоначальном виде сохранилась лишь лестница с расходящимися маршами[22].  В 1930-е гг. трамвай 18-го маршрута стал ходить по прямой мимо особняка Котлова Круглая баня, которая стоит сейчас на обочине площади Мужества, и в те времена как бы замыкала собой располагавшийся здесь старейший центр нашей лесновской цивилизации. Таким же функционально значимым центром он, безусловно, был и для жителей района Гражданки – противоположной от нас стороны. Не знаю, как они именовали его в своем обиходе, но мы, лесновцы, называли его Спасской[23]. Никакой площади тогда еще на этом месте не было, скорее оно представляло собой нечто вроде «Пяти углов». Однако «углов» здесь было больше: тут сходились, да еще и не совсем в одной точке, – три проспекта и пять улиц[24].  Белый дом с башенками. Первоначально трамвайные пути были проложены здесь и огибали этот дом. Фото начала XX в. На «Спасской» соединялись трамвайные маршруты из «города» – восемнадцатого, шедшего с Петроградской стороны по 2-му Муринскому, девятки и двадцать пятого с Литейного и Лесного через Кушелевку. Интересно, что первоначально трамвайные пути проходили и круто поворачивали именно в том месте, где они соединяются на площади Мужества и сейчас. Но в 30-е годы прошлого столетия линию восемнадцатого маршрута спрямили: трамвай стал чуть-чуть не доходить до конца проспекта и почти под прямым углом сворачивал на Дорогу в Сосновку, проходя при этом перед самым особняком Котлова и пересекая начало Старо-Парголовского проспекта. Здесь, на углу Старо-Парголовского и Дороги в Сосновку, как раз сходились тогда маршруты и была последняя трамвайная остановка перед кольцом у Политехнического.  Тот же белый дом с башенками со стороны Малой Спасской и Старо-Парголовского проспекта. Начало 70-х гг. XX в. Из архива Н.В. Суровой Вновь проложенный отрезок трамвайных путей оказался своеобразной естественной границей, отсекавшей от проспектов несколько крайних домов. И уже казалось, что они стоят не в определенном порядке, а сами по себе, по одному или по два, в каком-то застывшем хороводе с такими же несколькими домами обеих Спасских улиц.  «Молокосоюз». Фото К.З. Овчинникова, 1970 г. Нам, детям, обитавшим по другую сторону путей, это место представлялось каким-то особым, отдельным миром, где все было не так, как у нас. От всего нашего утопавшего в зелени деревянного царства оно отличалось необычными для нас домами: каменными, высокими. Стояли они неприкрытыми, все напоказ, потому что никакой зелени – ни деревьев, ни кустов вокруг них не росло. Самый большой из них, белый, оштукатуренный, и с башенками, и с эркерами, стоял в центре, скрепляя собой все пространство вокруг. Своими фасадами дом выходил на три стороны: боковыми – на Старо-Парголовский и 2-й Муринский проспекты, центральным – на Малую Спасскую (соответственно он имел и тройной адрес: № 2—18–52). От него начинались их расходящиеся лучи. На первом этаже здания располагались сберкасса, булочная, продуктовый магазин, парикмахерская и 21-е почтовое отделение. Когда-то именно этот дом объезжал со всех сторон впервые появившийся в Лесном трамвай. На противоположной стороне 2-го Муринского – тоже угловой и трехэтажный дом из бурого кирпича. В нем – кинотеатр «Миниатюр», галантерейный и книжный магазины, а на втором этаже – аптека. У него был какой-то совсем казенный вид: гладкие кирпичные стены со скучными рядами одинаковых высоких окон, что-то вроде казармы или фабричного здания.  На первом этаже был кинотеатр «Миниатюр», на втором – аптека. Вдали – «Молокосоюз», 1970-е гг. Фото из архива Н.В. Суровой Несколько в стороне выступал тоже угловой, светлый и остроносый, как корабль, «Молокосоюз» – так называли по вывеске и магазин, и сам дом. Магазин расходился на оба крыла, вход – с угла, под эркерами. Одна сторона дома выходила на 2-й Муринский, другая через пустырь смотрела на Малую Спасскую и круглую баню. Справа от нее чуть поодаль – керосиновая лавка со всевозможным хозяйственным товаром. Почему-то в детстве мне очень нравилось ходить в керосиновую лавку, там можно было долго рассматривать различные бытовые вещицы, но главное – очень нравился запах керосина (и знаю, что не только мне одной). Стояла и вдыхала, наблюдая, как продавец в кожаном фартуке черпает узким ковшиком маслянистую жидкость из цинковой прямоугольной ванночки, вделанной прямо в прилавок, которая одновременно наполнялась из открытого крана. С левой стороны от бани, почти на соединении Малой Спасской и Большой, стоял кирпичный двухэтажный домик с широким полукруглым окном внизу и с вывеской над ним – «Культтовары». В этом магазине мы покупали все, что нужно было для школы. Когда-то здесь же, совсем рядом, стояла и деревянная часовня, но в моей памяти она почему-то не сохранилась, а может быть, я ее просто не застала.  Магазин «Культтовары». Фото начала 1960-х гг. Странно, но тогда, в детстве, мне никогда не приходило в голову, что во всех этих домах на верхних этажах тоже жили люди. Мне представлялось, что Спасская существует только для того, чтобы можно было ходить в кино, в аптеку и магазины, в баню, наконец, или – «к трамваю». И вот теперь памятником этого былого мира осталась только круглая баня (архитектор А.С. Никольский), она же и памятник градостроительной архитектуры начала 1930-х годов прошлого века. Внешний облик бани полностью сохранился, но совершенно беспощадно обошлись с ее интерьерами. В когда-то прекрасный и просторный зал вестибюля как бы задвинули целый двухэтажный сарай, так что для прохода оставлены только две узкие щели: одна – вход, вторая – выход. Такая вот «уплотнительная застройка» внутри! А ведь, по всей видимости, архитектурно этот зал был задуман как некое внутреннее свободное пространство, как воздушный бассейн для роздыха перед выходом на улицу. А как смотрелся этот зал – весь белый! Его задняя стена казалась сценой: по бокам кулисы наружных лестниц, соединявшиеся на самой высоте полоской балкона, в центре его стеклянная дверь парикмахерской, под навесом балкона – широкая стойка, где продавали газированную воду и пиво в разлив, из краника. И здесь, и в поликлинике это были не просто интерьеры, а настоящая внутренняя архитектура и прекрасный дизайн – сочетание формы и функции. И, видимо, не случайно в городских реестрах все эти три здания – школы, поликлиники и бани – значатся памятниками истории и культуры, состоящими под охраной. Здесь же, на подходе к площади Мужества со стороны проспекта Тореза (Старо-Парголовского), затерялся и еще один скромный памятник архитектуры Петербурга – особняк Кот-лова, или, как его называли в народе, «дом Шаляпина». Тот самый особняк в стиле модерн, который много лет торжественно открывал собой Старо-Парголовский проспект (замыкал проспект знаменитый дом Бадмаева – белый каменный дом с остроконечной башней за таким же белым глухим забором; он стоял на самой высокой точке Поклонной горы в окружении сосен и был прост и строг, как монастырь). В особняке Котлова в довоенные годы размещалась известная всей округе библиотека имени А.С. Серафимовича, она продолжала работать и во время блокады. Теперь в нем другие хозяева, а сам он из-за, казалось бы, незначительных перестроек утратил часть былой красоты. Однако он, как здания круглой бани и 1-й школы, отнесен к памятникам истории и культуры и находится под охраной государства (в 2001 г. включен КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» под № 688). На протяжении многих лет я знаю это слово – «охрана», но так и не могу узнать и увидеть, что такое «охрана» в действии? В чем она состоит применительно к нашим памятникам – Лесного, Удельной, Озерков, Шувалова, Коломяг? По Институтскому, мимо Серебки… В ближайшем нашем окружении, за исключением застройки пустыря стандартными домами, в 1930-е годы никаких изменений не происходило. На противоположной стороне проспекта в сосновой рощице все так же стояла голубоватая, в два этажа, с верандами, «дача банкира Соловейчика» (потом ее называли просто «дом Соловейчика», он простоял до шестидесятых, незадолго до этого кто-то приезжал из-за рубежа посмотреть на «свой» дом). За ним, в сторону Сосновки и Поклонной, два двухэтажных дома с чертами европейского стиля: с высокими фронтонами и диагональной опояской стен, примечательной еще со времен средневековья – сказывалась близость Финляндии. Все оставалось почти неизменным и со стороны Малой Объездной. В этом уголке Лесного особенно долго хранился патриархальный дух прошлого. Здесь больше, чем где бы то ни было, оставалось еще таких дачек, особнячков, где жила память былого, и не только память, казалось, сами люди здесь задержались в прошлом и умели жить в нем, они словно существовали в параллельных мирах – настоящего и прошлого одновременно. Конечно, ни в пять, ни в десять лет я ничего не могла ни знать, ни слышать о параллельных мирах, но ощущение чего-то подобного было. Похожие чувства я испытывала и в те минуты, когда встречала во дворе Милитину Максимовну с ее собачками, и у Кроугов, и когда рассматривала картинки в «Ниве». И даже каждый раз у нас дома, когда я заходила в бабусину маленькую комнату, где в изголовье кровати, в дальнем углу, всегда горела лампада перед иконой, а постель была застелена так, что казалось, под розовым пикейным покрывалом был железный каркас, где все, как в музее, стояло строго на своих местах. Там была швейная машинка «Зингер», которая жива и работает до сих пор, а над старинной этажеркой с чудесными вазочками и фигурками висела репродукция пейзажа Рейсдаля. Между нашими дворами и домами на Малой Объездной раскинулся уже упоминавшийся парк Турчиновича, через него проходили все наши главные пути. От него и начиналось это погружение в страну былого. Он и сам был словно воспоминание о незнаемом. В верхней его части, вдоль дорожки к Яшумову, несколько лиственниц – сохранившийся кусочек аллеи. Ближе к Старо-Парголовскому – акация и низкорослая, заброшенная сирень, которая уже не цвела, на склоне – одиночные стройные сосны и обрыв, обнаживший песчаную осыпь, еще ниже – остатки куртин высокого кустарника с лаково-вишневыми прутьями стеблей. Ближе к нашим домам ряд старых берез, их могучие стволы невозможно было обхватить. В самом низу, по углам, два прудочка, с нашей стороны совсем маленький и круглый, над ним две сросшиеся березы, второй, всегда в тени, уже на задворках Объездной, продолговатый и мелкий, иногда в нем плавали утки. Ни в том, ни в другом никто не купался: все ходили на Серебку, а потом и на Бассейку. Во всем, что еще оставалось от этого пейзажного парка, едва угадывалась былая стройность ландшафтно-архитектурного замысла. В полной своей силе и красоте сохранилась тогда лишь дубовая роща – с десяток могучих раскидистых деревьев и лужайки среди них. Она замыкала собой заброшенный парк, вдоль нее шла дорога к Институтскому. Я часто думала тогда: «Кто такой Турчинович? Где же он теперь?» Турчинович был в моем детстве только звуком, за которым виделось какое-то смутное облако, отлетевшее от облака большего и еще сохранившего едва зримые черты – от парка Турчиновича. Конечно, и даже, наверняка, был раньше и дом, но уже никто не говорил при мне «дом Турчиновича», поэтому Турчинович «отлетал» в моем воображении прямо от парка. Дорога шла дальше вдоль ограды дачи Данилевского и выходила на соединение Малой Объездной с окончанием Институтского проспекта. За сохранившимся домом Данилевского был еще один особняк, его, как корона, украшала балюстрада открытого балкона. В конце 60-х годов он пошел на слом, хотя застройке совсем не мешал: соседние девятиэтажки уже стояли. На Малой Объездной (теперь это продолжение Институтского проспекта), в том месте, куда подходила давно уже не существующая Новая улица, расположилась таинственная «Лепта». Так назывались в нашем обиходе два совсем непохожие друг на друга строения – деревянное и каменное. Первое из них выглядело, как праздничная игрушка, – цвета свежей травы, с витражной галереей по второму этажу и открытой верандой под ней, почти сплошь увитыми диким виноградом. Этот нарядный дом стоял в самом торце Новой улицы, и, если идти по ней от Спасской, он был виден издалека. В 1930-е годы в нем еще действовала домовая церковь. Главное здание «Лепты» – предельно простое, серое и квадратное, каменной глыбой возвышалось чуть поодаль, в глубине двора. Там и находились когда-то помещения и классы приюта для детей-сирот, созданного благотворительным обществом «Лепта». Позже там занимались ученики младших классов Коммерческого училища. Во время войны в этом здании размещался склад медикаментов, поступавших в нашу страну по ленд-лизу[25]. Здесь же, напротив и чуть ниже, на углу Малой Объездной и Институтского, стояло и само здание бывшего Коммерческого училища, возникшее в самом начале XX века, бревенчатое и кирпичное – в центре[26]. Училище во многом было уникальным учебным заведением, сумевшим аккумулировать в себе передовые педагогические идеи и привлечь многих талантливых ученых и преподавателей. В нем впервые широкое применялись новые для той поры методы наглядности и предметности в педагогическом процессе. Они основывались на самостоятельной работе учеников в школьной лаборатории и во время экскурсий. Использовался экскурсионный метод работы с учениками, познание родного края путем экскурсий. Славилось училище и школьной самодеятельностью. Именно здесь в 1916 г. возникла первая краеведческая организация нашего города – «Кружок изучения Лесного». Идейным организатором и вдохновителем кружка являлся преподаватель училища Михаил Яковлевич Рудинский. Важную роль в деятельности кружка сыграли учителя русской словесности Марк Константинович Азадовский и Владимир Александрович Трофимов. В 1920-х годах училище преобразовалось в 168-ю единую трудовую школу, в ней учились мои родители и дяди. Моя мама окончила школу в 1926 году, о чем сохранилось удостоверение Ленинградского губернского отдела народного образования. Во время войны одно крыло здания сгорело. В оставшейся половине потом был детский дом. В 1960-е годы все разобрали до конца.  Коммерческое училище. Фото начала XX в. Новая улица была типичной улицей старого Лесного. Летом она, как и все другие улочки «на задворках» его магистральных проспектов, утопала в цветущих садах. В августе за чертой штакетника вставало роскошное царство георгин. Они провожали лето и стояли до первых заморозков. Сады украшали дома, а дома украшали сады, как самоцветы в оправе. На Новой улице жила Нина Грессерова. Ее мама была первой красавицей Лесного. Когда она работала кассиршей в магазине, случалось, что мужчины, отходя от кассы, останавливались в сторонке, как будто задумавшись или что-то пересчитывая в уме, на самом деле не в силах оторвать от нее глаз. 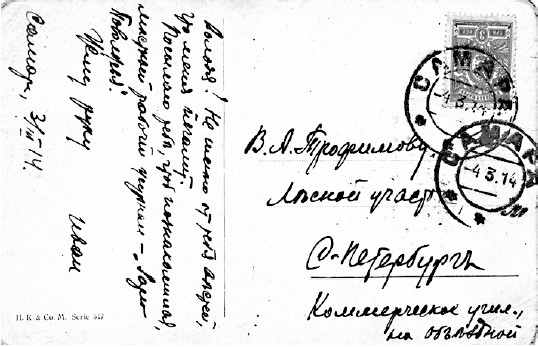 Открытка, присланная деду на адрес Коммерческого училища из Самары от И. Акулова, 1914 г. И. Акулов (1888–1937) – советский партийный государственный деятель. Активный участник большевистского подполья, с 1913 г. – член Исполнительной комиссии Петербургского комитета РСДРП. Репрессирован, реабилитирован посмертно Настоящими самоцветами сверкали витражи башенки с флюгером ближайшего к нам домика на Новой. Она поднималась над верхним его этажом продолжением таких же закругленных веранд. Дом был невелик и строен, он стоял в глубине участка. Стены его, фигурно обшитые побуревшей от времени рейкой, лоснились, как бока шантеклера[27]. Он и смотрел из глубины своего двора как-то по-петушиному – настороженно и гордо, в полном сознании собственного достоинства. А напротив, со стороны Старо-Парголовского, угловой одноэтажный, на высоком фундаменте и широко развернутый на обе улицы, дом цвета сизокрылого голубя. На нем всегда задерживался взгляд, и я долго не могла понять, что же в нем такого? И вдруг однажды увидела: его окна! Среди них не было двух подобных, каждое имело свой особый рисунок. Было и широкое, трехстворчатое, и двойное – из узких раздельных полосок, и со срезанными углами… И вот уже видишь их общий ладный узор, и хочется каким-то волшебным образом проникнуть вовнутрь, в этот скрытый, но обозначенный ими уют. А перед ними – завеса из кустов сирени и жасмина… По Институтскому, прямо примыкая к территории Коммерческого училища, – дом Кайгородова. Тогда он еще оставался архитектурной доминантой этой части проспекта. Особняк в стиле раннего модерна, с полукружьем над парадным входом, с орнаментом из водяных лилий под кровлей, он выглядел и сдержанно-скромным, и праздничным одновременно. Он стоял привольно, вместе с окружавшим его садом и нависавшими над ним кронами деревьев образуя великолепную пейзажную картину. Зеленый цвет живой природы не уходил из нее даже зимой: его удерживали ели, стоявшие около южных террас. 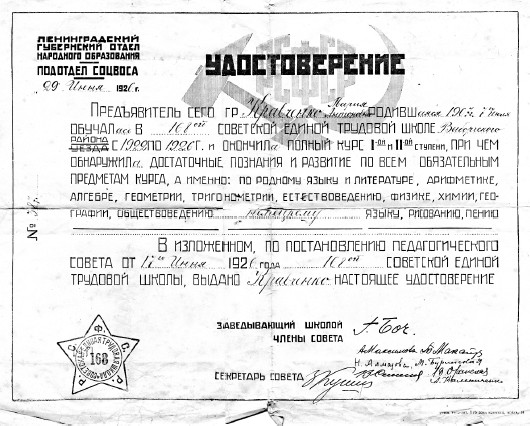 Свидетельство об окончании 168 трудовой школы М.Л. Кравченко Мы проходили здесь очень часто – и в поликлинику, и в магазин, или к 18-му трамваю «на Круглый», и просто гуляли у Серебки, но картина эта не стиралась, встреча с домом Кайгородова каждый раз вызывала ощущение новизны и радости. Особенно волновал меня в самом раннем детстве этот бордюр из лилий…  Учащиеся старших классов 168-й трудовой школы (Коммерческого училища) на уроке физкультуры. В верхнем ряду шестой справа – Г. Трофимов, в центре шестая слева – М. Кравченко. 1925/26 учебный год «Дом Кайгородова» – все жители старого Лесного произносили эти слова с уважением и гордостью. Знали, что Кайгородов – наша знаменитость, известный ученый. Мне говорили, что он все знал про птиц: куда они улетают, какие и когда прилетают. К сожалению, в 1930-е годы его самого уже не было в живых, но, может быть, в доме тогда еще оставался кто-то из семьи – «дом Кайгородова» произносили так, как будто они там еще жили. Дом Кайгородова стоит и сейчас. Стоит «под охраной». Но когда проходишь мимо и видишь его в тисках современной застройки, сердце сжимается болью: не под охраной – под стражей. До войны вдоль всего Институтского, от нас по левой его стороне, были деревянные мостки, как в старину в провинциальных русских городах. Напротив, перед Серебряным прудом, – ряд плакучих берез, со стороны мостков гладь воды просматривалась через их кружевные плети. Взгляд туда – привет, Серебка! А в парке, прямо над прудом, почти нависая над ним, потемневший от времени бревенчатый дом с какими-то замысловатыми пристройками и крышами на разных уровнях. Мне всегда было интересно, как там живут люди, чуть не падая в воду…  Серебряный пруд. 2007 г. Дальше, за Лесной улицей, тоже были деревянные дома и один каменный (особняк Тахтарева, он сохранился). На левой стороне, на пересечении с Лесной, стояло одноэтажное бревенчатое здание с большими окнами – начальная школа. И наконец, у Круглого пруда в самые первые годы моего детства еще оставалась деревянная церковь. Один или два раза меня тайком туда водила бабуся. Не помню ни икон, ни свечей, осталось впечатление только от обилия цветов в помещении и от какой-то общей необычности и блеска его убранства.  На льду Серебряного пруда. Хоккейная команда 168-й школы, победившая в соревнованиях на первенство Ленинграда среди юношеских команд. Зима 1928/29 гг. Слева – В. Семенов, крайний справа – Б. Кравченко. За ними – дом, который «чуть не падал в воду» К началу 1930-х годов Круглый пруд уже засыпали, но это место пересечения двух проспектов все лесновцы продолжали называть «Круглый пруд», или просто «Круглый». На 2-м Муринском тоже были красивые дома, даже кирпичные, но помню только серый деревянный, с верандой внизу, недалеко от 14-й поликлиники. В нем жил детский доктор Окнов. У Круглого был милицейский пост. Дума о думе За Институтским, пересекая 2-й Муринский и Новую, – тенистая Болотная улица. Там, на углу с Новой, был небольшой и тоже круглый Золотой пруд, а на другой стороне, ближе ко 2-му Муринскому, – старинный особняк с балкончиками и башней, обильно изукрашенный кружевом деревянной резьбы. И он, и улица сохранились до наших дней. Многое пришлось пережить этому особняку за годы своей уже более чем столетней истории (столетний юбилей его отмечали в 2002 году), не раз нависала над ним угроза полного уничтожения. Но он выстоял. И теперь это Детский музейный центр исторического воспитания и памятник истории и культуры федерального значения.  Болотная ул., 13. Детский музейный центр исторического воспитания. В 1917 г. здесь находилась Лесновско-Удельнинская подрайонная дума. Современное фото А в годы моего детства в нем был детский дом, которым заведовала Лидия Ивановна Трофимова, жена старшего брата моего деда. Мы с бабой Зиной приходили сюда к ней в гости. Она и жила с какого-то времени здесь, в маленьком одноэтажном домике за особняком. Детский дом считался образцовым, он славился на весь район. По отношению взрослых к Лидии Ивановне я чувствовала, насколько она уважаемый и значительный человек. Даже моя баба Зина, которая всегда считала себя главной, держала себя с ней по-другому, хотя Лидия Ивановна в домашнем обиходе была немногословна, говорила тихо и, казалось, ничем не заявляла о себе. Она была приземистой, даже чуть согбенной пожилой женщиной, на ее лице в обрамлении седины контрастно выделялись карие глаза, умные и внимательные.  Г.Л. Трофимов – кинооператор Ленинградской студии кинохроники Ее дети – Наташа и Глеб, были сверстниками моих родителей. Глеб учился в одном классе с моей мамой. Тетя Наташа устроилась на работу в Лесотехническую академию, а Глеб стал кинооператором. Когда началась война, Глеб Николаевич Трофимов работал на Ленинградской студии кинохроники. Вместе с режиссером Ефимом Учителем снимал «900 незабываемых дней», «Ленинград в борьбе» и другие документальные фильмы. В эти годы как будто невидимая ниточка протянулась от старого особняка и жизни нашей семьи к большой истории и судьбе нашего города. Но тогда, до войны, я и не подозревала, что связь нашей семьи со старинным особняком на Болотной началась гораздо раньше, и в определенном смысле она тоже имела исторический характер. Я не знала тогда, что в конце лета 1917 года в брошенном владельцами особняке поместилась только что избранная подрайонная Лесновско-Удельнинская дума, а председателем этой думы был избран мой дед, преподаватель Коммерческого училища. И что именно тогда, когда там помещалась Дума, в одну из темных октябрьских ночей в этом здании прошло тайное заседание ЦК партии большевиков, на котором было принято решение о вооруженном восстании. Так и сам особняк стал историческим.  Председатель Лесновско-Удельнинской подрайонной думы В.А. Трофимов Сама Лесновская дума просуществовала совсем недолго – с сентября по декабрь 1917 года, но и за этот короткий срок она проявила себя вполне в духе того бурного времени. Переступая порог особняка, я пытаюсь представить себе события, происходившие в этих стенах почти столетие назад, осенью 1917 года. …Небольшой зал первого этажа забит до отказа – все заседания думы были открытыми. Между гласными думы нет единства, разгораются острые дискуссии. Несмотря на численный перевес фракции большевиков, все решения принимаются с трудом, обсуждение практических вопросов тут же переходит на политический уровень. Каждый отчаянно отстаивает свою точку зрения, установку своей партии. Вот слово берет студент Политехнического института, эсер по убеждениям, он упрекает большевиков: «Вы уничтожаете личную инициативу, я теперь не вижу перспективы…». Вступает в полемику и широко известный в Лесном доктор Захар Григорьевич Френкель. Живет он в собственном доме на Васильевской улице и часто приходит на заседание Думы в сопровождении своей жены, ей никак не сидится спокойно – она то и дело что-то выкрикивает с места. От лица партии Народной свободы (кадетов) сражается в споре с большевиками профессор Политехнического института, петрограф с мировым именем Франц Юльевич Левинсон-Лессинг. Обращаясь к ним, он снисходительно произносит: «Вы называете себя марксистами, но вы не имеете о марксизме никакого представления. Поверьте, я знаю марксизм лучше вас…» Дед вспоминал: «Мне и Калинину туговато приходилось в схватках с ним, но он всегда получал отпор. Как-то я сказал: „Вы знаете книжный марксизм, но вот перед Вами находится подлинный марксизм, которого Вы совсем не знаете!“ (и я указал на группу айвазовских рабочих, пришедших на заседание думы)». Мой дед, учитель русского языка Владимир Александрович Трофимов, – с ними, с большевиками, хотя еще долго оставался беспартийным. Рядом – Михаил Иванович Калинин, председатель управы Лесновской думы, он же – член Петроградского комитета партии большевиков. Тут же – Елена Дмитриевна Стасова – секретарь ЦК партии, она тоже в числе гласных Лесновской думы… Все это я могу себе смутно представить благодаря нескольким рукописным страничкам воспоминаний деда о тех днях. Однако как все повторяется! Помню я из своих детских лет только сам особняк, его открытые кружевные веранды, ребят в пионерских панамках и «испанках» и еще – что перед домиком Лидии Ивановны цвели розовые пионы. В конце 1950-х годов я покинула Лесной и переехала в центр города. Вернулась на свою малую родину весной двухтысячного и в том же году навестила особняк на Болотной. С тех пор этот чудом уцелевший островок былого стал для меня чем-то вроде самого родного места и дома, тем более что ни первого, ни второго моего дома уже давно не существовало. Но дело не только в этом. В то время Детским центром исторического воспитания заведовала Лариса Николаевна Кудинова – великолепный организатор и педагог. Ее несомненный талант – умение привлекать людей и вовлекать их в круг своих профессиональных интересов, а в случае профессии историка, и интересов глубоко общественных. В музее всегда одинаково свободно чувствовали себя и дети – от малышей до старшеклассников, и старожилы Лесного. В день основания центра, 11 ноября, ежегодно открывались Лесновские чтения. Здесь же регулярно проходили занятия УНО (ученического научного общества), организованного Л.Н. Кудиновой вместе с учительницей 74-й гимназии Наталией Павловной Большаковой. К сожалению, когда особняк неожиданно был поставлен на длительную реставрацию, Ларисе Николаевне пришлось перейти на другую работу. Детский музейный центр исторического воспитания – так он теперь называется – вновь открыл свои двери в конце 2008 года. Очень важно, что особняк сохранен вместе с усадьбой. Это создает органичное обрамление и продлевает историческое пространство. Пожалуй, это единственное место в Лесном, где можно по-настоящему испытать чувство «погружения в прошлое». Не знаю, случай ли привел, или собственный выбор, но именно здесь, в соседнем доме, с 1964 года и до конца века, до самых последних своих дней жил Дмитрий Сергеевич Лихачев. Его квартира на пятом этаже выходила окнами на Болотную, на особняк с окружавшим его садом. И разве эти столетние лиственницы, сквозь тяжелые ветви которых просвечивали витражи причудливой башенки, не поддерживали его, не служили опорой «в дни тягостных раздумий о судьбах Родины»? Он каждый день видел их. Видел, когда писал о садах и парках, о Земле родной и старине, об экологии культуры… Здесь, невдалеке, еще остался Серебряный пруд, но уже давно засыпан Золотой. Здесь, где когда-то проходили службы в церкви Петра и Павла у Круглого пруда и в домовой церкви «Лепты», где звенел звонок в стенах Коммерческого училища, где дом Кайгородова и особняк на Болотной своим противостоянием еще хранят память о прошлом – здесь было самое сердце Лесного. Главное слово – «табу» Детский сад, потом школа постепенно отрывали меня от дворовых компаний. Пока я ходила в садик, летом ничего не менялось и я оставалась в Лесном, но в последние три года перед войной мы стали уезжать на дачу в Толмачево. Времени для двора оставалось совсем немного. Зато я все полнее осваивала свой второй дом – дом бабы Зины. Постоянно там жили: она сама – Зинаида Николаевна Семенова, дед – Владимир Александрович Трофимов, «дед Владимед» (он сам себя так назвал, когда родился мой брат) и дядя Вася, младший брат моего отца. Старшие братья бывали только наездами. Самый старший, Иван, жил в Москве и редко бывал в Ленинграде, но на лето стали привозить Леку, совсем еще маленького его сынишку. Привозила его мама – тетя Вера. Лека был жизнерадостным и забавным малышом. Белая пикейная панамка то и дело съезжала ему на ухо, из-под нее светился восторженно-вопросительный взгляд озорных глазенок. Казалось, он каждую секунду ожидал чего-то необычайно интересного, что сейчас вот-вот произойдет, и в чем он тоже примет участие. Он смело выбегал во двор, оказывался среди нас и всюду решительно устремлялся за нами. Как-то, уже после войны, он катался в корыте по Серебке, а моя бдительная подруга Рая донесла об этом бабе Зине. Ему влетело, но тяга к воде сохранилась. В десятом классе он стал чемпионом Москвы по плаванию. Доктор экономических наук Алексей Иванович Семенов в наступившем XXI веке завоевал титул чемпиона России среди ветеранов. Он был моложе меня на семь лет. Лекин отец – Иван Евдокимович, отличался от своих младших братьев и внешне, и своим более жестким характером. В молодости его бросало «на Кронштадтский лед». В конце 1930-х, в Москве, его «забирали», но сидел он недолго. Точных причин и обстоятельств не знаю, много лет спустя в домашнем кругу слышала об этом обрывочно, в том числе и то, что он «ничего не подписал». Он окончил электромеханический факультет Политехнического института, работал под руководством А.Ф. Иоффе, потом увлекся пластмассами, изобрел очень прочный состав древпластики (древесные пластмассы, или пластмассы с применением древесины). Во время войны получил Сталинскую премию. Об этом я узнала спустя годы, в середине пятидесятых. Тогда дома как-то отвлеченно и как бы вскользь говорили: «Иван заменил головку снарядов». В действительности речь шла о бронебойных снарядах против немецких «пантер» и «тигров». Был в его молодости еще и такой случай. О нем мне рассказывал дядя Юра, старший мамин брат. На заре авиации в Лесном упал горящий самолет. «И Ванька бросился срывать с летчиков горящую одежду», – рассказывал дядя Юра. Правда, спасти их уже не удалось. Мне вся эта история тогда показалась не слишком правдоподобной. И только несколько лет назад в краеведческой литературе (в одной из публикаций Д.Ю. Шериха) я встретила описание этой катастрофы, случившейся в районе Дороги в Сосновку. И тогда все сошлось: ведь Иван после окончания Политехнического работал в Физтехе, который как раз там и стоит[28]. У бабы Зины почти всегда кто-то гостил, и не только родственники. Со своей мамой или бабушкой «из города» часто приезжал мой ровесник Андрей Чигиринский. Его бабушка, Мария Гансовна Бехман и мой дед, знакомые по каким-то старым революционным связям, поддерживали добрые дружеские отношения. Мама Андрея, Жозефина Эрнестовна, радистка Ленинградского порта, была одногодкой моего отца, а я – Андрея. Андрей был очень воспитанным, «приличным» мальчиком, а главное – «городским», и это делало его выше нас, ребят с окраины. Поэтому мы, маленькие негодники, считали его чужаком и старались, чтобы жизнь в наших пампасах не казалась ему сладкой: по мелочам обижали, заваживали в прятках, особенно в первые дни, когда он только появлялся. Я старалась больше других, ведь это был «мой» чужак. Однажды, как мне сначала показалось, он дал повод еще больше задевать его. Как-то, после первого класса, в нашем саду он устроил мне «сцену из рыцарских времен». Он прочел «Айвенго» и, наверное, решил, что кроме деревянных щита и меча, которые у него имелись, ему необходима еще и Дама сердца. Я, конечно, повела плечами, но втайне с той поры начала по-настоящему уважать его: надо же, прочел такую толстенную книгу! (я прочитала «Айвенго» только в шестом классе, когда проходили Средневековье). Андрей намного опережал нас, знал больше, был лучше воспитан. Он увлекался кроссвордами, сам пытался их составлять, советовался с моим дедом. Тогда он жил у бабы Зины все лето. Много лет спустя я узнала причину: арестовали его маму, тетю Жозю. Но потом ее отпустили, и она снова вернулась в порт и служила там во время войны и всей блокады. Отец Андрея был лоцманом и встречал в Мурманске караваны судов из Ливерпуля. А Андрей тогда потерялся. Его спешно эвакуировали с интернатом, и никто не знал – куда. Нашла его баба Зина – в Кургане. Андрей стал военным врачом и блестящим морским офицером. Был атлетичен и красив, как киноактер. В 37 лет трагически погиб. У бабы Зины подолгу жила тетя Саша Шаркова со своей дочкой Зиной. У нее были еще старшие сыновья. Они приехали из той деревни, откуда родом происходил первый муж бабы Зины Евдоким Федорович Семенов. Баба Зина всячески содействовала им с устройством в городе и всегда поддерживала их, как настоящая родня, а тетя Саша временами помогала ей по хозяйству. Зина – тоже. Говорили, что когда мне шел только первый год и мы летом поехали в ту самую деревню на Гдовщине, Зина, тоже еще совсем крошка, возилась со мной, как настоящая нянька. Какими и бывали раньше в деревнях старшие девочки в семье. У меня в доме бабы Зины не было никаких привилегий. Ко всем детям – и своим, и чужим здесь относились одинаково ровно, по-доброму, но сдержанно, без телячьих нежностей. Было похоже на школу: свой твердо установленный режим, много различных занятий, но не меньше правил и наставлений. Семейные узы и привязанности внешне никогда не подчеркивались. Возможно, дело заключалось в том, что мой дед был учителем, и не только учителем, но и убежденным поборником новых отношений между людьми, поэтому он, видимо, считал своим долгом оставаться таким и дома. Принцип равноправия культивировался им и в семье, где, таким образом, выходило, что своя рубашка не должна быть ближе к телу. Этот уклад активно поддерживался, вдохновлялся, а может быть, и был введен самой бабой Зиной, в коммунизм особенно не верившей, но умевшей хорошо ориентироваться в жизненных ситуациях. Она была женщиной умной, волевой и властной, была находчива, отзывчива и щедра на помощь всей округе. К ней приходили за советом и врачебной помощью – она умела ее оказать, приходили просто позвонить по телефону. Этим квартира бабы Зины еще больше походила на какое-то учреждение, куда всегда обращался народ. От дани натуральной баба Зина тоже не отказывалась, шла она в основном цветами. Букеты тогда набирались тугие, еле затискивались в вазы. Иногда их стояло на столе сразу по три-четыре в ряд. У бабы Зины было строгое, даже суровое лицо, высокая старинная прическа с тюрбаном закрученных на макушке волос. Улыбка редко появлялась на ее лице, но уж если она улыбнулась или вдруг рассмеялась, это получалось так от души, что жизнь становилась прекрасной. Их квартира была большой, со всякими закоулками и множеством комнат – две проходные, выходившие на террасы, две маленькие комнатушки, смотревшие на юг, и три угловых – спальня, кабинет деда и комната дяди Васи. По ним можно было долго бродить и находить много интересного. Письменный стол деда весь был уставлен различными предметами и вещицами. Там стоял ящичек с восходящими ячейками для бумаг, рядом – фигурный ножичек из какого-то экзотического дерева для разрезания страниц, тут же спил бивня, где лежали ручки и карандаши, два бронзовых подсвечника, юбилейная Пушкинская медаль, фотографии в багетных рамках, ажурная серебряная ваза для сухих цветов, квадратная стеклянная чернильница в бронзовой оправе, «качалка» пресс-папье и на середине стола квадратная подкладка для письма с большими листами такой же промокательной бумаги, заправленными в ушки коленкоровых уголков. Пишущей машинки у деда тогда еще не было, и он все писал ручкой с перышком «Рондо». Тупо спиленные на конце перышки писали контрастно: широко при нажиме и совсем тонко в соединительных линиях. У деда получалось очень красиво и ровно, как будто он рисовал. Когда я пошла в школу, нам никогда не разрешали писать таким пером. В первом классе только «86-м», потом еще «Союзом» и «Уточкой», с мягкой подушечкой на конце. На письменном столе деда запрещалось трогать что-либо без него. И вообще, если тебя что-то интересовало, всегда следовало спросить: «Можно ли взять? Можно ли посмотреть?», а потом – все положить на место. Все, что требовалось для рисования или еще для чего-нибудь, дед «выдавал». Баба Зина так и говорила: «Спроси у деда – он тебе выдаст». Одна из проходных комнат служила столовой, другая, примыкавшая к восточной террасе, называлась «читалка». В ней стояли высокие, до потолка, полки с книгами, рояль и граммофон. Там же висел и телефон на стене, а рядом с ним – старинный барометр. И красивая резная полочка над роялем, где среди разных других вещиц почетное место занимал полевой бинокль. Между окном и остекленной дверью на террасу стояла высокая тумбочка, в ее утробе покоилось все богатство дедовской коллекции граммофонных пластинок. По выходным и в праздники дед Владимед устраивал в читалке «концерты по заявкам». Он открывал крышку граммофона, раскрывал дверцы внизу, где пряталась труба, включал в сеть – и диск вращался. Пластинки выбирали по каталогу. Мне, конечно, как и всем детям, тогда больше всего нравились популярные советские песни: «Каховка», «Матрос Железняк», «Три танкиста», «Марш буденовцев», «Утро красит…» («Москва майская») и еще многие другие. Мы все их знали и пели. Взрослые заводили романсы, но мне они казались скучными, я с нетерпением ждала чего-нибудь из своего репертуара. Папа смеялся: «Всему – свое время!» Летом центр всей домашней жизни перемещался на восточную террасу. Отсюда открывался прекрасный вид на парк Турчиновича. По праздникам мы с Виталием высматривали у раскрытых окон идущих к нам через парк гостей – и от Старо-Парголовского, и со стороны Круглого. В дальнем углу террасы стояло плетеное ивовое кресло. Оно было раздвижное: из-под сиденья выдвигалась подставка, спинка опускалась, и оно превращалось в ложе. В квартире была еще маленькая, как кладовка, «умывалка», оборудованная на месте, предназначенном первоначально для второй уборной, поскольку квартира была сдвоенной. В ней стоял умывальник образца «Мойдодыр» с мраморной доской и двусторонним изогнутым краником, вода лилась с одной стороны вниз, с другой – вверх, фонтанчиком. В стене, когда-то разделявшей коридоры двух квартир (а может быть, так было изначально), большая арка соединяла обе половины. Меня многое здесь привлекало, но мое самое любимое занятие в этом доме – рассматривать картинки в журнале «Крокодил». Эти журналы, как и «Огонек», стопками лежали на тумбочке в «читалке». Я брала несколько штук и забиралась с ними в кресла, которые стояли в чехлах тут же, прямо посреди комнаты. Они были очень простые и очень уютные: квадратные, каждое с двумя прямыми спинками под углом, если их сдвинуть, получался маленький диванчик. Все эти смешные картинки, а они заключали в себе и правду, и вымысел, и насмешку, были выполнены четкими линиями, иногда в цвете, иногда – нет, со множеством примечательных деталей, в них можно было подолгу вглядываться. Главное – рассматривать. Даже когда я научилась читать, подпись к ним значила гораздо меньше нарисованного. Отдельные карикатуры помню до сих пор. Вот две парные картинки. На первой – дама выходит на балкон, под ним кавалер в плаще и с гитарой поет серенаду; на второй – он ловит ее вместе с балконом. Или: какой-то вестибюль, где невесть что нагорожено, а дверь в туалет открывается в боковой стене прямо от ступеней лестницы, без площадки. Эти – на строительные темы. Как сейчас, вижу обложку журнала с красочным изображением карнавала пушкинских литературных героев. Это, вероятно, был февральский номер 1937 года. Там были и Онегин, и Ленский, Татьяна, Руслан с Людмилой, и Цыганы, и черти с Балдой – все они веселились. И только один мальчик плакал: его не пропускали, потому что он пришел в костюме, похожем на летучую мышь, – он нарядился Демоном.  Дед, баба Зина и дядя Вася в саду перед нашим домом. Первые годы после войны. Вдали – «кондратьевский» дом, а «станкинского» уже нет Из номера в номер на страницах журнала бегали капиталистические поджигатели войны с круглыми дымящимися бомбочками в руках. И – «дядя Сэм», и «Джон Буль», и стоял, как ликтор[29], похожий на бегемота Муссолини. Страус спрятал голову в песок – это Англия не хочет замечать разгоравшейся в Европе войны. Я забиралась в кресла, передо мной была стопка журналов – и обо мне забывали. Иногда мне разрешали посмотреть картинки в книгах, стоявших на полках у деда в кабинете. Но это оказывалось настоящим событием и разрешалось только в его присутствии. Самыми замечательными среди них были тяжелые тома в картонных футлярах – Шекспир Брокгауза. В одном из них плыла Офелия по лесному ручью на своих воздушных одеждах, ее венок расплетался, и цветы по одному проплывали рядом с ее прекрасным лицом и распущенными волосами… Плывущих Офелий было несколько, потому что это были не просто иллюстрации к тексту, который шел на страницах двумя столбцами, а репродукции картин знаменитых художников. Перед каждой из них – тончайший листок папиросной бумаги. Дед учил нас, как бережно перелистывать страницы: чуть проводя пальцем по их обрезу сверху.  Дом, где жили родители моего отца, перед сносом Дед почти никогда не произносил слово «нельзя», его заменяло «табу» – слово, имевшее загадочный и волшебный оттенок. Он объяснял нам, детям, его происхождение и смысл, тем самым вовлекая нас в какую-то новую игру. И мы словно чувствовали его особую магическую силу: «табу», это не разовый запрет, если его не снимут, действие его сохраняется на все время. Строжайшее «табу» было наложено на чтение за столом во время еды – для всех в доме без исключения. Дома дед Владимед всегда был одет, как на выход, – в тройке, в кармане жилета – часы на цепочке. Сухощавый, с усами и эспаньолкой, он немного походил на Дон Кихота. Когда нас с Виталием отправляли в гости к бабе Зине, относились к этому очень серьезно. В мамином доме всегда называли ее по имени-отчеству – Зинаида Николаевна, говорили с почтением, но с настороженностью, словно в том, другом доме таилась какая-то опасность. Сначала я думала, что боялись ее острого языка, неожиданных и резких суждений, замечаний насчет нашей одежды, поведения, привычек и всего такого, но потом я поняла, что боялись не только слов. Однажды она совершила-таки свое злодейство. Мне было тогда лет семь, а Виталию около трех. Как-то в начале лета нас собирали к бабе Зине, старались одеть прилично, но так, чтобы обошлось без придирок. На мне был сарафанчик из набивного, очень красивого сатина – поле, сплошь усыпанное фиолетовыми и темно-зелеными листочками, прилегающий лиф со шнуровкой, как у Красной Шапочки, и белая блузка с рукавами фонариками. На Виталии – полотняная косоворотка с вышивкой (все, что мы носили, нам шили дома). У маленького Виталия волосы вились колечками, и он был очень хорошеньким со своими кудряшками. Бабуся умилялась: «Как херувимчик!» У бабы Зины мы играли, обедали, рисовали, потом наше внимание привлекла парикмахерская машинка для стрижки. Я знала о ее существовании, но в этот день она почему-то лежала на террасе, прямо на подоконнике. Конечно, машинку интересно было брать в руки, мы знали, что она жужжит, когда работает, но стричь-то ведь было некого, так что мы просто подержали ее в руках… И вдруг баба Зина говорит: «Хотите, я вас остригу?» Мы замерли от изумления и восторга. Вот так и зажужжала машинка на наших головах, приятно пощипывая наши отлетающие волосики. Потом мы вернулись домой. Когда нам открыли дверь, мы глупо улыбались и поглаживали свои голые кочерыжки. Бабуся всплеснула руками. Она сказала: «Привыкла болванить своих мальчишек!» Мама ничего не сказала. Она умела молчать, за нее всегда говорили ее глаза. Я потом поняла еще, что основной мишенью бабы Зины был Виталий с его кудряшками, она не могла смириться, что с ним носятся, как с девчонкой, а меня она «оболванила» заодно, для прикрытия своего маневра. Товарищи Дядя Вася, младший брат отца, был веселым и добрым. Когда я появилась на свет, он, как и братья моей мамы, ходил еще холостым. Дядя Вася был среднего роста, плотный сероглазый блондин. Мамины братья – высокие, стройные, кареглазые. Все они увлекались спортом, играли в футбол и хоккей с мячом, играли на первенство Выборгского района и за район. Конечно, ходили и на стадионы болеть за ленинградские команды. И повсюду, в пределах возможного, они таскали с собой меня – в мои от двух до пяти – за руку, на руках, на плечах, как на демонстрации. Я была для них их первой живой игрушкой и их товарищем. Я постоянно крутилась у них под ногами, когда они сходились во дворе, чтобы обсудить свои дела и планы, – они и Жека Шаповалов, лучший друг дяди Васи. Они катали меня на финских санях и учили ходить на лыжах (на лыжах в Лесном ходили все, у нас они лежали на антресолях, и еще там были коньки, клюшки и специальные лыжные ботинки с загнутыми носами – пьексы, которые чудесно пахли кожей). Летом брали меня на футбол, на стадион Ленина, потом все шли пешком, я – на плечах, в потоке толпы по Большому, к 18-му трамваю. На этом пути обязательно было мороженое, и не на улице, а в притененной и прохладной мороженице, за столиком и в вазочке. С содроганием вспоминаю, как однажды зимой они взяли меня на американские горы. Кажется, они были на Крестовском. Морозный зимний вечер. Уже темно, как ночью. Мороз сильный – пар идет изо рта. Желто и расплывчато горит электрическая лампочка над прилавком сарайчика, где выдают инвентарь. Мы берем сани и поднимаемся наверх, на деревянную гору. Дядя Юра (мамин старший брат) ложится на санки лицом вниз, а я уже лежу там, оказываясь между ним и санями, как начинка пирога. Он обхватывает меня руками и крепко держит сани. Потом с грохотом и на страшной скорости – низвержение, у меня все обрывается внутри. Внизу дядя Юра как ни в чем не бывало спрашивает: «Галюха, прокатимся еще?» Я жмусь к дяде Васе. Дядя Вася – Василий Евдокимович Семенов, окончил Ленинградский строительный институт (ЛИСИ). Когда началась война, его срочно командировали на Урал, на строительство цехов оборонного завода. Туда, на Северный Урал, уехали с ним и дед с бабой Зиной. Дядя Вася тогда только что женился на очень милой и очень любимой мной впоследствии тете Тасе Толвинской, дочери профессора Политехнического института (они жили во втором профессорском доме). Она сама только что окончила Политехнический, но добралась до Верхней Туры гораздо позже: сначала работала медсестрой в госпитале, который был в нашей школе, потом эвакуировалась вместе с институтом и своими родителями. Еще до окончания войны дядю Васю назначили начальником Первого строительного треста восстановления Ленинграда, и он вернулся в наш город. Умер он рано, внезапно, от сердечного приступа. Дядя Юра прошел Финскую кампанию и был комиссован. Его, едва живого, вывезли из Ленинграда весной сорок второго, но он выправился и дожил до глубокой старости. Он был художником-оформителем, макетчиком. До войны он выполнял большие панорамные макеты колхозных ферм и поселков для ВДНХ. Вырезал из дерева малюсенькие фигурки людей, лошадок и коровок, клеил домики. В комнате у него всегда пахло столярным клеем и стружками. Накануне Два последних ярких впечатления моего детства остались из тех лет, когда я уже ходила в школу. Одно из них праздничное, второе – полное печали. Но сначала о первом. Это был день рождения Сергея Мочалова, моего товарища и соседа. В гостях у него из детей я одна. А взрослых собралась большая, веселая и шумная компания. Тогда как-то так было принято, по крайней мере в известном мне окружении, что взрослые в наши дни рождения устраивали праздник для себя. Виновник торжества, конечно, получает подарки, но своих гостей у него один или два, только для того, чтобы ему было с кем играть и не мешать им. И дети оправдывали их ожидания, за столом не засиживались – новые игрушки привлекали гораздо сильнее. В тот вечер все было так и не совсем так. Нина Николаевна, Борис Павлович и их гости вдруг сами стали играть. Сначала я даже не поняла, что что-то началось. Сначала Нина Николаевна зачем-то протащила через комнату пустые Сережины санки. Потом открылась дверь во вторую комнату. Там было темно, только горела одна свечка… Посредине кто-то лежал на стульях под белым покрывалом, а рядом в черном балахоне стоял один из гостей, держал в руках книгу и что-то бормотал. Потом он наклонился и стал водить рукой по полу. И вдруг из-за шкафа вышел еще один из гостей, самый высокий, с большим открытым лбом. На этом лбу каким-то образом держалось и свисало на лицо простое вафельное полотенце. Он медленно, страшным голосом прорычал: «Подымите мне веки!» – и еще двое подскочили к нему и откинули полотенце. Тогда он протянул руку и показал пальцем на того, который читал книгу: «Вот он!» Тот сразу упал. Все зашумели, захлопали и закричали: «Вий! Вий!» Мы снова вышли. А когда дверь открыли, то все увидели вершину белой горы, над которой вился дымок, и все закричали: «Везувий!» Везувий был из стульев, простыни и того же высокого человека, он, скорчившись, сидел на сдвинутых стульях под простыней и курил. «Вием» и «Везувием» был академик Николай Николаевич Семенов. С тех пор я заболела шарадами. Второе – очень сильное и очень зримое впечатление тех лет – гибель и похороны Димы Залевского. Все наши дома притихли, как только разнеслась весть о том, что Диму на велосипеде сбил грузовик. Это случилось в самый разгар лета. Он только что окончил первый или второй курс Лесотехнической академии. Большой компанией – там были Юра Рыбежский и другие ребята нашего двора – они поехали на танцы в Озерки. Дима был на велосипеде. От «Светланы» до Озерков шоссе шло по одну сторону от трамвайных путей, но не так, как теперь за Поклонной горой, когда между ними есть зеленая полоса, а совсем рядом. Возвращаясь, все стояли на задней площадке трамвая, а он ехал за ними, смеялись и перекликались, среди них была и его невеста, тоже студентка. Он ехал по встречной полосе и не успел увернуться от грузовика. Несколько дней в больнице он пролежал без сознания. Все эти несколько дней из квартиры в квартиру, из дома в дом передавали какие-то медицинские слова, но такими глухими, упавшими голосами, что даже мы, дети, понимали: надежды нет. Потом он лежал на столе, весь в цветах, а люди все шли и шли прощаться. Дверь в их квартиру со стороны парадного входа все время оставалась открытой. Помню, кто-то сказал: «Все наши хулиганы плачут». Потом, на середине Старо-Парголовского, – замедленный открытый грузовик, спущенные борта, цветы, венки и люди, очень много людей. Процессии, казалось, нет конца, она растянулась по Старо-Парголовскому от Яшумова до Воронцова и направлялась через Спасскую на Богословское. Надрывные вздохи оркестра тяжело падали на наши дворы и окрестные улочки. Позже, оглядываясь назад, я воспринимала это событие как какой-то знак, как предвестие надвигавшейся большой беды. Но тогда оставался еще год неведения и привычно текущей жизни. Через несколько дней мы уехали в Толмачево. Вернулись в конце лета. Я пошла в третий класс, а Виталий в детский сад Клуба ученых. Прошел сентябрь с моим днем рождения, и вот уже земля в наших дворах покрылась сплошным золотистобагряным ковром опавших листьев и весь воздух вокруг пропитался их пряным ароматом. Потом выпал снег и, как всегда, лежал до самой весны. Зима тянулась долго и имела привкус грусти, оттого что папа уехал работать в Петрозаводск и дома появлялся редко. В его рассказах звучали слова «Калевала» и «Сампо», и еще он привез печальную песню из спектакля, в котором играл, «про Деву леса, дочку северного ветра» и «про то, как люди из крови ковали Сампо». В марте праздничной мишурой засверкали на солнце сосульки. Мы обламывали их с крыш сараев и лизали, как мороженое. К апрелю у южных стен домов стали показываться проталины. Наконец, совсем сошел снег, а на пригорках зацвела мать-мачеха. Я знала, что скоро в поле, за парком Политехнического, из травы будут взлетать жаворонки. Видела их раньше, когда еще в детском саду нас водили туда на прогулку. Но теперь я в ту сторону не ходила. Зато, когда возвращалась с занятий в кружках Клуба ученых, можно было заглянуть в соседнюю рощицу, там, в тени, уже расцвели фиалки и ландыши. Окончились занятия в начальных классах школы. Прошли отчетные концерты в кружках. И снова наступило лето. За три дня до войны мы с мамой и Виталием уезжали на дачу. На этот раз наш поезд отправлялся не с Варшавского, а с Витебского – в Белоруссию… В садах цвела сирень. Подходила пора жасмина и пионов. В последний раз мы проходили дорогами старого Лесного. И клены, клены в каждом дворе то ли прощались с нами, то ли хотели что-то удержать в трепетных ладонях своей листвы. Вместо послесловия. Диалоги воспоминаний Если вспоминаешь только о себе, своей семье и ближайшем окружении, можно уединиться и писать. Но если задумаешь представить более широкую картину прошлого, очень нужен собеседник и диалог воспоминаний. Мы говорим друг другу: «А помнишь?» – и все оживает, обрастает подробностями, фактами, незнаемыми тобой до этого событиями. Мне посчастливилось с детством. Я успела прожить его целиком до войны и в таком месте, лучше которого, как мне до сих пор представляется, не было на свете. И я всегда ношу его с собой. Оно живет в моем подсознании и помогает жить. Оно огромно. Это не дом, не сад, не лица моих родных, вернее – конечно, все это, но еще и все наши дома и дворы вместе, в одном образе, со всеми населявшими их людьми, такими интересными и разными, их жизнью и судьбами. Поэтому, чтобы как можно полнее и точнее все передать, очень был нужен собеседник. Первой и очень важной для меня в этой роли оказалась Нина Завитаева – девочка нашего двора, а потом и моя одноклассница. Без нее моя телега воспоминаний, вероятно, просто не сдвинулась бы с места. Мы начали вспоминать вместе. Она обладала прекрасной памятью и достаточным житейским любопытством, была на год старше меня и уже в детстве знала о нашем окружении больше, чем я. Бесконечно жаль, что она не дождалась законченного результата начатой нами работы, с ней многое ушло навсегда. Но среди того ценного, что она успела мне сообщить, был и адрес Нели Фоминых – «девочки из соседнего сада». Нелина семья после войны не смогла вернуться в Ленинград – некуда было – и осталась в Карелии. Я написала ей в Петрозаводск и получила ответ. Она прислала мне бережно хранимую в семье фотографию дома, потом приезжала и привезла еще несколько фотографий. Обмен воспоминаниями о детстве и юности, естественно, всегда возникал на традиционных сборах нашего класса (тех, кто остался и в состоянии был прийти на встречу). Правда, в основном затрагивались блокадные и послевоенные годы, но иногда всплывали и какие-то более ранние моменты. Была среди нас и Наташа Брызжева. Она – геолог, в последние годы вместе с мужем работает по договору в Австралии. И вот я получила письмо из Сиднея… Кстати, Наташа недавно написала несколько страниц воспоминаний о блокаде. Написала искренне и правдиво, прямо от сердца, но пока держит при себе, говорит, очень личное. А ее письма я здесь привожу – это тоже наш диалог о Лесном. Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в моем начинании. Рассказ Нины Завитаевой У лесозаводчика Василия Липатова были участки леса в Бокситогорском районе, в округе станции Ефимовская. Мой отец, Владимир Андреевич Завитаев, работал у него десятником. Он происходил из мещан и жил в селе Сомино – тогда Новгородской губернии. Бабушка пекла крендели, которые продавали на ярмарках. Отец моей мамы работал лесником у князя Вяземского в Осиновой Роще. Там было роскошное имение, в парке ходили павлины. В 1916 году отец переехал в Петроград и работал у Липатова в Васкелово и в Песочной (тогда – Графская). Там временно и жил. Там же женился на моей матери – Ольге Петровне Пуссеп, она была латышкой. В 1924 году началась национализация частных владений. Отец снял квартиру в доме Липатова в Лесном (Старо-Парголовский проспект, 34, 2-й дом, кв. 7). Он поступил в контору «Выборгский транспортник» и занимался извозом. Мама работала на Витебском вокзале кассиром. В 1925 году родился мой брат Володя (по метрике Владислав, ошибка произошла, когда во время войны выдавали паспорт), в 1929 году родилась я. Сначала у нас была нянька, потом мама заболела туберкулезом и перестала работать. Мы завели двух коз, позже – корову. Во дворе играли в прятки, в лапту, потом ближе к нашему дому поставили стол. Старшие играли на песчаной площадке двора в футбол и волейбол. Еще раньше нас в доме Липатова появилась семья Богорадов. Соня Богорад была нашей ровесницей. Ее дед – Абрам Левин – тоже был связан с Липатовыми: Сонин дед еще на Ефимовской работал у них подрядчиком. После национализации Левин занял всю квартиру Липатова (№ 5, на втором этаже). Отец Сони, Борис Богорад, тоже был из Ефимовского. Ее мать – Феодора (Феня), была незаконной дочерью Абрама Левина. Первым браком она была замужем за двоюродным братом моего отца, Богорад ее отбил. Но у нее в то время уже было трое детей – Валентина, Игорь и Юра Завитаевы. Племянники моего отца, мои троюродные сестры и братья. В 1934 году Борис Богорад был репрессирован как бывший эсер, затем выселили и Феодору Богорад. Она уехала за мужем в Кустанай вместе с Соней и старшей Валентиной. Остались братья Завитаевы. Две комнаты и веранду опечатали. В эту квартиру въехал партаппаратчик Прокофьев с женой и тремя детьми (Юра, Гена и Мила). Его мать Прасковья Васильевна окончила пансион Елисеева, была дочерью погибшего на Русско-японской войне капитана. Феодора Богорад с дочерьми вернулась в конце 1940-х годов. В 3-й квартире еще до революции жила мадам Коллет. Позже у нее снимали две комнаты Поланты: три сестры – Мария, Софья и Елена и их мать. Потом к ним приехала еще одна сестра – Евгения, фельдшерица, с дочерью Нелей Николаевой. Ее муж, Александр Николаев, был начальником полигона на Пороховых, там и жил с семьей. В середине 30-х годов его репрессировали, Евгения с дочкой уехала в Оренбург, а в 1939 году вернулась к сестрам. В шмиттовском доме жила Наташа Шмитт – внучка домовладельца. Перед войной ей шел 14-й год. Она училась во 2-й школе (бывшее Коммерческое училище). В доме была одна квартира, сад с сиренью. Полукруглая веранда, чердак со светелкой, высокий фундамент из плитняка, высокое крыльцо, итальянские окна без переплетов. На входных дверях с решетками были витражи. Дом сломали во время войны одним из первых, летом 1942 года. Начали с крыши и все сбрасывали. На углу Объездной и Старо-Парголовского под открытым небом долго стояло пианино. Ноябрь 2003 года. Письмо Н.А. Фоминых (Нели)[30] Петрозаводск 13.08.05. Добрый день! Здравствуй, дорогая Галя. Прости меня, пожалуйста, за то, что я так долго собиралась с ответом. Нет мне оправдания, но причина все же есть – я только что оставила работу (мыла полы, хотя имею две специальности: закончен физмат, вела математику и физику в школе, а потом освоила черчение, начертательную геометрию и т. д. и проработала 25 лет техником-конструктором в НИИ, где была очень довольна работой и мною тоже были довольны). У меня двое детей – дочь и сын, две внучки и один внук, и даже появилась правнучка. Жизнь пролетела быстро, хотя была трудной. И остается трудной. До войны мы жили в доме, который стоял рядом с вашим: мой папа – Александр Петрович Фоминых, мама – Лидия Парменовна, мой старший брат Альфред и я. С нами жила еще папина сестра. Папа умер осенью 1940 года. Когда приезжаю в Ленинград, всегда чувствую боль: почему я не в Ленинграде? Моя мама не захотела возвращаться, так как у нас пропала квартира. Мы бы бедствовали много лет прежде, чем что-нибудь получили. Папина сестра пережила всю блокаду и получила комнату только в 1967 году, до этого слоняясь по родственникам. У моей мамы был не такой характер, очень была самостоятельная, независимая. Во время войны, в 1943 году, вступила в партию, в эвакуации работала даже председателем сельского совета (мне ее очень напоминает Нонна Мордюкова в роли председателя колхоза). После войны мы вернулись, но не в Ленинград, а в область, в Подпорожье, что на Свири. Здесь мама работала редактором районной газеты (она заочно закончила Ленинградское педагогическое дошкольное училище, которое после войны находилось в Сестрорецке). Моя мама родом со Свири, там у нее была большая родня. Брат 8 лет служил в армии. Я в Подпорожье закончила школу. У нас были замечательные учителя, отличные одноклассники. Дело в том, что там строилась ГЭС № 2 (Свирьстрой) и многие учителя, как и родители школьников, были из репрессированных. Например, по немецкому языку у нас была учительница, которая преподавала до этого в Военно-воздушной академии, и у нее учились Байдуков и Беляков. Были дети (мои одноклассники), которые вместе с родителями оказались у нас после Норильска, Колымы и других отдаленных мест. О школе тех лет у меня самые замечательные воспоминания, хотя время было трудное. Мой папа, Александр Петрович Фоминых, работал в Ленинграде заместителем директора завода им. Сталина. Был партийным с до – революционным стажем. Был старше моей мамы на 16 лет. Вот почему мы и остались с братом без отца в 10 и 13 лет. Потом сразу же грянула война, эвакуация, сгорел дом и т. д. Навалилось все сразу. Но вернусь в довоенные времена. Наш дом был № 32 по Старо-Парголовскому проспекту, квартира № 12. За стенкой жили Стан-кипы, но я их почему-то совсем не помню. Под нами, на первом этаже, жили три семьи. В маленькой комнате – семья Леопардовых: Шура, ее муж Сергей и двое детей – девочка Нина и ее братик. Мы вместе с ними сначала были эвакуированы с детским садом в Боровичи, где нас здорово бомбили, а затем уехали в Удмуртскую республику. Сам Сергей Леонардов вернулся с фронта с покалеченной ногой, ходил с палочкой. После войны они тоже, как и мы, в город не вернулись, а жили где-то в пригороде. Моя мама с ними встречалась. В другой комнате (не с верандой) жили муж и жена Кушелевы, бездетные, он был обкомовский работник. Я помню, что он всегда приезжал с работы и уезжал на мотоцикле. Мы после войны у них были. Конечно, они получили жилье без особых хлопот. В проходной большой комнате – она была перегорожена – жила семья: муж, жена, грудной ребенок и взрослый сын жены от первого мужа. Он был курсантом военного училища. Фамилию их я не помню. В квартире под Станкиными (№ 11) жили пожилые супруги с дочерью. У них были две собачки – шпицы, одну из них звали, как и меня – Нелька. Сад их был очень ухожен. В этой же квартире жила одинокая старая женщина, которая и спалила наш дом (в ночь на новый 1942 год, случайно, отапливая свою комнату, возможно, буржуйкой). Что помню о тебе. Помню, что у тебя был младший брат. Звали его Сева, и был он курчавый милый мальчик. Помню, что мама твоя была интеллигентная женщина с гладкими темными волосами. Помню, что с вами жила ваша бабушка, что вы были при бабушке, т. е. вовремя накормлены, ухожены, не одни в квартире. Моя же мама была «с уклоном» – вся в работе, а бабушка с нами не жила. Поэтому я всегда завидовала таким детям-«прибабушкам». Еще помню, что твой папа был артист и играл в фильме «Граница на замке» (это Нина Завитаева говорила). Нинина мама, Ольга Петровна, часто угощала меня пирогами и муссом, она сбивала его в большом тазу. Моя мама тоже пекла пироги, вкусные, но это бывало только по большим праздникам. Галя, пока все. Увидимся – поговорим о многом. Целую. Неля. Письма Наташи Брызжееой Сидней, 21.10.05. Здравствуй, Галя! Мне всегда нелегко дается переход от одной жизни в другую, чем и объясняю я свою невозможность сразу начинать писать письма. Попыталась привлечь к воспоминаниям подругу моей сестры. До войны мы жили в одном доме. Но она разволновалась и просила ее на эту тему не беспокоить. Ей уже за 80. Я у нее всегда бываю, когда приезжаю домой. А сестры моей уже 25 лет нет на этом свете. Дом, где мы жили, был двухэтажным. Изначально там было 6 квартир. Потом три из них разделили, и получилось 3 квартиры из четырех комнат – коммуналки и 6 отдельных двухкомнатных. До войны жильцы были в основном из интеллигенции, после войны – разные. Кто-то умер в блокаду, кто-то не вернулся и даже (насколько помню) ни разу не приехал поглядеть на «пепелище». Смутно помню, что, если стоять спиной к Старо-Парголовскому, справа от нашего дома был свинарник, а напротив (наискосок) через проспект – коровник. Одна из его работниц – тетя Паша Воробьева – потом стала почтальоном. После войны она тоже разносила письма. Вместо свинарника сделали квартиру № 10. Это был отдельный маленький домик, где жила семья Зусесов с двумя сыновьями. Мой отец получил в этом доме комнату от Лесотехнической академии, потом мы переехали в две комнаты на втором этаже девятиквартирного дома. Дом снесли в 1966 году. В бывшем коровнике сделали дровяной склад, оттуда в 1946 году моя сестра и соседка по ночам таскали дрова, нужно было как-то обогревать свое жилье. Левее склада, на той же стороне Старо-Парголовского, был дом Петрашень. Петрашень – видимо, фамилия прежних владельцев дома. Я помню Елизавету Георгиевну Петрашень, до войны она шила красивые платья нам с сестрой. Она жила уже как бы в черновой части дома, на задворках. А перед домом был сад, утопающий в сирени, с мраморным фонтаном. Кто жил в «барской» части – не знаю. Была там девочка Вера, моя ровесница. 22 июня 41 года мы были у нее в этом саду. Так и узнали о начале войны. Потом, когда по Старо-Парголовскому проспекту шли грузовики с солдатами в сторону Поклонной Горы, мы, уже как бы законно, ломали «ихнюю» сирень и кидали ее в машины солдатам. Рядом с нашим домом был дом 53, мама почему-то называла его «дом Дормидонтовых». Он был двухэтажным, красивым. Когда его снесли, не помню. Галя, пока на этом кончаю, писать ведь можно непрерывно, хотя все это дается и через боль: счастливое детство, война, блокада, голодные 46–48 годы и т. д. Жаль, что ты раньше, пока я была летом в России, не привлекла меня. Ну, не все еще потеряно. Пиши, что тебе еще интересно. Фотографию дома пока не смогла скопировать, сделаю. Всего тебе доброго. Наталья. Сидней, 20.12.05. Здравствуй, Галя! Вот дом, в котором я жила до 1966 года, – Старо-Парголовский пр. (пр. Тореза), дом 55. Это вид с Ананьевской (Светлановского пр.). Теперь на его месте остановка автобусов – троллейбуса. Сохранились два куста акации, которые росли перед нашим подъездом. Возле забора я (вторая справа) и мои друзья Жеребцовы: Рита, Шура, Витя.  Старо-Парголовский, 55. Середина 1930-х гг. Моя подруга по университету прислала мне вырезку из газеты с заметкой «Лесновские чтения», где упоминается твой доклад «Лесной моего детства». Мне это было интересно прочесть. Я тоже люблю наш Лесной. Но все воспоминания через боль, слишком много потерь было. До войны в нашем доме особо выдающихся людей не было. Пожалуй, самый «выдающийся» – Освальд Оттович Герниц, преподаватель (профессор? доцент?)Лесотехнической академии. В начале войны он вместе с академией уехал в Йошкар-Олу, где продолжал преподавать. Там и похоронен.  Дом № 55 стоял на этом месте. Памятью тех лет осталась только акация Мой отец, Брызжев Николай Александрович (1897–1944), тоже был лесотехником. Он окончил Лесную академию. До войны работал ученым секретарем ЦНИИЛХ, который размещался в доме Кайгородова. Потом – в тресте Лесной авиации в Нарьян-Маре. Погиб в 1944 году под Псковом. И еще, я думаю, стоит упомянуть мою маму, Анну Федоровну Брызжеву. Она была учительницей начальных классов в нашей, 103-й школе (в последние годы: 1947–1962—?). Я помню, что многие родители хотели, чтобы их первоклашки попали именно к моей маме, почему-то. Она была добрым человеком. И, видимо, неплохим учителем. А перед войной она несколько лет работала воспитателем в Детском доме на Болотной улице. Ну и с Новым годом, и всего доброго тебе. Наталья. Моя подруга Зоя Совсем недалеко от Наташиного дома, чуть дальше по Ананьевской улице (Ананьевская, д. 20, кв. 1), с самого рождения и до 1948 года жила в деревянном двухэтажном доме Зоя Баскакова. Здесь она пережила всю войну и блокаду. Дом давно снесли, а улица стала теперь частью Светлановского проспекта. С Зоей я познакомилась в юности и почти сразу же подружилась на всю оставшуюся жизнь. Тогда она уже переехала на 2-й Муринский проспект. Сейчас Зоя Михайловна Кощеева живет на проспекте Мориса Тореза – на нашем бывшем Старо-Парголовском, совсем недалеко от того места, где стоял ее первый дом. Всю жизнь в Лесном! Зоя вырастила двух прекрасных сыновей, есть внуки и даже правнучка. По выходным у нее всегда кто-нибудь из родных. Она отличная хозяйка и любит всех угощать. Любит цветы и умеет ухаживать за ними. Выращивает их дома на окнах и на балконе, в своем дворе и даже перед спорткомплексом Политехнического института, где работает ее сын.  Г. Кравченко (слева) и 3. Баскакова в парке Политехнического института. Фото начала 1950-х гг. Из архива Г.В. Кравченко До войны на Ананьевском, за домами, ближе к Сосновке, сажали картошку, но к осени сорок первого урожая никто не дождался: уже в августе участок огородили, вырубили часть леса и стали спешно строить военный аэродром. Вскоре улица оказалась фактически в прифронтовой полосе – отсюда прямо в бой на защиту ленинградского неба поднимались наши истребители, а враг постоянно бомбил аэродром. Зоя рассказывала, что в их доме квартировали летчики и что она видела среди них знаменитого Савушкина[31], помнит, как радостно встречали его друзья, слышала, как называли Сашей… Когда сомкнулось кольцо блокады, Зое еще не исполнилось тринадцати лет, а уже через полгода она осталась совсем одна. Мама и старший брат, вернувшийся с оборонных работ, умерли от голода. Отец пропал без вести на фронте. Нужно было как-то жить самой. В любое ненастье, в жестокий мороз Зоя заставляла себя идти в очередь за хлебом, за водой, в одиночку пилила двуручной пилой дрова, потом разжигала печь. Если зимой, чтобы получить воду, топили снег, то в марте, когда снег стал не таким чистым, начали ходить «на карьер» – к проруби на Бассейке. Крутой спуск к озеру весь обледенел, вырубленные ступени едва угадывались. Случалось, она оступалась и падала, расплескивая воду. И тут случалось самое страшное: казалось, так бы теперь и лежала, не было ни сил, ни желания подняться… Но каждый раз что-то заставляло преодолеть себя и не сдаться. Она вставала и снова шла набирать воду, и снова взбиралась наверх. Первая запись в ее трудовой книжке появилась 1 мая 1942 года (в войну работали без выходных и праздничных дней). Поступила в «НИИ-34» (впоследствии вошел в объединение «Позитрон»), где до последнего дня своей жизни служила мама, а до войны работали и отец, и брат. Взяли Зою (при личном ходатайстве перед Обкомом тогдашнего директора НИИ Н.Д. Горбунова) на должность курьера, затем – секретаря-машинистки. Но Зоя рвалась в цех, считая, что для фронта нужно делать что-то настоящее, что-то реально производить, а не сидеть за машинкой. И вот она уже в цеху за станком. Во время тревоги бросалась на крышу – гасить зажигательные бомбы. Детям до 16 лет это строго запрещалось приказом, но она говорила мне: «Кто там в суматохе видит – Зоя это или не Зоя, все мы до глаз замотаны платками…». В феврале 1944 года, сразу после полного освобождения города от блокады, среди первых в районе медаль «За оборону Ленинграда» получила пятнадцатилетняя Зоя. Торжественное вручение проводилось в Выборгском дворце культуры. Каждый награжденный выходил на сцену. А через два года Зоя была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны Зоя окончила вечернюю школу, потом курсы мастеров и стала мастером цеха радиокерамики. В 1962 году она ее назначили начальником отдела кадров, последняя ее должность – на «Позитроне» – начальник бюро производства объединения. Всего она проработала на этом предприятии 42 года. Зоя много рассказывала мне о жизни на Ананьевской улице до войны. О том, что на ней находилось общежитие студентов-лесотехников, о соседних домах и населявших их людях, о том, что в конце улицы, за высоким глухим забором, жили «американцы». Речь, вероятно, шла об иностранных специалистах, приехавших в СССР и работавших по договору в наших научно-исследовательских институтах. Существовало тогда еще одно или два таких поселения вблизи Политехнического института. Одно из них – на Воронцовом переулке[32]. От Зои я впервые услышала слово «колдобиха», такого оврага в этой стороне Лесного я раньше не знала. На ее глазах на месте карьера возникала и сама наша знаменитая Бассейка, теперь она именуется Ольгинским прудом. ЗАПИСКИ СТАРОЖИЛА Галина Николаевна Есиновская [33] Об авторе: Галина Николаевна Есиновская родилась в Ленинграде в 1925 году. В возрасте трех лет с родителями переехала в Лесной. Всю блокаду оставалась в Ленинграде. В первый год блокады, окончив среднюю школу, работала рабочей оранжереи. В 1942 г. поступила учиться в Педиатрический институт. С 1950 по 1986 г. – врач-рентгенолог, затем – преподаватель Военно-медицинской академии. Автор трех монографий по рентгенологии. В своих записках автор придерживается названия Лесное. * * *Лесное издавна было известно как наиболее возвышенная и поэтому наиболее здоровая часть Петербурга. В прошлом влиянию особенностей местности, «розе ветров» придавали особо важное значение, и больным со слабыми легкими, начинающейся чахоткой врачи советовали селиться в Лесном, хотя бы на летнее время. И действительно, возвышенное положение, песчаная почва, сосновый воздух, тишина и неторопливая жизнь предместья оказывали свое плодотворное влияние. Возможно, имело значение, что когда-то здесь был берег моря, в те давние времена, когда еще не была сформирована Нева и залив составлял единое целое с Ладожским озером, о чем говорят находки ракушек на Поклонной горе и в Озерках. Во всяком случае, по целебному действию местности Лесное приравнивали к Царскому Селу. Развитие культурной жизни в Лесном тесно связано с нахождением здесь двух крупнейших учебных институтов – Лесного (в дальнейшем переименованного в Лесотехническую академию) и Политехнического (ныне получившего название Технического университета). Вокруг этих двух центров группировалась интеллигенция, селились студенты и преподаватели. …Аура высокой интеллигентности, исходящая из сообщества людей, причастных к Политехническому институту, распространялась далеко за его пределы, легко перешагивала красивую решетку с массивными воротами, некогда отгораживавших институт от улицы. Влияние этой ауры особенно чувствовалось среди детей. Так, в начале 1930-х годов вблизи Политехнического института была выстроена школа[34]. Она стояла среди сосен, белое красивое здание с большим куполом астрономической обсерватории на крыше и двумя выдающимися вестибюлями для начальной и средней ступеней. Планировка школы была отличная – широкие коридоры с большими проемами на каждом этаже позволяли вдоволь набегаться за переменку, много специальных классов – по биологии, химии, физике, амфитеатр для рисования, живой уголок, актовый и физкультурный залы, огромная столовая и даже киоск, где можно было купить перышко, карандаш, тетрадку. В школе было много параллельных классов, около тысячи учащихся. Я пришла учиться в четвертый класс в середине 1930-х годов и сразу почувствовала лидерство мальчиков из Политехнического института. Они составляли ядро школы. Девочки разных классов тоже объединялись, но меньше. Многие были знакомы домами, ходили в кружки в Клуб ученых. В войну в школе был госпиталь, а сразу после войны… школу у детей отобрали. В ней работал Институт телевидения, до того уж засекреченный, что даже название у проходной не повесили. Он все разрастался и разрастался, строились все новые и новые корпуса, и здание школы оказалось как бы замурованным и невидимым снаружи. Воздвигли огромную ограду, окончательно вырубили все сосны, и от великого их множества осталось всего только три – напротив, за трамвайными путями, как в пушкинском Михайловском: две вместе и одна поодаль. Когда-то, по рассказам аборигенов, услышанным еще в детстве, почти вся территория Лесного была покрыта лесом. Он начинался от берега Невы. Задачей Кушелева-Безбородко (она сохранилась и поныне с оградой из множества львов, держащих в зубах цепи) при Екатерине Второй был увеселительный сад, переходящий в лес. До войны отдельные приметы старины еще сохранялись в наших местах. Так, еще был цел небольшой каменный обелиск, напоминающий по форме старые верстовые столбы, что стоят по дороге в Царское Село, установленный, согласно преданию, в память любимой собачки Екатерины, подаренной ей Кушелевым. Рядом с этим памятником, на повороте нынешней Политехнической улицы к проспекту Непокоренных, стояла старая часовня. Местоположение ее определялось находившимся далее Богословским кладбищем. До войны при похоронах гроб устанавливали на дрогах, запряженных лошадью в траурной попоне, и провожающие шли за гробом весь путь пешком. Более богатые похороны сопровождались музыкантами, они тоже шли пешком, иногда через весь город, и время от времени исполняли траурные мелодии. Когда похоронная процессия проходила мимо часовни и сворачивала на Большую Спасскую улицу, по сути дела, уже прямую дорогу на кладбище, музыканты исполняли похоронный марш, и щемящая душу музыка далеко разносилась по предместью.  Троицкая церковь. Фото 1950-х гг. По ходу процессии на Большой Спасской была деревянная церковь. До революции рядом с ней начали строить каменную, но закончить не успели, и стояла она в виде мрачной глыбы. Сейчас этих церквей нет. В начале 1970-х годов деревянную церковь разобрали и перенесли на Шуваловское кладбище, а каменную – уничтожили. На этом месте теперь от Большой Спасской улицы (ныне – пр. Непокоренных) отходит Гражданский проспект[35].  Троицкая церковь, 1964 г. Фото К.В. Овчинникова Раньше и на Богословском кладбище была церковь, и в ней отпевали покойных. Ее снесли задолго до войны. Следует упомянуть о своеобразном перемещении Богословского кладбища. В начале 1930-х годов оно как бы шагнуло на север. Южную часть закрыли, часть могил родственники перенесли в другой конец кладбища, а здесь разместили воинскую часть с артиллерийской лабораторией. Отсюда и название Лабораторной улицы у противоположной стороны кладбища. Помню, как волновались лесновские жители, – переносить покойных было тяжело морально и очень дорого. Позднее, в войну, братские могилы возникали и на Пискаревском, и на севере Богословского кладбища. Там же начались захоронения, и бывший пустырь тесно заполнился могилами до самой Железнодорожной больницы. Нынешнее мемориальное Пискаревское кладбище образовалось на месте маленького сельского кладбища несуществующей ныне деревни Пискаревка[36]. Сюда и начали свозить покойных при очистке города весной 1942 года. Хотя это место расположено несколько дальше от центра города, чем Богословское кладбище, возить сюда было удобнее – не надо было сворачивать, переезжать железнодорожные пути и ехать по самому кладбищу. Машины разгружали тут же, у самой дороги. Помню, как весной 1942 года машины, доверху нагруженные трупами, шли по Малой Спасской улице и сворачивали на Большую Спасскую. Раньше Площади Мужества не существовало. На этом месте был перекресток нескольких улиц: Малой Спасской (ныне – ул. Карбышева), Большой Спасской (ныне – пр. Непокоренных с несколько измененным направлением по сравнению с прежней улицей), Алексеевского проспекта (ныне части Политехнической улицы от Кушелевки до площади) и Старо-Парголовского проспекта (ныне – пр. М. Тореза). Здесь же, у перекрестка улиц, была остановка трамваев № 9 и 25. Трамвай № 18 стал ходить в Лесное позднее, в середине 1930-х годов, и маршрут его был несколько в стороне. На перекрестке, как его тогда звали, «пятачке», по сути дела, находился центр Лесного. Наряду с деревянными здесь было и несколько каменных домов в три и даже четыре этажа. На «пятачке» размещались булочная, два продуктовых магазина, товарный магазин под названием «Вузовец», книжный магазин, где продавались и канцелярские товары, почта, парикмахерская, фотография, пошивочное ателье, большая аптека и кинотеатр «Миниатюр». Кинотеатр действительно был маленьким. В нем было всего 20 рядов по 12 мест в каждом. К зрительному залу вел узкий коридор, расширявшийся и образовывавший подобие фойе, обставленного по краям стульями, посередине которого, на столе, возвышался Дон Кихот – чугунная отливка Каслинского завода, но почему-то посеребренная. На «пятачке» был еще один магазин, который назывался «Молокосоюзом». Тут продавали молочные продукты, много разных сортов колбасы и копченостей. Так вот, на этом перекрестке в первую блокадную зиму всем нам приходилось простаивать долгие часы не только днем, но и ночью в очередях, чтобы отоварить карточки. Никогда не было известно заранее, привезут ли что-нибудь в магазин и когда привезут, а очереди стояли и стояли. Когда начинались тревога и обстрелы, очереди разгоняли, но потом она собиралась снова. Было безумно холодно, в декабре и январе морозы доходили до 30–35 °C, мы стояли в валенках, закутанные в шали и одеяла. Часто оказывалось, что привезли, но не то: например, на крупяные талоны привезли горох, а его брать было невыгодно – приварок был очень маленьким. Лучше всего было достать пшено или овсянку. Часто уходили ни с чем и снова шли в очередь. Стоя в этих бесконечных очередях, еще осенью я заметила, что нет-нет, да провезут на тележке, а потом и на санках что-то большое, деревянное, как я думала, платяной шкаф. Но почему всем понадобились шкафы и к тому же такие грубые, неотесанные? Я не могла тогда сообразить, что это самодельные гробы и везут их на кладбище. Потом этих деревянных «шкафов» уже не стало, покойных завертывали в простыни, а в самую лютую зиму уже никого никуда не везли – не было сил. Но когда в марте засветило солнце, и стало теплее, принялись за очистку города. Извлекали огромное количество трупов из квартир, подворотен и даже трансформаторных будок, грузили на машины и везли на разные кладбища, но больше всего – на Пискаревку. Было жутко видеть такие горы трупов, причем некоторые умершие были полностью раздеты. Но к весне мы все уже привыкли к смерти.  Круглая баня. Фото 1931 г. Чтобы закончить рассказ о площади Мужества, надо упомянуть и о бане, построенной на «пятачке» в конце 1920-х годов[37], напротив существовавшей ранее керосиновой лавки. Кстати, о лавке. В ней кроме керосина продавали немудреную дешевую посуду, тазы, метелки, гвозди, разный хозяйственный инвентарь. Пары керосина в те годы считались целебными, и продавщица охотно рассказывала о том, как, придя на работу в эту лавку, она полностью вылечилась от туберкулеза. И действительно, сколько я ее помню, она всегда была крепкой и розовощекой. Наша баня, а она стоит и поныне, имеет совершенно необычную круглую форму, поэтому ее и называют «круглой баней». Круглая форма бани была связана с архитектурной модой тех лет. Полукругом выстроили и поликлинику на 2-м Муринском проспекте[38]. И сейчас она там стоит, но ее надстроили и расширили, подъезд и вестибюль резко ушли внутрь, и вид здания стал достаточно нелепым. Круглыми были и один из выступающих вестибюлей в моей школе, и вход в магазин на Скобелевском проспекте. Сейчас таких круглых сооружений почти не сохранилось, и здание бани взято под охрану как памятник архитектуры. В ней одновременно было открыто два мужских и два женских класса. Всю одежду, включая пальто и белье, закрывали на замки в узенькие шкафчики, которые находились позади большой общей скамейки, на ней раздевались и одевались посетители. В моечной было достаточно большое количество жестяных шаек с ручками, из расчета по две на каждого: в одной стоять, в другой – мыться. Но некоторые посетители захватывали по три шайки и мылись не в одной, а сразу в двух. Из-за этого иногда возникали ссоры. С нашей баней связан один своеобразный эпизод времен войны. Осенью 1941-го года бани закрылись из-за отсутствия воды, топлива и электричества. Люди почти не мылись в ту зиму – везде было холодно, доставать воду трудно, нагревать негде. Чуть ополаскивали лицо и руки – и только. В Лесном в этом отношении было легче: почти у всех имелись запасы дров в сараях, можно было натопить хотя бы одну комнату в квартире. Многие колодцы замерзли, но некоторые все-таки существовали, и до них было идти несравнимо ближе, чем живущим в центре города – до Невы. Но все равно сил не было, и люди мылись мало. И вдруг в апреле везде на заборах, и в том числе на наших воротах, появились маленькие обрывки бумажек – объявления о том, что с такого-то числа начинает работать баня, но будет подаваться только горячая вода, холодную нужно приносить с собой. Мы с мамой взяли в баню полное ведро воды. Действительно, из кранов лился только крутой кипяток. У многих не было холодной воды, и нам пришлось делиться. Но вернемся в довоенное время. Мне бы хотелось подробнее остановиться на улицах Лесного. Как и везде, были большие улицы и маленькие. Самой большой был Старо-Парголовский проспект, на котором мы жили. Широкий и очень красивый, он начинался от того самого «пятачка» и шел до Поклонной горы, длина его составляла четыре километра. В начальной части проспекта тротуары были обсажены высокими кустами акации, и летом прохожие шли в легкой тени под пологом из ветвей и листьев. Дома стояли в глубине участков, а с тротуаром граничили решетки или легкие ажурные заборчики. В некоторых местах были живые изгороди из кустарников с натянутой проволокой. Особенно красивая ограда была вокруг дома в самом начале проспекта. Этот дом сохранился и поныне, правда, сейчас он имеет далеко не тот вид, как раньше, но все же напоминает замок. Не сохранилась веранда на первом этаже, обращенная в сторону проспекта, с узкими высокими окнами и ведущими к ней с обеих сторон красивыми пандусами. Нет на крыше шпиля с флюгером, исчезли витражи в окнах при входе. Про этот замок ходило много легенд, говорили, что тут жил Шаляпин. Но в действительности все было гораздо более прозаично. Хозяином дома был некто Котлов, владелец нескольких деревянных доходных домов очень скучного вида, расположенных поблизости[39]. Себе же он заказал выстроить вот такое необычное здание. Жить в нем зимой было холодно, особенно холодной была винтовая лестница с узорчатыми перилами, ведущая на второй этаж. Все это рассказывала его внучка, доживавшая свой век в нашем доме. Позднее – и до войны, и после нее, до 1960-х годов, – здесь находилась районная библиотека Серафимовича, потом переехавшая в новое здание на нашей же улице. В блокаду библиотека работала. Каждый день приходила пожилая библиотекарша, топила печь в одной из комнат и очень доброжелательно доставала книги посетителям. Так что можно было там посидеть, отогреться и почитать.  Бывший дом Котлова в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Над входом – вывеска «Агитпункт». Из семейного архива Е. И. Агеевой Старо-Парголовский проспект пересекало много улиц, большинство из которых теперь не существует. Если идти в сторону Поклонной Горы, то налево последовательно отходили: Лесная, Болотная, Малая Объездная, Васильевская, Кузнечная, Осиповская, Рашетова. Направо шли Яшумов переулок, стыковавшийся с Большой Объездной, ныне переименованный в улицу Курчатова, Яковская, Ананьевская и Михайловская улицы. Отсюда до самой Поклонной Горы, до дачи Бадмаева, каменного красивого здания, стоявшего на самой высокой точке возвышенности и принадлежавшего врачу тибетской медицины, лечившему цесаревича Алексея, простирался сплошной лес – Сосновка. Помню, что в конце 1920-х годов лес начинался гораздо ближе, от нынешнего Телевизионного института, но потом его постепенно вырубали и местность застраивали. Улица, которая сейчас идет вдоль этого института, ныне носящая имя Шателена, раньше называлась Пустым переулком. На нем посредине, с южной стороны, был всего один дом, а вокруг – огороды и пустыри. Северная сторона представляла собой опушку леса – сухого, с высокими соснами, – где мы собирали шишки для самовара. Маленькие улицы, пересекавшие Старо-Парголовский проспект с правой стороны, напоминали просеки среди разреженного леса (кроме полностью застроенного Яшумова переулка). Дома были маленькими и далеко отстояли друг от друга. Сосновку охранял лесник, и в глубине леса, приблизительно напротив нынешней Дрезденской улицы, стояла маленькая избушка лесника, потом она сгорела. Из улиц, отходивших налево, особенно красивой была Лесная. Она делала колено и была густо застроена только в начале, дальше дома стояли редко. По правую сторону, начиная с места перекреста ее с Болотной улицей, довольно большое пространство занимал питомник Лесотехнической академии, где выращивали различные породы деревьев, а слева стояли дивные березы какой-то особой разновидности с длинными, тонкими ветвями, низко спускавшимися в земле. Лесная улица упиралась в Большую Объездную, справа виднелась Серебка с такими же березами по ее берегам. Внизу, у самой воды, был небольшой, но двухэтажный дом, и одно время кто-то в этом доме держал уток. Стайка птиц медленно проплывала по пруду. Улицы, отходившие налево от Старо-Парголовского проспекта, начиная с Васильевской, имели довольно крутой наклон вниз. Леса внизу не было. Васильевская улица доходила до завода «Светлана». Ныне на ее месте – часть Светлановского проспекта… Характер домов на всех этих улицах был очень разным. Встречались и скучные, дощатые дома без каких-либо украшений. В начале 1930-х годов в разных местах возникли так называемые «стандартные дома» – длинные, двухэтажные, абсолютно одинаковые, по-видимому, щитовые. Строились они очень быстро и, как говорили, были рассчитаны всего на 10 лет. Однако типичными для Лесного являлись небольшие двухэтажные деревянные домики с резными наличниками, балконами или верандами, часто – с цветными стеклами и выходами в сад. Несколько ступеней из садика, до половины стеклянная дверь, и посетитель оказывался на веранде. Оттуда еще одна стеклянная – и он уже в комнатах. Эту дверь закрывали на задвижку обычно только ночью. Встречались и открытые балконы на первом этаже. Тогда имелась всего одна дверь, ведущая в комнаты. Хозяин или хозяйка нередко все лето спали на таком балконе. Теперь это даже трудно себе представить. Воровства в наших краях не было, никто квартиры не грабил. Да и условий таких не было – все друг друга знали, и если бы кто-нибудь чужой начал что-либо выносить из квартиры, все бы соседи сбежались и поймали вора. Так вот, дома в Лесном были очень разными, а иногда – и необыкновенными. Два таких дома стояли на левой стороне Старо-Парголовского проспекта, дальше Васильевской улицы. Один из них мы называли «Домиком с коньком». Резное изображение головы лошади, а в давние времена – череп лошади нередко помещали на фронтоне избы или укрепляли на крыше. Такой обычай остался от язычества, когда считалось, что голова лошади охраняет от злых духов. Здесь же во всю длину довольно низкого одноэтажного дома со множеством деревянных украшений тянулась широкая массивная резная полоса. В передней части один из завитков увеличивался, изменял форму и приобретал некоторое сходство с головой лошади. Второй дом, «Китайская дача», напоминал пагоду. Своеобразные крыши с фестонами по краям заканчивались загнутыми кверху углами, типичными для китайской архитектуры… Второй большой магистралью в Лесном был 2-й Муринский проспект. Довольно большой улицей являлась Новосильцевская, ныне Новороссийская улица. Она граничит с парком Лесной академии и застроена только с одной стороны. Прежде здесь стояли очень красивые дачи, принадлежавшие знатным вельможам. Долго сохранялись ажурные решетки, массивные чугунные ворота. Интересны улицы, идущие в северном направлении. Они тоже первоначально пролегали среди леса, потом густо застроились. Недаром большие открытые веранды Костнотуберкулезного института (Ленинградский институт хирургического туберкулеза и костно-суставных заболеваний – ЛИХТ) на Политехнической улице были обращены прямо в лес, и детей в гипсовых кроватках выносили на целый день на веранды – дышать сосновым воздухом. Примечательной в этих краях была и ферма Бенуа. Она существовала долго, на ее базе образовался совхоз «Лесное», и еще в 50-х годах лесновские жители ходили туда за молоком, отличавшимся высоким качеством[40].  Совхоз «Лесное», фото конца 1930-х гг. Из фондов ЦГАКФФД Санкт-Петербурга В районе Политехнического института в 1920-х и 1930-х годах разместилось несколько крупных научно-исследовательских учреждений: сначала Физико-технический институт – в здании бывшей дворянской богадельни, позднее – Котло-турбинный институт, Институт постоянного тока и Физико-агрономический, он потом изменил свое название на Агро-физический и переехал в новое здание на Гражданском проспекте.  Вид с Политехнической улицы на Яшумов переулок (ныне – ул. Курчатова). Слева – Физтех, справа – кинотеатр «Унион» (здание не сохранилось). Из архива В. Т. Муравского Интересно, что до середины 1930-х годов понятия о секретности как бы не существовало. Помню, девочкой я совершенно свободно ходила по коридорам Физико-технического института, бывала в библиотеке. Все мы очень интересовались циклотроном, только что построенным поблизости. Таким образом, на «кольце» (а это место лесновские жители называли «кольцом», потому что у ворот Политехнического института трамвайные пути делали кольцо и дальше путей не было) образовался большой научный городок. В середине 1930-х годов здесь, в каменном доме, был магазин со всеми видами продовольственных товаров и кинотеатр «Унион»[41]. В это же время по Яшумову переулку от кольца проложили одноколейные пути для грузового трамвая. В те годы грузовые трамваи довольно часто можно было видеть на магистралях города. Головные вагоны, так же как и прицепные, представляли собой открытые платформы с бортами для размещения грузов, но имели кабину и крышу. Трамвайные пути вели к карьеру в глубине Сосновки, где добывали песок. Отрывали песок неравномерно, появлялись ямы, в которых били ключи, и в котловане накапливалась вода. Образовавшееся озеро представляло большую опасность даже для опытных пловцов. В предвоенные годы в этом озере, а его стали называть «Бассейка», тонуло много людей. В первые дни войны в нем утонул и мой одноклассник, шестнадцатилетний юноша, хороший спортсмен. После войны дно водоема выровняли, водовороты устранили, привели в порядок берега, и теперь по соседству с Сосновкой находится неплохой пляж для купания…  Трамвайное кольцо у Политехнического института – «транспортное сердце» всего района. Фото 1959 г. До войны в Лесном всегда было очень тихо. По улицам лишь время от времени проезжали телеги с грузом, и очень редко появлялся грузовик-трехтонка или пятитонка. Более крупных машин тогда не было. Так же как в деревне, реагировали на эти машины местные собаки: с громким лаем кидались они за каждой из них. Езды по улицам было настолько мало, что зимой я совершенно беспрепятственно каталась на финских санях по самой середине Старо-Парголовского проспекта и часто доезжала до Сосновки, не встретив ни лошади, ни машины. Наш дом стоял в самом центре Лесного, на Старо-Парголовском проспекте, рядом с сохранившимся до сих пор особняком-замком, о котором я уже упоминала. Трамвайные пути проходили тогда совсем близко, к тому же рядом был крутой поворот – все равно было тихо. Пройдет трамвай, по-лязгает и поскрипит на повороте, прозвонит вожатый неосторожному пешеходу – и опять тишина. Только слышны гудки паровозов на Кушелевке, где-то залает собака, да донесутся звуки траурной музыки, когда пройдет похоронная процессия. И уж очень громко пели соловьи в Лесном, просто заливались, и не только в парках, но и на улицах, даже в нашем дворе. Было много птиц – как летом, так и зимой. Но голубей почему-то не было.  Карьер на месте будущего Ольгинского пруда, 1937 г. Фото из семейного архива А. Федорова Несколько слов о наших дворах. Они, конечно, тоже были разными. Но чаще всего на одном дворе стояло два-три дома. В общем дворе выгораживали небольшие участки под огороды и сады для каждой семьи отдельно. Сажали много цветов, особенно в палисадниках, у первых этажей. Поражало обилие белой и лиловой сирени. В садах были плодовые деревья, жасмин, шиповник. Многие держали кур, коз, изредка встречались улья. В каждом дворе был свой колодец. В середине 1930-х годов на улице появились водопроводные колонки, однако жители предпочитали воду из колодцев, считая ее вкуснее и полезнее. Пред самой войной водопровод провели в дома. Во дворе обычно шла своя, особая жизнь. Люди встречались, разговаривали. Старики сидели на лавочках. Дети играли в лапту, прятки, крокет, прыгали по начертанным на земле квадратам. Часто случалось, что хозяйки вытаскивали во двор кастрюли и долго чистили их песком: специальных моющих средств тогда не было, а примусы и керосинки коптили нещадно. Во двор иногда приходили музыканты. К нам часто приходил скрипач. Он становился посередине двора и играл грустные мелодии. Ему выносили мелкие монеты и клали в шапку. Изредка заходил баянист. По дворам ходили точильщики, сборщики тряпья и костей. Пьяных мы почти не видели. Конечно, люди пили и, наверное, много, но дома и пьяными на улицу выходили редко. Большой популярностью у нас пользовался милиционер Глазов. Он появлялся и быстро улаживал все недоразумения. Курили много. Рядом с кинотеатром «Миниатюр» был специальный табачный киоск, открытый и зимой, и летом. До сих пор помню цены на папиросы. Самые дешевые, но уж очень плохие, – это «Ракета» – 35 коп. На пачке была изображена теннисная ракетка коричневого цвета. Более дорогими были «Вперед» – 65 коп. На пачке был нарисован паровоз. Еще дороже – 1 рубль – была «Красная звезда». В середине 1930-х годов появился «Беломор» с таким же изображением, как и теперь. Существовал еще и «Казбек», но курить его было почти недосягаемой роскошью. Улицы освещались фонарями, причем столбы устанавливали по одной стороне улицы. Свет от электрических лампочек отражали металлические диски – рефлекторы, направляя его на землю в виде конуса. Особенно красиво было зимними вечерами, когда на общем темном фоне в свете этих конусов кружились снежинки. На перекрестках улиц, на таких же деревянных столбах были укреплены специальные ящики с запирающимися дверцами. При неисправности в электрической сети монтер надевал на сапоги специальные крючки – «кошки», влезал по столбу наверх, отпирал ящик и устранял неисправность. Электрические провода, так же как и телефонные, шли по воздуху. Лесное имело свою телефонную подстанцию. Поэтому, когда снимали телефонную трубку, голос отвечал: «Лесная». Если нужно было соединиться не с местным, а с городским номером, следовало сказать: «Мне, пожалуйста, город». В трубке отвечали: «Город». Тогда надо было сказать: «Мне группу А», или «Мне группу Б», – в зависимости о того, в какой район города нужно было позвонить. Например, чтобы соединиться с Васильевским островом, надо было просить группу «Б». И наконец, когда отвечала соответствующая группа, абонент называл номер. Но, в общем, вся эта процедура проходила быстро и спокойно. Несколько слов о том, как выглядели лесновские жители, как они держались, как одевались. Конечно, все люди были очень разными, но в памяти осталось общее впечатление приветливости. Никто не толкался при посадке в транспорт, все шли строго по очереди. Автобусы подходили к самому поребрику, чтобы было удобнее войти и выйти. Всегда уступали место тем, кто вошел с передней площадки, а входили там только те, кому действительно тяжело было ехать стоя. Так было не только в Лесном, так было до войны по всему городу. Какое-то время так продолжалось и после войны, до начала 1960-х годов, когда все это внезапно нарушилось и общество стало жить по каким-то другим законам. В большинстве своем в Лесном жили люди с небольшим достатком, одевались скромно, но аккуратно. Я помню, в школе у нас даже в мыслях не было щеголять друг перед другом модной одеждой. Многие девочки поверх простенького платья носили сатиновый черный или синий халат, причем иногда даже с заплатанными локтями. Обычно были один-два выходных наряда, туфли на каблуке – и только. На обувь в прежние времена надевали галоши, резиновые или суконные низкие боты. Они почти не грели, и поэтому многие даже в холода ходили в одних туфлях. Старшие девочки и взрослые носили высокие фетровые боты на кожаной подошве. Они были очень скользкими, и женщины в них скользили и часто падали. Только после войны появились «румынки» – короткие теплые сапожки на меху или байке. Высокие сапоги на меху стали носить значительно позднее – в конце 1950-х годов. В морозы большинство жителей Лесного надевали валенки. Мне довелось жить в Лесном всю жизнь, я помню его с конца 1920-х годов. За это время Лесное сильно менялось. В годы НЭПа появились продавцы с лотками и очень привлекательными для детей товарами. Например, один из них продавал небольших парафиновых лебедей, причем предлагались на выбор: белые с красными носами и зеленые с черными носами. Поблизости от нашего дома часто появлялся старик с большой корзиной сластей. Но, наверное, он продавал их слишком дорого. Каждый раз мама мне говорила, что мы покупать не будем, потому что «конфетки у него без бумажек, и поэтому грязные». Большим событием для местных жителей было открытие частной булочной-пекарни. Она располагалась в небольшом одноэтажном доме на нашей стороне Старо-Парголовского проспекта, на углу, стоило только перейти Малую Объездную улицу. Как только покупатель входил в магазин, ему помимо выставленных там товаров сразу же выносили из пекарни горячие булки, сдобные булочки и баранки. Мама возила меня в эту булочную на детских саночках, чаще всего вечером. Мягко светили фонари на сугробы снега, все было очень таинственно. Задолго до приближения к цели нашего путешествия в воздухе начинало пахнуть печеным хлебом. Кстати, о запахах. Воздух в Лесном был очень чистый, и улавливались малейшие запахи. Иногда, обычно к вечеру, появлялся запах хлеба, значит, ветер начал дуть от хлебозавода, то есть с юго-востока, и по этому запаху можно было предположить, что дождя завтра не будет, погода изменится к лучшему. Если же ощущался приторный запах леденцов или карамели, ну уж тут наверняка погода установится хорошая – это дул южный ветер и приносил запах от конфетной фабрики Ландрина (ныне – фабрика Микояна). Лесное резко изменилось во время войны. Более половины домов были разобраны на дрова, остались пустыри, поросшие травой, фундаменты. Сломали ограды, стало меньше садов. Наш дом летом 1942 года тоже предназначался на слом, и только находчивость моего отца спасла его от разрушения. Отец написал заявление в райсовет о том, что наш дом является историческим памятником и поэтому подлежит охране. Обоснованием такого заявления послужило следующее обстоятельство. За нашим домом, параллельно Старо-Парголовскому проспекту, проходила улица, носившая название «Новая». Незадолго до войны ее переименовали в улицу Пропаганды. Никто не знал, откуда взялось это название и почему именно тогда переименовали улицу. Так вот, в заявлении отец написал, что эта улица была переименована потому, что в подвале нашего дома в дореволюционные годы находилась подпольная типография, организованная Молотовым, учившимся тогда в Политехническом институте. В этой типографии печатались прокламации. Выход из подвала обращен на Новую улицу, вот почему ее и назвали улицей Пропаганды. В заявлении указывалось, что остатки печатни долго сохранялись в подвале и жильцы дома их видели. Все, конечно, подписались под таким заявлением, никому не хотелось переезжать в город, где было жить труднее и опаснее. Опишу еще несколько эпизодов из блокадной жизни, так или иначе связанных с Лесным. О том, как доставали воду. Колодцы действительно были в каждом дворе, но их давно не чистили, потому что на улицах установили водопроводные колонки. Кроме того, зима была очень холодная и большая часть колодцев вымерзла. Вода, и то в очень небольшом количестве, накапливалась лишь в некоторых из них. Один из таких колодцев был сравнительно недалеко от нас. Но воды там хватало всего на несколько утренних часов, поэтому за водой надо было ходить рано, часов в семь утра, но уже и тогда к колодцу стояла очередь. Люди были очень слабыми, и когда доставали воду, она расплескивалась из ведра и тут же замерзала. В результате этого вокруг отверстия в колодце образовывался большой ледяной холм, а само отверстие так суживалось, что не пропускало ведра. Чтобы достать воду, надо было вскарабкаться на холм, лечь на живот и воду доставать маленькой консервной банкой, привязанной к веревке. Банка эта тоже с трудом проходила в отверстие, вода постоянно расплескивалась, и ведро наполнялось очень медленно. А очередь в потемках понуро и молчаливо ждала… После доставки воды я отправлялась в школу. Проходить надо было снова мимо колодца, но очереди уже не было, потому что вода кончалась. В самые холодные месяцы первой военной зимы мы учились в школе, расположенной в бывшем Коммерческом училище, около Серебки. Отапливалась всего одна комната, в ней занимались одновременно четыре разных класса – 10, 9, 8 и 7. Каждый класс имел свой угол. Мы, как старшие, занимали угол с печкой, и нам в постоянное пользование отводилось полдоски. Посередине комнаты стоял стол, за ним сидела заведующая учебной частью. Ей хорошо было видно все, что делается в ее «школе». В нашем классе собирались человека три-четыре, максимум – пять-шесть. Долго вместе с учительницей (а учителями были только женщины) грелись у печки, делились новостями. Случалось, что кто-либо из нас не приходил в школу несколько дней, а потом оказывалось, что – умер. А ведь только что был на ходу, что-то обменивал из вещей на продукты, ходил по деревням на лыжах. Некоторые, наоборот, долго лежали дома, немного поправлялись и снова приходили в школу. В других классах ребят набиралось еще меньше – один-два, иногда три человека. Они по очереди использовали оставшуюся от нас половину доски. Занятия проходили обычно только до большой перемены, когда в школу привозили так называемый «суп». По сути, это были кожурки от гороха в мутной, но теплой водичке. Это случалось не каждый день, но на всякий случай у меня всегда была с собой пол-литровая банка. В нее вливали поварешку супа, я прятала банку за пазуху и шла на работу к отцу. Он выпивал суп, и мы отправлялись домой – один ходить он почти не мог из-за слабости. К весне и я стала ходить с трудом, досчитывала до 50 или 100 и после этого останавливалась. Но тут начало светить солнышко, стало теплее и как будто полегче. Я поступила работать к отцу в оранжерею, где выращивали для госпиталя лук, и стала получать рабочую карточку. Весной в наш класс пришли несколько пареньков. Они всю зиму лежали дома, а потом немного отошли. Мы все вместе ходили собирать траву – крапиву, лебеду, корни одуванчика – для супа. В конце мая были настоящие экзамены, но уже в другом помещении школы – на проспекте Раевского. Как ни странно, но экзамены были очень серьезными, особенно по математике. Всего окончили десятый класс 15 человек. Каким-то чудом в нашей семье все остались живы. Умер только кот, и умер, как настоящий блокадник. Вообще, животных в Ленинграде не оставалось – всех съели. Не стало также мышей, крыс, птиц. За кота нам давали два отреза бостона на костюм, а тогда этот материал был самым дорогим. Мы делились едой с котом как могли. Он сильно похудел, но был достаточно бодрым. И вдруг оказалось, что в оранжерее появились мыши. Мы очень обрадовались – хоть кто-то из нас будет сытым, и отнесли кота ловить мышей. Но с ним случилось то же, что с отъезжающими по Дороге жизни. Эвакуированным на берегу Ладоги выдавали сухой паек на несколько дней. Истощенные, изголодавшиеся люди не могли удержаться, съедали весь хлеб сразу и – умирали. Всегда, когда я бывала на рынке, ассортимент товаров был примерно одинаковый, бедный и сомнительный. Очень редко продавались несколько картофелин, капустные листья. Более съедобные продукты шли в обмен на табак и водку, их иногда выдавали нам по карточкам. Наиболее дорого стоили плитки столярного клея. Из них варили кисель, но есть его было опасно. Были случаи мучительной смерти из-за непроходимости кишечника. Говоря о том, чем питались блокадники, нельзя не упомянуть об одной истории, также непосредственно связанной с Лесным. Летом 1942 года, когда уже не было такого лютого голода, я обратила внимание на какое-то необычное движение по Большой Спасской улице. Пассажиры выходили на остановке из трамвая и шли по направлению к кладбищу, а навстречу им двигались нагруженные мешками, очень довольные люди. Они останавливались, что-то объясняли, показывали пальцами, куда надо идти. Нагруженные люди постоянно жевали, и лица у них были невероятно грязными. В вагоне трамвая они доставали из мешков какие-то темные глыбы, угощали кондукторшу и пассажиров. Говорили, что на овощебазе около кладбища, под землей, обнаружили… творог. И такой там большой слой творога, всем хватит. Он жирный, но почему-то очень темный. Наверное, потому что долго лежал. Давали советы, как лучше печь из этого «творога» лепешки. Некоторые пассажиры приезжали за «творогом» несколько раз. Паломничество на овощебазу кончилось только тогда, когда полностью был выбран из-под земли весь слой так называемого «творога». Людям не приходило в голову, что не может просто так, под землей, лежать творог. В действительности это был слой торфа. В начале 1950-х годов в Лесном началось строительство типовых каменных домов. Сначала строили пятиэтажные «сталинские» дома с высокими потолками и большими квартирами, но большей частью коммунальными. В конце 1950-х годов перешли к постройке «хрущевок»: сначала кирпичных, а потом – панельных. Потолки в этих домах стали низкими, а квартиры – маленькими, но зато отдельными для каждой семьи. К концу 1960-х годов стали появляться и другие типы зданий. Почти все деревянные дома снесли. Большинство жителей хотели как можно скорее переехать в каменные дома, потому что старые деревянные приходили в ветхость, их не ремонтировали, жить в них было неудобно и холодно. Были даже случаи, когда поджигали сараи вблизи дома в расчете, что сгорит и сам дом, а жильцы тут же получат ордера на новые квартиры. Другие же с большой печалью покидали насиженные места, клочки земли с огородами: переселяли в основном не в рядом строящиеся дома, а в другие, еще не благоустроенные районы новостроек. Сейчас район Лесного весь застроен. Он выглядит красивее, чем другие, нет монотонности в архитектуре и расстановке зданий, гораздо больше зелени. Но огромное количество транспорта, большие тяжелые грузовики, отравляющие воздух выхлопными газами, непрерывный шум – все это резко ухудшает состояние района. Гибнет Сосновка, превращенная теперь в парк, умирают деревья в парке Политехнического института. Особенно болеют и гибнут сосны. Лиственные деревья пока держатся. Нравы жителей резко изменились: ломают кусты, вытаптывают газоны, разламывают скамейки во дворах и скверах, везде валяется мусор. Люди – злые, недоброжелательные. Настоящих ленинградцев, а тем более – старых петербуржцев, почти не осталось. Исчезли не только дома и улицы – исчез дух Лесного… ДОМ ТАХТАРЕВА И ЕГО ОБИТАТЕЛИ Дмитрий Васильевич Семенов Об авторе: Родился в 1929 году. В 1955 году окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. Занимался программированием, обслуживанием, наладкой, ремонтом и модернизацией первых в Советском Союзе крупных вычислительных машин; преподавал высшую математику. Дмитрий Васильевич – настоящая энциклопедия старого Лесного. До мельчайших подробностей помнит он свои детские и юношеские годы, проведенные здесь. Его память уникальна: сегодня, спустя почти семьдесят лет, он с точностью чертит схемы построек не только в собственном дворе на Институтском проспекте, возле Серебряного пруда, но и соседних кварталов. В Лесном Дмитрий Васильевич Семенов – с самого рождения. Его родной дом, в котором он прожил сорок лет, сохранился до сих пор: старожилам Лесного он хорошо известен под именем «дом Тахтарева». Современный его адрес – Институтский пр., 18. Историю этого участка Дмитрий Васильевич изучил досконально. Родной дом на Институтском Участок земли длиной 120 метров, на котором стояли четыре дома под номером 18 по Институтскому проспекту, принадлежал первоначально Федору Ивановичу Малютину (1853–1918). Он происходил из крестьян Архангельской губернии, окончил в Петербурге Лесной институт, работал столоначальником (начальником отдела) Лесного ведомства. 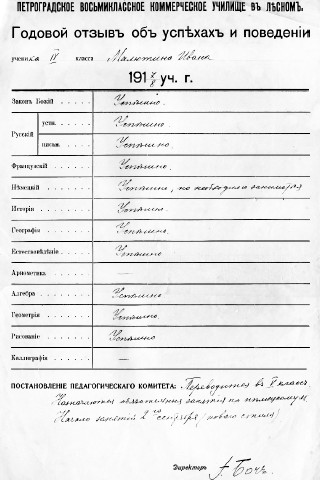 «Годовой отзыв об успехах и поведении» ученика 4-го класса Коммерческого училища в Лесном И. Малютина за 1917–1918 гг. Из архива В.И. Семенченко Первая жена Федора Ивановича была на несколько лет старше его. Умерла она рано, детей у них не было. В 1893 году супругой Федора Малютина стала Анна Алексеевна Перегудова (1871–1942), ставшая Малютиной. В их семье появились две дочери и три сына. В 1895 году родилась дочь Анна, в 1897 году – Ольга, в 1899 году – сын Николай, в 1901 году – Михаил, в 1903 году – Иван. Судьба разбросала их всех далеко друг от друга.  Ф.И. и А.А. Малютины. Фото 1893 г. Из архива В.И. Семенченко Обе дочери окончили Институт благородных девиц на Фонтанке, вышли замуж за поляков братьев Гердзеевских, выпускников Политехнического института, ив 1918 году уехали с ними в Польшу. Судьба двух сыновей сложилась трагически: Михаила расстреляли белые под Мурманском в 1919 году, Николай погиб в 1938 году в Белграде. Иван окончил Коммерческое училище в Лесном, начинал учиться в мореходном училище, но затем пошел на курсы конструкторов Русско-технического общества им. Калинина и окончил их в 1930 году. Впоследствии, с 1930 по 1963 год, он работал на заводе им. Энгельса (объединенного потом со «Светланой») – сначала конструктором, потом ведущим конструктором группы.  Семья Малютиных: Федор Иванович, Анна Алексеевна, дети Александра, Ольга и Николай. Институтский пр., 20. Фото 1900–1901 гг. Из архива В.И. Семенченко В 1900 году на северном берегу Круглого пруда была построена часовня Петра и Павла. Федор Иванович Малютин принимал активное участие в организации строительства церкви Петра и Павла на средства прихожан напротив часовни на другом берегу пруда. Построили церковь в 1901 году[42].  Ф.И. Малютин (верхний ряд, третий слева) и А.А. Малютина (нижний ряд, крайняя справа) с семействами Ососковых (верхний ряд, первый и вторая справа), Яшновых (верхний ряд, второй слева и нижний ряд, вторая справа), Михайловской (нижний ряд, вторая слева) и Перковской (нижний ряд, первая слева) Дача Ососкова, работавшего в Министерстве уделов, находилась на углу Большой Объездной и Лесной улиц. Дом Яшнова, служившего в Главном управлении Саратовским лесным округом, стоял на Английском пр., 39. Дача Михайловских находилась в Широком пер., 5. На обороте фотографии подпись: «Фед. Ив. и Ан. Алекс. Малютиным на память о 26 апр. 1907 года от Ососкова». Из архива В.И. Семенченко Для Малютиных этот храм имел особое значение: с ним были связаны многие важные события семейной истории… Как уже говорилось, на участке Малютина стояло четыре дома. Слева на участке располагался большой двухэтажный бревенчатый дом с хорошей отделкой. Он был обшит вагонкой, а под ней был утеплен войлоком и рубероидом. Со стороны улицы находилась большая двухэтажная веранда по ширине дома с узорчатыми рамами и цветными стеклами. Пространство парадной лестницы также закрывалось узорчатыми рамами с цветными стеклами. Фундамент был сложен из известковых плит ниже уровня земли, а выше – кирпичный. Позади этого дома стоял маленький двухэтажный бревенчатый дом. По-видимому, он предназначался для прислуги и дворника. На другом краю участка, на углу Лесной улицы, находился небольшой двухэтажный бревенчатый дом с верандой, почти квадратный. Слева от него стоял довольно длинный одноэтажный бревенчатый дом с верандой в сторону улицы. Все три дома, как и большой двухэтажный, были обшиты вагонкой. В сентябре 1903 года Федор Иванович Малютин продал левую половину своего участка вместе с постройками, стоявшими на нем, генерал-лейтенанту Михаилу Константиновичу Тахтареву – профессору Михайловской артиллерийской академии, члену артиллерийского комитета при Военном министерстве. Уходя в отставку, он решил поселиться в пригороде и сразу переехал жить в Лесной. Номер дома 18 по Институтскому проспекту еще долго относился к обеим половинам участка Малютина, в том числе и той, что продали Тахтареву. Только в начале 1910-х годов оставшийся у Малютина участок стал носить № 20. В начале 1907 года на пустом месте, справа от деревянного дома, Тахтарев начал строительство кирпичного двухэтажного дома, сохранившегося до наших дней (современный адрес – Институтский пр., 18). Котлован под дом не копали, сделали только траншею под фундамент глубиной 120 см. Сверху был слой торфа 40 см, а дальше шел песок. Таким образом, в подвале под домом слой торфа сохранился без какого-либо вмешательства человека.  В форме студента (второй слева) – Гердзеевский, муж одной из сестер И.Ф. Малютина. Из архива В.И. Семенченко Толщина стен здания составляла 80 см, фундамент сложили из известковых плит. Перекрытием между подвалом и первым этажом служили металлические балки, между которыми залили бетон. Перекрытием между первым и вторым этажами также служили металлические балки, между ними были вложены деревянные бруски. Перекрытие между вторым этажом и чердаком – деревянные балки и доски. Во время строительства пруд в глубине участка засыпали строительным мусором и грунтом из-под фундамента.  Слева – И.Ф. Малютин. Завод им. Энгельса, 1948 г. Первоначально в доме предполагалось турбулентное отопление. Для этого все дымоходы начинались из подвала. Воду в дом провели из специально устроенного артезианского колодца. Она подавалась по трубе на чердак, где находился бак. Из него она обычным образом шла в кухни, в ванную и туалеты. В кухнях стояли чугунные эмалированные раковины, в туалетах – чугунные эмалированные унитазы фирмы «Эврика», а в ванных – медные луженые ванны, боковые стенки у которых были вертикальные, а дно – плоское.  Дом № 18 на Институтском проспекте, октябрь 2010 г. Фото С. Глезерова Дом строился в виде прямоугольника с выступом в сторону улицы: парадная лестница и веранда. Жена Тахтарева пожелала иметь летнюю комнату и балкон. С этой целью была сделана пристройка с комнатой в три окна и стеклянной дверью на балкон на втором этаже. Балкон был открытым, на железных балках. Кроме этого, в той пристройке располагался коридорчик с выходом на черную лестницу на втором этаже. Черная лестница, сложенная из известковых плит, вела на чердак. Парадная лестница была деревянной. Снаружи первый этаж облицевали мелким камешком, и он был шероховатым, второй этаж просто оштукатурили. Позади дома построили летнюю кухню с кирпичной стеной и дымоходом внутри. Потом она использовалась как сарай для дров. В конце двора около пруда сделали бетонную помойку с железной крышкой. Когда началась Первая мировая война, обустройство дома пришлось сократить. Не удалось достроить турбулентное отопление. В пристроенной части дома поставили железные дверные ручки, тогда как в основном доме ручки были латунные. * * *В Лесной Тахтарев переехал со всей семьей. Сыновей он разместил на первом этаже. Для этого широкий коридор разгородили на два узких, кухню поделили на две маленькие. Таким образом, первый этаж оказался разделенным на две квартиры. Младший сын Михаила Константиновича Тахтарева, Валерий, учился в Лесном институте. Старший, сорокалетний Константин (1871–1925), являлся известным либеральным социологом и историком. В 1910-х годах он работал ученым секретарем и читал курс социологии на Высших женских курсах им. П.Ф. Лесгафта. Он пережил революцию и в начале 1920-х годов преподавал в университете, где разработал программу курса социологии, признанной научным обществом марксистов образцовой. В начале 1920-х годов у Константина Михайловича Тахтарева родилась дочь Нина. После смерти мужа его вдова Мария Семеновна вместе с дочерью так и жили на втором этаже кирпичного дома, а с началом войны в 1941 году ушли на фронт. После войны они с большим трудом отсудили себе одну комнату на втором этаже и жили там до расселения дома в конце 1960-х годов… Одновременно со строительством каменного дома Тахтарева, в 1908 году в глубине участка возвели две деревянные двухэтажные постройки для сдачи внаем (одну из них уже в 1918 году разобрали на дрова). В одной из них – той, что стояла справа, – поселилась семья Кобаков. Карл-Эрнст Магнус Кобак вместе со своей женой Марией Георгиевной в конце 1890-х годов приехал в Петербург из Эстонии, из-под города Выру. Тогда им было по двадцать с небольшим лет. Они поселились в Лесном, в старом доме слева на участке № 18 на Институтском проспекте. Здесь у них родился сын Оскар (1900–1942). Когда же в 1908 году в глубине двора построили два двухэтажных дома, семья Кобаков переселилась в правый дом и заняла весь первый этаж. В комнате рядом с парадным входом помещалась мастерская. Под лестницей находилась кладовка с материалами и химикатами, которые использовались в сапожном деле, ведь Эрнст Кобак был мастером по женской модельной обуви. Мария Егоровна (Георгиевна), как ее звали, занималась огородом, справа от дома сажала картошку, а в конце сада, в сторону улицы, выращивала овощи. Позади дома, в сарае, были куры и утки, откармливался поросенок. Утиные яйца Мария Егоровна клала под курицу, и когда вылуплялись утята, они бежали в пруд, а клуха бегала по берегу и квохтала. Вообще, вся квартира семейства Кобаков состояла из шести комнат с прихожей и кухней. Какое-то время Кобаки занимали ее и после революции, но затем в результате «уплотнения» им остались только три комнаты. Оскар Карлович до революции окончил Коммерческое училище в Лесном. В 1923–1928 годах он учился в Лесном институте, но не окончил его. Затем увлекся фотографией и стал профессиональным фотографом. Он специализировался на больших репродукциях, фотомонтажах, юбилейных фотоальбомах, фотовыставках, фоторекламе. В 1926 году Оскар Карлович женился на Юлии Николаевне Туссиной (1904–1957), происходившей из Старой Руссы. Она получила только общее среднее образование. Училась некоторое время в балетной школе, а позже работала во ВХУТЕМАСе (Всероссийских художественно-театральных мастерских). В 22 года она вышла замуж и посвятила всю свою жизнь семье и детям. В 1927 году у четы Кобаков родился сын Валерий (1927–2001). В свою очередь, его сын – известный сегодня общественный деятель, историк Петербурга Александр Валерьевич Кобак… Семейная предыстория Когда не стало Михаила Константиновича Тахтарева, хозяева дома решили сдавать внаем первый этаж кирпичного дома. Здесь помещалось две квартиры: одна с выходом во двор, другая – на парадную лестницу. Квартиру с выходом во двор отдали семейству Захаровых, а ту, что выходила на парадную лестницу, – Платоновым. Здесь никак не обойтись без небольшого отступления, посвященного происхождению семейству Захаровых. Мой прадед по матери Иван Антонович Захаров с женой Ольгой Флегон-тьевной жил в Саратове. По службе он состоял в должности коллежского секретаря. Кроме этого, занимался столярным делом, делал тумбочки, полочки. Я в детстве пользовался столиком с выдвижными ящичком, сделанным моим прадедом. И до сих пор у меня есть дубовая шкатулка с ребрами из эбонита работы Ивана Антоновича. Сына своего Павла Иван Антонович послал учиться в Казань. Там он поступил в университет на физико-математический факультет. Но затем Павел Антонович перешел в Петербургский Императорский университет и проучился там три года. Летом 1887 года его исключили за участие в тайном собрании, где решался вопрос о покушении на Александра III, и арестовали. Год он сидел в «Крестах», где заболел туберкулезом. После этого долго находился под надзором полиции, и ему какое-то время было запрещено жить в Петербурге. 18 августа 1899 года Павел Иванович Захаров (1864–1922) вступил в брак с Надеждой Николаевной, урожденной Песковой (1867–1946). Ее отец, Николай Александрович Песков, был генералом-железнодорожником. Под его руководством строился «Великий сибирский путь» – железная дорога до Владивостока. Умер он 6 декабря 1900 года и был похоронен на «Литераторских мостках» Волкова кладбища. Один из братьев Надежды Николаевны Владимир Песков – известный в Петербурге деятель спортивного движения, организатор и руководитель общества «Богатырь». Что же касается самой Надежды Николаевны, то она окончила Высшие женские «Бестужевские» курсы, после этого учила детей младших классов, а затем перешла на дошкольное воспитание.   Школа Н.Н. Захаровой на Песочной улице. Фото 1915 г. Из архива Д.В. Семенова Благодаря своему тестю Павел Иванович Захаров получил хорошее место работы: тот устроил зятя на железную дорогу в Ригу – на должность счетовода материальной службы. Затем Павел Иванович служил конторщиком главной бухгалтерии. Дошел до должности старшего счетовода управления Рязано-Уральской железной дороги, но 3 июля 1896 года уволился и жил после этого в Петербурге. К тому времени в семье уже было трое детей – Наташа (1892)[43], Лида (1894) и Вадим (1896). В 1901 году родилась дочь Вера.  Семейство Захаровых, слева направо: Наталья Павловна, ее брат Вадим Павлович (впоследствии – крупнейший ученый-гидроэнергетик, академик АН Казахской ССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР, доктор технических наук, профессор), мать Надежда Николаевна, Вера Павловна. Фото конца 1920-х гг. Из архива Д.В. Семенова Будучи служащим на железной дороге, Павел Иванович все время вел общественную работу. Организовывал библиотеки для рабочих и служащих железной дороги и работал в них. Одна из первых организованных им библиотек находилась на Варшавском вокзале. Кроме того, он работал в воскресных школах на Шлиссельбургском тракте и Путиловском заводе[44]. Надежда Николаевна также занималась общественной деятельностью. По ее собственным рассказам, в 1898 году она вместе с Н.К. Крупской разносила листовки за Невской заставой… В 1901 году Надежда Николаевна с детьми вернулась в Петербург из Харькова, куда Павла Ивановича направили на работу, и открыла в Лесном, на углу Малой Объездной и Новой улиц, частную начальную школу. В 1910 году школа сгорела, и Надежде Николаевне пришлось искать другое место. Она сняла помещение под школу на Песочной улице в Лесном и вместе с детьми поселилась там. Здесь ее школа действовала с 1910 по 1916 год. В дом Тахтарева Надежда Николаевна переехала в 1916 году с Песочной улицы. В большой комнате Надежда Николаевна устроила класс, расставила парты и проводила занятия с учениками. После революции частные школы стали не нужны, и она занималась дошкольным воспитанием – набирала несколько детей и вела с ними занятия на дому. Вместе с Надеждой Николаевной жили ее дочери – Наталья (1892–1971) и Вера (1900–1989).  Н.П. Захарова, фото начала XX в. Из архива Д.В. Семенова «Окончила гимназию в Петербурге в 1910 году, – писала впоследствии Наталья Павловна в своей автобиографии. – Потом училась в музыкальной школе и на курсах физической культуры при „Обществе телесного воспитания „Богатырь““. Окончила курсы физической культуры и работала при курсах инструктором. С 1913 по 1917 год была на Высших женских курсах („Бестужевских“), но не окончила их. С 1921 по 1925 год училась в Институте ритма, окончила его в 1925 году (в то время Институт ритма был присоединен в Институту сценических искусств, отделение ритма было педагогическим отделением). С 4-го класса гимназии я все время имела частные уроки – репетировала и подготавливала учеников своей школы. По окончании гимназии с 1910 года по 1913 год работала в Приготовительной школе Морозовой, потом в рабочих школах при заводе Лесснера, фабрике „Невка“, заводе „Промет“ (1917–1920 гг.), Первой школе рабочей молодежи, рабфаке при Политехническом институте (1921–1922 гг.)». 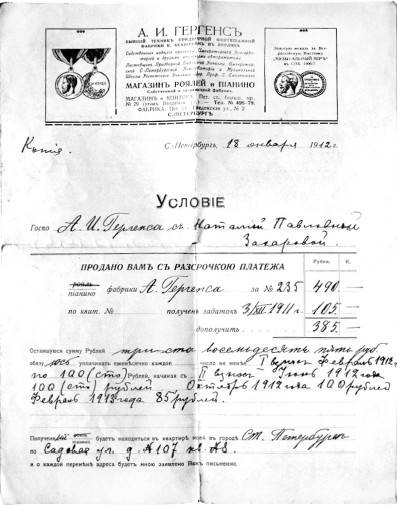 Условие о покупке Н.П. Захаровой пианино с рассрочкой платежа. 1912 г. Из архива Д.В. Семенова С 1919 года Наталья Павловна работала учителем «родного языка» в младших классах в 168-й единой трудовой школе на Институтском проспекте – бывшем Коммерческом училище в Лесном (впоследствии школа № 2, затем № 103). В дальнейшем работала здесь же учительницей музыки, рисования и физкультуры. «С 1930 года по 1935 год вела нулевые классы (дошкольные), полностью все предметы, в других классах была музыкальным работником», – указывала Наталья Павловна в своей автобиографии. В 1928 году Наталья Павловна вышла замуж за Василия Ивановича Семенова (1886–1962) – учителя той же 168-й школы. В 1929 году у них родился сын Дмитрий – автор этих воспоминаний…  «Нулевой класс» («нулевка») школы № 168. В центре – учительница Н.П. Семенова. «Нулевка» занимала отдельный деревянный дом на углу Лесной и Болотной улиц. Фото 1935 г. Из архива Д.В. Семенова «О своем деде я знаю лишь то, что он был крепостным крестьянином графа Шереметьева в Костромской губернии, – сообщал Василий Семенов в своей автобиографии, написанной в 1935 году. – Отец мой, мещанин, служил в службе сборов Юго-Западной железной дороги конторщиком, а позже счетоводом. Умер он, когда мне было лишь пять лет. Про родителей моей матери ничего не знаю, знаю только то, что брат ее был рабочим в арсенале, а она была ученицей в швейной мастерской. Выйдя за моего отца, она была домохозяйкой, умерла в 1905 году.  Н.П. и В.И. Семеновы с классом в школе на Институтском проспекте. Фото 1930-х гг. Из архива Д.В. Семенова Я родился в 1886 году в тогдашнем Петербурге. Учился я с приготовительного класса в 12-й гимназии (в Петербурге) и окончил ее с золотой медалью в 1905 году. В том же году поступил в Петербургский университет на факультет восточных языков, откуда в 1909 году перешел на исторический факультет и окончил его в 1915. Еще не окончив университет, в 1913 году я поступил помощником классных наставников и преподавателем истории в реальное училище Богинского в Петербурге.  В.И. Семенов с учениками. Фото 1950-х гг. Из архива Д.В. Семенова В 1914 году был мобилизован и, так как военной повинности не отбывал (преподаватели от нее были освобождены), провел войну рядовым. В 1917 году в начале революции демобилизовался как преподаватель и сначала организовывал и позже заведовал детской площадкой в доме б. Дурново на набережной Невы. В том же году поступил преподавателем в 8-ю Советскую школу б. Нарвско-Петергофского района. С 1920 года совмещал работу в 14-й Советской школе (Тараканова, 14) до 1922 года.  Н.П., Д. и В.И. Семеновы. 20 июня 1932 г. Из архива Д.В. Семенова С 1922 года стал работать в 168-й школе, переименованной позже во 2-ю среднюю школу Выборгского района, где работаю и в настоящее время (работал до осени 1941 года). В этой же школе с 1927 г. со времени открытия при ней классов подростков был пом. завуча по этим классам до их закрытия в 1930 году. В 1931 году преподавал русский язык на курсах квалифицированных рабочих при ЛТА. В 1934, 1935 годах кроме уроков работаю завучем по I ступени». Остается только добавить, что по своей основной специальности Василий Семенов являлся преподавателем истории. Однако в описываемые времена преподавать историю (естествознание) могли только члены ВКП(б), а Василий Иванович был беспартийным, поэтому ему доверили преподавание русского языка и литературы. Соседи Квартиру в первом этаже тахтаревского дома, выходившую на парадную лестницу, хозяева отдали семье Платоновых – Борису Георгиевичу (1888–1963) и Марии Сергеевне (1888–1959). С Марией Сергеевной жила ее дочь Зинаида Дмитриевна Фоминская (1908–1981).  И.Ф. и З.Д. Малютины с дочерью Валей. Фото 1930 г. Из архива В.И. Семенченко Борис Георгиевич окончил кадетский корпус в Новочеркасске, там же начал учиться в Политехническом институте, но учебу завершил уже в Петрограде после революции. Успел повоевать на Первой мировой, а в Гражданскую сражался в рядах Красной армии. Затем окончил Военно-инженерную академию в Петрограде, участвовал в полетах первых русских авиаторов. Впоследствии до самой пенсии работал инженером, заведовал проектным отделом конструкторского бюро. Мария Сергеевна пошла в фельдшерскую школу. Вместе с ней учился Дмитрий Филиппович Фоминский. В 1906 году она вышла за него замуж, в 1908 году у них родилась дочь Зина, однако спустя два года семья распалась. Во второй раз Мария Сергеевна вышла замуж за Б.Г. Платонова. Дочь Зина училась в Коммерческом училище в Лесном, окончила его уже после революции, когда оно стало советской трудовой школой. В 1928 году она вышла замуж за уже упоминавшегося выше Ивана Федоровича Малютина, и в 1929 году у них родилась дочь Валентина[45]. Будучи обитателями соседних квартир по дому Тахтарева, Надежда Николаевна Захарова и Мария Сергеевна Платонова жили очень дружно и даже через потайную дверь между коридорами ходили в гости друг к другу. А после революции они организовали «комбед» по управлению домами под номером 18 и вели активную хозяйственную деятельность. Дома, улицы, парки… Весь Лесной – мой родной дом. Казалось, я знаю его как свои пять пальцев, до самых мельчайших уголков и тропиночек… Хорошо помню (мне было шесть лет), как ломали церковь у Круглого пруда. Сам пруд засыпали. Трамвайные пути спрямили еще до войны, а машины еще долго продолжали ездить по бывшему кругу. Полностью прямой перекресток 2-го Муринского и Институтского проспекта сделали уже после войны. После революции в конце двора дома № 18 по Институтскому проспекту поставили бывшую часовню, перенесенную с Круглого пруда и приспособленную под жилое помещение. Во время блокады ее разобрали на дрова.  План Лесного с указанием диагональных канав, составленный Д.В. Семеновым на основе карт конца XIX в. и личных воспоминаний. Под № 1 обозначен пруд под названием Парфеновка От Круглого пруда шли четыре глубокие диагональные канавы – следы старинной планировки местности. Они соединялись с другими многочисленными прудами. Одна из этих канав, к юго-востоку, шла на Парфеновку – пруд за Английским проспектом. Из него она шла дальше на восток, пересекала Малую Спасскую улицу и попадала в Беклешовку.  Д. Семенов с бабушкой Надеждой Николаевной Захаровой. Фото начало 1930-х гг. Из архива Д.В. Семенова Д. Семенов. Фото 1932 г. Из архива Д.В. Семенова  1-й класс школы № 2 (бывшая № 168, перед войной – № 103). Д. Семенов – во втором ряду сверху пятый слева. Фото 1937 г. Из архива Д.В. Семенова  Д. Семенов. Фото 1935 г. Из архива Д.В. Семенова Д. Семенов. Июнь 1938 г. Из архива Д.В. Семенова  На заднем плане слева – часовня с Круглого пруда, перенесенная во двор дома № 18 по Институтскому проспекту. На заднем плане справа – дом, где жила семья Кобаков. Фото 1930-х гг. Из архива Д.В. Семенова Юго-западная канава шла в пруд на Уртьевой улице, потом, пересекая Английский проспект, уходила параллельно ему, пересекала Большую Объездную улицу и попадала в большой пруд с островом. Северо-западная канава шла до середины квартала – там были два небольших пруда, северо-восточная пересекала весь квартал, Лесную и Болотную улицы и попадала в большой пруд с островом. При мне воды в этих протоках уже не было. Старожилы говорили, будто бы в пушкинские времена по этим канавам, а в ту пору каналам, плавали на лодках с Беклешовки в Круглый пруд. Серебряный пруд находился на более высоком месте, и уровень воды в нем был выше, чем в остальных прудах. Излишек воды из него стекал через небольшую плотину со стороны Широкого переулка. На Старо-Парголовском проспекте, между Яшумовым переулком (но не вплотную к нему), до Яковской улицы, был парк Соловейчика – так его называли по имени бывшего владельца. В 1930-х годах в парке еще стоял двухэтажный деревянный дом, до революции принадлежавший самому Соловейчику. Парк доходил до тупикового Гонорина переулка. Через этот парк моя бабушка Надежда Николаевна Захарова водила меня в Сосновку и очень о многом рассказывала. Показывала холмики в парке, говорила о том, что раньше на этих местах стояли красивые беседки… Рассказывала она о том, что было в стороне Сосновки в конце XIX века. Так, при выходе на Дорогу в Сосновку лес начинался сразу: справа – до Беклешовской улицы, а слева – до Пустого переулка, при этом сосны росли до самой проезжей части. Дальше дорога терялась в лесу, где впоследствии построили ЛИХТ[46]. Однако справа шла проселочная дорога, возле нее были похоронены легендарные возлюбленные Карл и Эмилия[47]. По этой причине дорогу в те времена называли дорогой Карла и Эмилии. Дорога шла через лес, пересекала Муринский ручей, через него был перекинут деревянный мостик. Муринский ручей вытекал из болота, что располагалось ближе к Озеркам. За мостиком справа от дороги стоял небольшой одноэтажный домик, около него находились пруд с островом и фруктовый сад. Дальше дорога поворачивала правее и шла в Бугры. Там была усадьба с двухэтажным деревянным домом, окруженная парком. Не доходя до Муринского ручья, дорога делала изгиб около болотистого места, и в этом месте, справа от дороги, Бенуа стал строить свою ферму. Сначала она была только справа от дороги, но потом разрослась и заняла обе стороны. Тогда на дороге поставили с обеих сторон ворота, ферму огородили, и едущим мимо приходилось объезжать ее вдоль забора. Поля фермы простирались вплоть до Муринского ручья, а за ручьем напротив фермы оставался сосновый лес. Когда в начале XX века ферма приобрела широкую известность, дорогу к ней стали называть проспектом Бенуа. Слева от него началось дачное строительство, появились улицы, и одну из них назвали улицей Карла и Эмилии[48]. Ко всем этим бабушкиным рассказам следует добавить и собственные воспоминания о том, что было в стороне Сосновки уже в 1930-х годах. В те времена появилась мощеная булыжником дорога из Мурино в сторону Бугров. Около Бугров она поворачивала в Озерки, а дорога от фермы Бенуа выходила на нее. Домик за Муринским ручьем так и стоял, его называли «первый выселок». А посередине между «первым выселком» и дорогой на Мурино стоял двухэтажный деревянный дом, который называли «вторым выселком». На пересечении с муринской дорогой стояло несколько изб деревенского типа. От муринской дороги немножко левее шла дорога на Бугры и дальше на Карабсельки. От фермы Бенуа в сторону Муринского ручья шла полевая дорога, и в конце ее около оврага, где протекал ручей, лежал большой гранитный камень. На другом берегу ручья лес вырубили, но оставался черничник. Туда мы ходили за ягодами.  Окрестности Лесного и Гражданки на плане Петрограда 1916 г. Источник: www.aroundspb.ru  Обозначение «выселка» за фермой Бенуа на карте окрестностей Петрограда 1914–1917 гг. (сост. Ю.Ю. Гаш) . Источник: www.aroundspb.ru 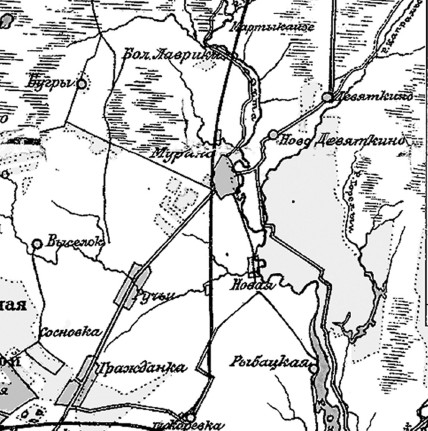 Обозначение «выселка» на карте окрестностей Ленинграда 1930 г. Источник: www.aroundspb.ru Сосновка к тому времени сильно уменьшилась. Справа от дороги в Сосновку все вырубили, остался только парк Политехнического института. Слева осталась «малая Сосновка» вдоль Пустого переулка. По обе стороны Яшумова переулка на углу Ольгинской улицы выкопали два небольших котлована – брали песок. Немного леса оставалось на углу Старо-Парголовского проспекта и Яковской улицы – в парке Соловейчика. Дальше по Старо-Парголовскому проспекту, между Яковской улицей и Воронцовым переулком, стояли два двухэтажных деревянных дома композитора П.П. Шенка, позади них оставалось редколесье. Между Воронцовым переулком и Ананьевской улицей помещался детский дом: два двухэтажных деревянных дома, соединенных крытым переходом, а в глубине двора находились конюшня и сарай. Кроме того, на Старо-Парголовском проспекте, по обе стороны Ананьевской улицы, стояли двухэтажные деревянные жилые дома. Справа на Ананьевской улице, между Старо-Парголовским проспектом и Ольгинской улицей, в глубине соснового леса стояли два двухэтажных деревянных дома, один из них – с оштукатуренным первым этажом. Это было общежитие Лесотехнической академии. Каждое утро студенты толпой шли на занятия через парк Соловейчика, парк Турчиновича и дальше по Институтскому проспекту. Дальше по правой стороне Ананьевской улицы, по обе стороны Ольгинской улицы, стояли небольшие деревянные одноэтажные домики с маленькими садиками, огороженными деревянными заборами. На углу Ольгинской улицы и Воронцова переулка, перед общежитием Лесотехнической академией, был большой котлован, который называли «колдобихой», при этом двухэтажный дом на Воронцовом переулке был обрыт с трех сторон. Котлован копали до грунтовых вод. Поскольку копали вручную, песок возили на тачках по доскам. Увозили его на грузовых трамваях, для этого от Политехнического института по Яшумову переулку и Ольгинской улице провели трамвайную линию. Этот котлован уже зарос травой, и на его откосах появились огороды. Потом стали раскапывать по другую сторону Ольгинской улицы. Трамвайную линию провели на дно котлована, и в середине 1930-х годов появился экскаватор. Стали копать глубже и в результате выкопали бассейн. Ольгинская улица шла через всю Сосновку и кончалась около хозяйственных помещений дачи Бадмаева. В конце улицы были построены однотипные маленькие домики Осоавиахима. Северная сторона Сосновки шла по прямой линии от дачи Бадмаева до мостика через Муринский ручей у «первого выселка». Со стороны фермы Бенуа Сосновка простиралась до дороги в Бугры. С южной стороны Сосновка осталась только за Ананьевской улицей, и то между Ольгинской улицей и Старо-Парголовским проспектом, уже совсем в лесу проходила Михайловская улица, на которой по левой стороне было несколько маленьких домиков. В самой Сосновке за Михайловской улицей была Березовая аллея, до революции ее называли Владимирской улицей, вдоль нее по обе стороны росли березы. Вдоль Сосновки Старо-Парголовский проспект пересекали два неглубоких оврага, поэтому дорога шла то вверх, то вниз. Сама дорога была без покрытия, песчаная, так что в сухое время машины буксовали в песке.  Дорога в Сосновку (ныне – Политехническая улица). Фото начала 1930-х гг. От Ольгинской улицы в сторону фермы Бенуа по Сосновке шло несколько дорог с канавами, видимо, до революции эти места собирались застраивать дачами. Канавы заросли молодыми соснами, но посередине были хорошие дорожки. Дороги не доходили до конца Сосновки, они упирались в болото, где можно было собирать клюкву[49]… Первое военное испытание Я пошел учиться в 1937 году в среднюю школу № 2 на Институтском проспекте. Прежде она носила № 168, а еще раньше была Коммерческим училищем в Лесном. Перед самой войной она получила № 103. В 1941 году я окончил четыре класса в том здании на Малой Объездной, где до революции помещалось благотворительное общество «Лепта». С первого дня войны и до возвращения из эвакуации в августе 1941 года я вел дневник. 28 июня мне исполнилось двенадцать лет. Я непосредственно стал писать все, как было, как я это представлял и видел, без какой-либо посторонней помощи. Написал немного, потом начались очень тяжелые времена, и я перестал писать. До этого у меня уже были кое-какие «литературные опыты», но они были посвящены более прозаическим вещам – например, жизнь кошки. А первые записи я сделал лет в шесть. Из дневника: «В воскресенье с утра я просил папу помочь мне докончить забор, который я уже делал больше месяца. Около 12 часов он, наконец, вышел в сад с пилой и хотел уже пилить для забора планки, как вдруг из дома напротив нашего сада выбежал Вовка Стрепетов и, крикнув: „Германия объявила нам войну!“, побежал оповещать всех ребят об этом на дворе. Папа бросил пилу и пошел в комнату бабушки слушать радио (у нас радио не было). Я побежал за ним… По радио говорили: „Внимание! Внимание! Внимание! В 5 часов утра Германия вероломно напала на Советский Союз. Германский посол, находящийся в Москве, объявил войну только через два часа». «…Это было 22 июня 1941 года».  Д.В. Семенов, 2008 г. Перед ним на столе – уникальная военная реликвия: осколок от фашистской бомбы, разорвавшейся рядом с эшелоном, на котором ленинградские дети (в том числе и Д. Семенов) возвращались в августе 1941 г. в Ленинград из эвакуации с Валдая. С. Г.: Затем последовала эвакуация на Валдай. Как известно, эвакуация детей из Ленинграда началась вскоре после начала войны, однако «наверху» в первые недели войны были уверены, что опасность Ленинграду грозит со стороны Финляндии, поэтому детей отправляли в те места, которые посчитали безопасными, а именно в южные районы Ленинградской области. Поэтому большое число эвакуируемых детей попало в Демянский, Маревский, Молвотицкий, Валдайский и Лычковский районы тогдашней Ленинградской области. В августе детей стали срочно возвращать в Ленинград. Именно тогда они и попали под бомбежки. Самый известный на сегодня эпизод произошел в Лычково, где под варварскую бомбежку попал эшелон с ленинградскими детьми. Однако лычковская трагедия не была единичным эпизодом. Дмитрий Семенов едва не оказался жертвой трагедии, подобной лычковской. Эшелон, в котором он в августе 1941 года возвращался из валдайской эвакуации в Ленинград, попал под бомбежку. До сих пор среди семейных раритетов Дмитрия Васильевича хранится военная реликвия – осколок вражеской бомбы, попавший в вагон во время той бомбежки. А рядом – надпись, сделанная рукой отца: «Осколок бомбы, сброшенной с немецкого самолета в наш поезд на станции Бурга[50] во время возвращения в Ленинград из Боровичей. Август 1941 г.».  Д. Семенов во дворе родного дома на Институтском проспекте. Фото 1943 г. Из архива Д.В. Семенова Маленький кусок бездушного холодного металла, с острыми рваными краями, лежит в простой жестяной коробке и легко умещается на ладони. Но даже сегодня он не кажется безобидной железкой. Это орудие смерти, только по счастливой случайности не достигшее своей цели. Ведь не промахнись тогда вражеский летчик – бомба угодила бы прямо в вагон с детьми. Бомба угодила в бревенчатую избу прямо напротив мчавшегося поезда, а этот осколок влетел в вагон и попал в перекладину, на которой держалась верхняя полка. Только по случайности он никого не задел. Кто-то скажет: детей спас ангел-хранитель, кто-то возразит – просто повезло, как это нередко бывает на войне… Из дневника: «По дороге, недалеко от полустанка Бурга, на эшелон налетел немецкий стервятник (которого потом сшибли неподалеку) и бросил 2 бомбы. Одна бомба попала в бак с горючим, а другая рассадила избу. Поезд остановился, поднялась паника, в нашем вагоне какие-то бабы завыли, мужики схватили свои тюки и полезли через головы ребят к двери, которая была только приоткрыта. Завалив последнюю щель тюками, они с руганью полезли через них. Папа и ехавший с нами учитель Наум Кузьмич оттолкнули всех, открыли дверь и вместе со всеми учителями стали выводить ребят. Все лезли из вагонов и толпой бежали к лесу. С полчаса отсидев в лесу, мы сели на поезд и доехали спокойно без приключений до Ленинграда». Блокада Мои родители работали учителями в 103-й школе[51]. Осенью 1941 года школа перестала работать. Отец стал работать воспитателем в детском доме № 50 на Старо-Парголовском, 51, а мать – воспитателем в детском доме № 52 на Дороге в Гражданку, 4[52]. Так как была введена карточная система, мою карточку сдавали в детский дом к отцу, и я ходил туда на питание. Детский дом от Институтского проспекта был недалеко, так что я несколько раз в день ходил туда. Но в конце 1941 года детский дом стали эвакуировать на Большую землю, и мой отец несколько раз сопровождал воспитанников через Ладожское озеро и возвращался обратно. Меня перевели с нового, 1942, года на питание в детский дом к матери, а отец стал работать в библиотеке им. Серафимовича. Для отца это было плохо, так как он вместо рабочей карточки стал получать карточку служащего. Мне тоже стало ходить дальше, так как Дорога в Гражданку от Институтского довольно далеко. Зато я видел, что происходит вокруг. У Круглого пруда слева, на полукруге между Институтским проспектом и 2-м Муринским, стояла пустая трансформаторная будка. Ее заполнили мертвецами – теми, кто умирал от голода.  Трансформаторная будка на углу 2-го Муринского и Институтского проспектов, хранящая страшную память о блокаде. Фото С. Глезерова, 2008 г. Дорога в Сосновку имела продолжение до 2-го Муринского проспекта, по ней ходил трамвай. Перед библиотекой им. Серафимовича, немного ближе к улице Пропаганды, упала бомба большой мощности. Воронка была во всю ширину улицы. Трамвайные рельсы разбросало по соседним огородам. По Большой Спасской тянулись машины с трупами. Кто был еще в силах, сам вез родственников на санках на кладбище. Так, возвращаясь домой из детского дома, на перекрестке Малой Спасской улицы и 2-го Муринского проспекта, там, где когда-то стояла часовня, я встретил свою соседку по дому Наташу Алексееву. Она везла на санках свою мать на кладбище. В детском доме на Дороге в Гражданку, 4, моя мама работала в палате на первом этаже. Вместе с ней работала учительница английского языка Елизавета Иосифовна Дьяконова, и с ней приходил ее племянник Саша Дьяконов, так как его родители умерли. Саша был моего возраста, и мы с ним проводили время. Дети в основном были лежачие, и мы им подавали то книжки, то воду попить, то банку для мочи. Прибывали новые воспитанники, потерявшие родителей. Их стали размещать во второй палате. В ней нам с Сашей поручили топить печь. Кроме двух этажей в здании детского дома был еще подвальный этаж с узкими окнами под потолком. В подвальном этаже помещались столовая и кухня. Директором детского дома была Татьяна Евтихоновна Гармаш, очень строгая и требовательная. Ходила она в военной форме: офицерских сапогах, темно-зеленой юбке, гимнастерке с ремнем на поясе и через плечо. В феврале 1942 года директор детского дома организовала нам экскурсию на 10-й хлебозавод на Алексеевском проспекте. Воспитанников, которые могли ходить, погрузили в военную машину и повезли на экскурсию. На хлебозаводе нам показали весь цикл производства, от замешивания теста до выпечки хлеба. Хлебозавод был круглый, и все производство шло непрерывно по кругу. Потом нас накормили манной кашей. Кусочки хлеба мы взяли с собой, и затем нас отвезли обратно. Однажды один из прибывших мальчиков попросил проводить его домой, где он хотел взять кое-какие вещи. Я пошел с ним. Оказалось, он жил в начале Большой Спасской улицы в трехэтажном доме. Кроме трех этажей там был подвал с жилыми квартирами и узкими окнами вдоль земли. В такой квартире он и жил. Квартира была раскрыта, но в ней никто ничего не трогал. Он взял, что хотел, и мы пошли обратно. Во время воздушной тревоги я выходил во двор и смотрел, что происходит вокруг. Вход в детский дом был со двора, а парадный вход был закрыт. Немецкие самолеты летели, как правило, с севера. Их встречал огонь зенитных батарей. Ближайшая батарея к нашему дому на Институтском находилась в питомнике Лесного института на Лесной улице. На Большой Спасской улице зенитки стояли за бывшей школой принца Ольденбургского, под пустыми деревьями. Во дворе я забирался на Тихвинский храм Лютикова подворья. Он стоял раскрытый, лестницы вели на крышу, сделанную вместо купола. Оттуда хорошо был виден весь город. Я смотрел, как немцы бомбили город. Бомбы падали вдоль железной дороги между станциями Кушелевка и Пискаревка.  Д.В. Семенов у родного дома на Институтском пр., 18. Октябрь 2010 г. Фото С. Глезерова  Д.В. Семенову стены бывшей летней кухни (видны остатки печи), служившей когда-то границей участка. Октябрь 2010 г. Фото С. Глезерова  Д.В. Семенов у рябины, посаженной им под окном своей комнаты в 1946 году. Октябрь 2010 г. Фото С. Глезерова С апреля 1942 года возобновилась работы школы № 111 на Дороге в Гражданку, 7. Так как это был конец учебного года, то занятия проходили по повторению материала за предыдущий класс. Я перестал ходить в детский дом, а стал посещать занятия в 111-й школе. После занятий нас водили в столовую общежития Политехнического института и кормили без карточек. В столовую ходили через поле по протоптанной пешеходной дороге – там, где теперь улица Хлопина. Занятия в школе продолжались до конца мая. В пятый класс я пошел учиться в родную школу № 103. Только теперь уже не в помещения «Лепты», а в основной корпус – бывшее здание Коммерческого училища на Институтском. Весной 1943 году сюда попала бомба. Пострадало одно деревянное крыло, где находилась столовая. Во втором деревянном крыле, не пострадавшем от бомбы, мы продолжали учиться. Поврежденную часть школьного здания разобрали значительно позже – уже после войны. Тогда, в 1943 году, ввели раздельное обучение мальчиков и девочек. Школа № 103, ставшая женской, переехала в здание за «Бассейкой», где прежде помещалась школа № 35, а мы – мальчики – с шестого класса, то есть с сентября 1943 года, пошли учиться в мужскую школу № 117 на углу Болотной улицы и 2-го Муринского проспекта. Мама ушла работать вместе с женской школой № 103, где и продолжала трудиться до самого выхода на пенсию… * * *Бывший дом Тахтарева расселили в 1960-х годах: помещения потребовались для того, чтобы временно разместить в них Центральный научно-исследовательский институт лесного хозяйства (ЦНИИЛХ). До этого институт помещался в двухэтажном бревенчатом здании на Институтском проспекте, недалеко от дома Кайгородова. Сегодня бывший дом Тахтарева относится к ведомству МЧС России: здесь находится Отдел государственного пожарного надзора по Выборгскому району Санкт-Петербурга. «ЗДЕСЬ ЖИВЕТ МОЯ ДУША» Надежда Васильевна Сидорова Об авторе: Надежда Васильевна Сидорова родилась в 1956 году. Детство провела на Песочной улице в Лесном. В 1981 году окончила радиофизический факультет Ленинградского политехнического института. Работала ведущим технологом на производственном объединении «Светлана». Круг интересов – история Петербурга, туризм, спелеология. Занимается серьезными архивными исследованиями с целью восстановления собственной родословной. * * *В Лесном прошли мое детство, отрочество и юность. Моя душа навсегда осталась в милом сердцу Лесном, где я родилась и где в прошлых веках (конец XIX – начало XX) регулярно снимали дачу мои предки – прадед Фотий Яковлевич Владимиров, его жена Ольга, их дети – Лидия, Иван, Дмитрий, Павел. Во взрослой жизни Лидия жила в Лесном эпизодически, а Дмитрий и Павел прожили там всю свою жизнь, там родились их дети и внуки, в том числе и я. Я хорошо помню старый, дачный Лесной – деревянный, резной, в основном двухэтажный, с разноцветными стеклами в верандах, с крышами, украшенными башенками, со всевозможными декоративными затеями из дерева и кирпича, с «парадными» и «черными» входами в дома, с крылечками под козырьком, которые подпирались резными деревянными столбиками, с деревянными скамьями внутри крыльца… В память врезался узорчатый, кирпичной кладки, одноэтажный домик, стоявший на нечетной стороне 2-го Муринского проспекта, между Болотной улицей и Институтским проспектом. Этот домик называли «пряничным» – из-за того, что кирпичики его, выступая из основной кладки, создавали дивный орнамент. Я всегда останавливалась, чтобы полюбоваться им, когда наша семья шла мимо в кинотеатр «Миниатюр», в «Круглую баню» или в «Молокосоюз». Хорошо помню белоснежные стены внутреннего помещения «Молокосоюза». Стены были покрыты белой кафельной плиткой. В торговом зале всегда было как-то особенно аккуратно, опрятно, чисто. Также хорошо запомнился маленький и очень уютный зал кинотеатра «Миниатюр». В годы моего отрочества мне было мучительно больно оттого, что «злые и бестолковые», с моей точки зрения, взрослые, уничтожают всю эту резную (деревянную) и узорчатую (кирпичную) красоту… Дом моего детства располагался в квартале между Песочной улицей, проспектом Пархоменко (бывшим Английским), ул. Орбели (бывшей Большой Объездной) и Институтским проспектом, рядом с общежитием Лесотехнической академии. Наш дом значился под номером 8/10 по Песочной улице. Перед ним находился палисадник со старинными кленами и дубами, некоторые из них сохранились и поныне. Росло большое количество кустов сирени, жасмина, спиреи. Помню песочницу под березой, скамейки, столик для игры в домино. В доме была просторная, хорошо освещенная прихожая. В середине симметрично располагались двери в четыре квартиры. И с этой площадки разлетались в противоположные стороны, как крылья птицы, две широкие деревянные лестницы, с удобными и красивыми деревянными перилами. Они упирались в межлестничные площадки, украшенные большими окнами, и «взбегали» дальше в сторону друг друга. В доме были высокие потолки, а из городских удобств – водопровод и канализация. В послевоенные годы дом подключили к централизованной системе обеспечения газом кухонных плит. И еще несколько штрихов к быту того времени – 1960-х годов теперь уже прошлого века. Белье стирали в специальной дворовой общественной прачечной, куда была проведена водопроводная холодная вода. А для получения горячей топили дровами печь со стоящими на ней котлами, расположенную в центре помещения. Стирали в тазах. Они стояли на лавках, опоясывавших внутреннее помещение прачечной по всему периметру. Освещение было тусклым. Днем прачечная освещалась через маленькие, редкие оконца, а с наступлением темноты – одинокая лампочка. Все семьи, проживавшие в доме, имели ключи от чердака, где у каждого было отведено место для сушки белья… Все соседки с вечера выставляли на лестничную площадку, близ своей двери, пустые бидоны для молока с деньгами на крышке. Утром бидоны уже были с молоком. Со времен войны за каждой квартирой была закреплена полоска земли «под огород» в заднем дворе дома, куда выходила «черная» входная дверь. На этих полосках для каждой девочки был построен личный «кукольный» деревянный домик, размером в стандартную колодезную будку. Парадный двор весь утопал в цветах сирени, жасмина, спиреи. Между старыми дубом и кленом все лето, из года в год, висел мой гамак. Эти деревья и один из кустов сирени сохранились до сих пор, хотя дома, конечно, уже давно нет… Наискосок от парадного входа, на юго-восток, располагалась площадка с очень твердой почвой, через которую напрямик была протоптана тропинка. По ней меня водили в детский сад на углу Институтского и Новороссийской улицы. На месте этой зарастающей хилой порослью кленов площадки до войны был одноэтажный деревянный дом, в него в начале блокады, примерно 13 сентября 1941 года, попала авиабомба, в результате чего погибли все проживавшие в том доме люди. Когда-то в детстве я допытывалась у мамы: «Почему в том месте очень твердая почва и растут только кленики-прутики?» И мама рассказала мне о взрыве и взрывной волне, разбросавшей части тел, и о том, что с дерева долгое время свисали длинные волосы и часть руки в зеленой кофте. Этот рассказ был для меня настоящим потрясением. Когда говорят, что Лесной мало пострадал от бомбежек во время блокады, то я всегда возражаю: это не так. В годы моего детства еще не успевшие зарубцеваться бесконечные воронки от авиабомб считались естественным ландшафтом. Я часто играла в одной из таких воронок, располагавшейся в так называемой «задней» части двора нашего дома… Мой дед, Павел Фотьевич Владимиров, умер в первой декаде декабря 1941 года, не дойдя нескольких метров до парадного входа в наш дом. Его старший брат Дмитрий, живший в то время на Старо-Парголовском пр., 46, придя проститься с умершим, тоже умер, присев рядом с телом моего деда. Их тела более двух недель лежали в неотапливаемой бывшей детской комнате, пока по служебным делам не заехал в город с передовой бабушкин племянник Александр Георгиевич Максимов. Он подкопил из своего пайка какое-то количество хлеба, чтобы передать его своей семье. Но она к тому времени эвакуировалась. Тогда он зашел к тетке в Лесной и, найдя последнюю в полном отчаянии, помог ей довезти обоих покойников до Богословского кладбища. В две пары санок впряглась бабушка, ее 12-летний сын Юрий, 16-летняя дочь и сам Александр. С многочисленными остановками для отдыха они довезли моих дедов до Богословского кладбища. Половина хлеба из того, что Александр Георгиевич не довез семье, была отдана могильщикам, выделенным администрацией для дробления ямы в замерзшей земле. Вторую половину хлеба употребили на поддержание сил на обратном пути до дома. Была оформлена справка о факте захоронения, но без указания номера участка и могилы. А весной 1942 года семья обнаружила, что на месте упокоя братьев Владимировых вырыты траншея для братского захоронения… Моя бабушка Мария Александровна (урожденная Максимова) всю блокаду пережила вместе с дочерью и сыном в Лесном, в доме на Песочной улице, 8/10. В семейном архиве хранится письмо, адресованное моей маме, Людмиле Павловне Владимировой, восемнадцатилетним Всеволодом Богоразом – внуком ученого-этнографа Владимира Германовича Богораз-Тана и единственным сыном Владимира Владимировича Богораза. Всеволод был одноклассником моей мамы и ее первой любовью. «Привет с Большой земли, дорогая Люся, – писал Всеволод. – Извини, что так долго не отвечал на твое письмо, полученное мной 4 августа. Меня перебрасывали из части в часть, мы делали ночные переходы до 40 км. Теперь нахожусь в боевой части. Через два дня идем на передовую. Будем гнать немцев от нашего города. Чувствую себя великолепно, тем более что попал по специальности в танково-истребительное подразделение ИТР. Товарищи прекрасные. Люся, если будет малейшая возможность, прошу, пожалуйста, помоги моей маме, хоть чем-нибудь, ведь она осталась совсем одна. Прощай, дорогая, если можешь, пришли фотокарточку. Твой Всеволод». И еще одно письмо хранится в семейном архиве. Владимир Владимирович Богораз написал его моей маме с фронта в Лесной 1 октября 1943 года. В нем – горькие слова по поводу гибели на фронте Всеволода…  M.A. Максимова с братом Иваном Александровичем. Фото начала XX в. «Моя милая, дорогая девочка! – писал Владимир Владимирович Богораз. – Получил твое письмо от 27.IX. Большое за него спасибо. Я тронут твоим вниманием и ценю его. У меня такое впечатление, что самое страшное позади. Жизнь и время должны взять свое. Мы никогда не забудем нашего мальчика, такого чистого, благородного, у которого ум, талант и культура гармонично сочетались вместе, такого нежного и внимательного сына. Но со временем этот дорогой нам образ будет все более бледнеть, уходить куда-то вдаль, терять свое конкретное содержание. Это неизбежно.  Л.П. Владимирова, фото 1943 г. Из семейного архива Н.В. Сидоровой Рана будет сочиться кровью до конца нашего земного существования, но струйка крови с каждым годом будет тоньше и слабее. И не надо слишком часто оборачиваться назад, к прошлым счастливым дням. Будем делать это только по необходимости. Оставим мертвым – мертвое, живые пусть думают о жизни. Будем глядеть вперед, только вперед.  Письмо В.В. Богораза с фронта в Лесной, адресованное Л.П. Владимировой, в связи с гибелью В. Богораза. 1 октября 1943 г. Из семейного архива Н.В. Сидоровой И ты, моя милая, хорошая девушка, увидишь еще впереди много, много счастливых дней. Для тебя твоя первая любовь и ее печальный конец – только эпизод, случай, углубляющий познание жизни, дающий закалку воли и сердцу, выявляющий перед тобой твои собственные, самые лучшие, до сих пор, возможно, скрытые качества…»  Л.П. Владимирова (справа) с мужем и светловолосыми детьми, рождение которых предсказал в письме с фронта по поводу гибели единственного сына В.В. Богораз. Фото 1963 г. Из семейного архива Н.В. Сидоровой В этом письме Владимир Владимирович предсказал, что у моей мамы в будущем родятся двое светловолосых детей, при том что мама у меня всегда была темноволосой. Письмо очень поэтично и оптимистично, несмотря на то что написано по поводу гибели единственного сына. Горькое и одновременно очень мужественное… Владимир Германович Богораз-Тан в 1925 году переехал из Лесного в центр города, на Торговую улицу (ныне – ул. Союза печатников), а его сын Владимир Владимирович остался жить на Большой Объездной, в доме 6-Б. Потом он переехал в только что отстроенный дом на 2-м Муринском пр., 3. Его квартира располагалась на втором этаже. Здесь хранилась огромная домашняя библиотека. Сам Владимир Владимирович был человеком очень эрудированным и образованным. Когда моя мама вместе со мной изредка заглядывала к нему в гости, он всегда быстро проэкзаменовывал меня, с искренним удивлением находил многочисленные пробелы в моем знании иностранной литературы и набрасывал мне на ближайшие месяцы списочек из 20–40 авторов, коих мне следует немедленно прочесть. При этом мои доводы о том, что для поступления в Политехнический институт мне нужны знания только по русской литературе, в расчет категорически не принимались. Я не обижалась на его вечное недовольство мной, ибо критиковал он меня в очень мягкой и корректной форме, и это было характерно для жителей Лесного той поры. С большой теплотой я вспоминаю сейчас многочисленных старых дам из «бывших» (как их потихоньку называли), с ними мне посчастливилось жить в одном дворе. Их речь и манеры поведения всегда были очень сдержанны, лаконичны и строги, но при этом их отличали тактичность и доброта в отношениях с окружающими людьми. Дом, где прошло мое детство в Лесном, был деревянный, двухэтажный, построенный по типовому проекту для сдачи внаем дачникам. В торцах дома располагались веранды в два этажа – восемь веранд, по числу квартир. В дневное время суток входные двери в квартиры было не принято запирать. Это же относилось и к дверям веранд первого этажа, через которые также можно было войти в квартиры. Если гуляющий ребенок видел на веранде отдыхающую с книгой в руках пожилую хозяйку квартиры, то он знал, что можно зайти «поболтать», что ему будет оказан теплый прием. Хозяйка отложит книгу, побеседует с гостем, покажет, как можно изготовить какую-нибудь поделку из бумаги или шнура, и очень вежливо предложит еще немного погулять. На все праздники жильцы двух домов нашего двора вскладчину покупали для всех детей сладкие призы в виде кульков бумаги, набитых доверху конфетами, печеньем, фруктами (особенно радовали мандарины). Каждый ребенок должен был, взобравшись на деревянный помост возле дворовой общественной прачечной, прочесть что-то наизусть, спеть или станцевать. За «выступление» ребенок награждался долгожданным кульком. За гуляющим ребенком присматривали всем двором. Если ребенок заходил на ту часть двора, куда окна родительской квартиры не выходили, то соседи стучали в стенку условным стуком, означавшим: «Ваш ребенок в поле моего зрения. С ним все в порядке». Речь и манеры поведения взрослых были безукоризненные и то же самое всем двором пытались привить детям. Меня чаще всего наставляли и поправляли сестры Прокофьевы – Лидия Ефимовна и Валентина Ефимовна. Помню слова родственников о том, что одна из сестер окончила Екатерининский, а другая – Смольный институт… В школьные годы я жила в другой части Лесного – близ бывшей улицы Карла и Эмилии. Это был в то время район только что построенных «хрущевок» с редко где уцелевшими еще двухэтажными старинными дачными домами, они расселялись или уже были расселены. «Хрущевки» заселялись людьми из разных социальных слоев, по общей очереди на жилье, и я очень долго пребывала в шоке от того, что взрослые люди позволяют себе вести себя «не комильфо». Ужас вызывала бабуля Дуня со второго этажа соседнего дома, мужественно охранявшая лужайку со старым дубом под окном своей квартиры. Завидев любых детей, она очень громко кричала прямо из окна: «Вон с моего огорода!», хотя под окном кроме дуба и травы ничего, не росло. Шокировали семейные скандалы среди соседей по парадной, нередко перетекавшие на территорию лестничной клетки. Мне было дискомфортно, и я часто возвращалась на Песочную улицу, теперь уже в гости к бабушке, в деревянный двухэтажный дом, из которого моя упорная родственница никуда не желала переезжать довольно долгое время, невзирая на отсутствие там ванной и горячей воды… Примечания:1 Фрагменты из дневника К.А. Кордобовского публикуются по книге: С. Ласкин, А. Ласкин. Музыка во льду, или Портрет художника К. Кордобовского. СПб., 2000. 2 Имеется в виду Коммерческое училище в Лесном на Институтском проспекте. О нем подробнее см. далее в примечаниях к воспоминаниям Г.В. Кравченко. 3 Подробнее о доме Тахтарева см.: А.В. Кобак. Особняки и дачи старого Лесного // Невский архив. 1999. Вып. IV. С. 452–455. 4 См. далее очерк Д.В. Семенова «Дом Тахтарева и его обитатели». 5 Речь идет о Борисе Федоровиче Землякове (1898–1945?), геологе, археологе, участнике краеведческого движения в Лесном. Окончил Коммерческое училище в Лесном (1916 г.), учился в ЛПИ, окончил географический факультет ЛГУ (1926 г.), участвовал в экспедициях на Кольский полуостров, в Хибины и на Украину, работал в Геологическом комитете и в советской секции Международной ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. В Минеральных водах попал в оккупацию, позднее его видели в Берлине, где, вероятно, он и погиб в конце войны. 6 Унжлаг, Унженский ИТЛ – Унженский исправительно-трудовой лагерь. 7 О Коммерческом училище в Лесном см.: Глезеров С.Е. К истории краеведческого движения в Лесном // Невский архив. Вып. V. С. 232–237. 8 Здание построено в 1913–1914 годах для детского дома благотворительного общества «Лепта». См.: Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга: Христианская историко-церковная энциклопедия. 2-е изд. СПб., 2003. С. 280. 9 О Петропавловской церкви в Лесном см.: Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга: Христианская историко-церковная энциклопедия. 2-е изд. СПб., 2003. С. 99—100. 10 ЖАКТы: жилищные арендно-кооперативные товарищества. То же – их управляющие конторы. 11 На дореволюционных планах это место обозначено как усадьба и парк Латкина. 12 Выходным был каждый шестой день месяца: 6, 12 и т. д. 13 С 1934 по 1940 год Политехнический институт назывался Индустриальным. 14 Совсем недавно, когда эти строчки уже были написаны, я неожиданно получила им замечательное подтверждение. У меня сохранилась фотография группы ребят нашего двора. Судя по моему виду, она была сделана летом 1934 г. Одиннадцать детей у забора сада Сергея Мочалова. Самого его, правда, почему-то нет, но зато есть его грузовик, я как раз на нем и сижу. И вот вдруг я обнаружила такую же фотографию у брата Нины Завитаевой В.В. Пуссепа. Он сказал, что фотографировал нас Борис Павлович, а Дима Лисицын отпечатал и раздал карточки всем ребятам (фото см. стр. 147). 15 Здание главного корпуса Физико-технического института построено в 1914–1916 гг. (арх. Г.Д. Гримм), приспособлено под институт в 1920 г. 16 ОРС – отдел рабочего снабжения на предприятии. 17 В действительности этот поребрик пристенного газона, как и нижние ступени центральной лестницы, поглотил «культурный слой», выросший за прошедшие десятилетия, из-за чего и нарушилась гармония фасада. 18 Старо-Парголовский, 55. Дом стоял на углу Ананьевской улицы (ныне – Светлановский проспект). Как и все остальные, он был снесен в 1960-е гг. Частично сохранился в этой стороне лишь дом Шевелько, в нем сейчас размещается ГИБДД. 19 «Политехник» – в данном случае бытовое название места, площади перед входом на территорию Политехнического института. Второе его название «Кольцо», т. к. здесь находилось трамвайное кольцо 9, 18 и 25 маршрутов. 20 Соловьева Поликсена Сергеевна (20 марта 1867—16 августа 1924) – русская поэтесса и художница, дочь историка С.М. Соловьева, сестра философа и поэта B.C. Соловьева. Многие «младшие» символисты (Андрей Белый, А. Блок, Вяч. Иванов и др.) видели в П. Соловьевой не только кровную, но и духовную сестру своего знаменитого брата. С конца 1905 по 1912 г. Соловьева совместно со своей подругой, детской писательницей Н.И. Манасеиной, издавала детский журнал «Тропинка», в котором увидели свет многие стихи, рассказы и пьесы Соловьевой. В 1908 г. Поликсене Соловьевой была присуждена золотая Пушкинская медаль. 21 Здание школы построено в 1928–1933 гг., арх. А.С. Никольский, В.И. Гальперин, А.А. Заверзин. 22 Здание поликлиники и детской консультации построено в 1931 году. Арх. Н.А. Троцкий. 23 На этом месте с середины XVIII в. существовала так называемая Спасская мыза, откуда пошло название Большой и Малой Спасских улиц и сохранилось устное название места. 24 Старо-Парголовский, 2-й Муринский и Алексеевский проспекты, улицы: Большая и Малая Спасская, Дорога в Сосновку, Новая, Янковская. 25 Ленд-лиз – поставка Соединенными Штатами вооружений, продовольствия и других ресурсов странам, воевавшим против гитлеровской Германии. 26 Коммерческое училище в Лесном (оно также именовалось Лесным Коммерческим училищем), открывшееся 14 сентября 1904 г., было тесно связано с Политехническим и Лесным институтами. Оно явилось одним из важнейших очагов культуры и просвещения в Лесном. Не будет преувеличением утверждение, что училище существовало при активной помощи и поддержке своих «старших братьев». Эти связи укреплялись и тогда, когда многие выпускники училища становились студентами Политехнического и Лесного институтов. Некоторые преподаватели Лесного и Политехнического институтов стали педагогами Коммерческого училища. 27 Шантеклер – петух (франц., букв. – певец утренней зари), порода кур коричневого цвета. 28 Речь идет об авиакатастрофе, случившейся в Лесном 7 января 1925 г. Историк Дмитрий Шерих назвал ее «одной из самых громких авиакатастроф в истории нашего города». Самолет поднялся с Комендантского аэродрома для тренировочного полета. Полет проходил нормально, однако затем летательный аппарат неожиданно сорвался в штопор и уже не смог выправиться. Аэроплан упал возле Дороги в Сосновку (теперь Политехническая улица). Жертвами катастрофы стали два летчика – пилот Андрей Петров и комиссар отряда Павел Конев-Жуков. Жертв авиакатастрофы в Лесном хоронили торжественно. В аэроклубе прошел митинг, где в числе прочих выступал командующий округом В.М. Гиттис. Траурные сообщения обошли все ленинградские газеты. Местом погребения летчиков стала Коммунистическая площадка в Александро-Невской лавре. 29 Ликтор – лат., почетный страж. 30 Письма печатаются в авторском варианте. 31 Савушкин Александр Петрович (1918–1943) – Герой Советского Союза, летчик-истребитель. В годы Великой Отечественной войны – штурман истребительного авиаполка, гвардии капитан, заместитель командира, а затем командир эскадрильи. Совершил сотни боевых вылетов, сражался в 49 воздушных боях, сбил 15 вражеских самолетов. 17 мая 1943 года погиб при выполнении боевого задания. Похоронен на Мемориальном кладбище летчиков в Сосновке. Звание героя присвоено посмертно. 32 Жизнь такой колонии описала в своих воспоминаниях Доротея Элтентон: Элтентон Доротея. Как весело жилось в Ленинграде (История жизни английской семьи в России в 1933–1938 годах). СПб.: Балтийские сезоны, 2003. 33 Воспоминания печатаются по: Есиновская Г.Н. Лесное. Воспоминания старожила // Витрина: [газ. Калининского р-на]. 1994. май. № 19 (52); июнь. № 20 (53); июль. № 22 (55); июль. № 25 (58); № 27 (60); август. № 32 (65); № 33 (66); сентябрь. № 34 (67). 34 Речь идет о «Первой средней образцовой показательной школе», открывшейся в 1930 г. на Дороге в Сосновку (ныне – Политехническая улица). В конце 1930-х гг., когда проводилась сквозная перенумерация всех городских школ, школа получила № 102. Школу построили в 1929–1930 гг. по проекту архитектора А.С. Никольского. Для своего времени это здание являлось ультрасовременным сооружением. Очень сильным был преподавательский состав – многие учителя работали в Политехническом институте. В годы войны в здании школы разместился госпиталь, а в 1946 г. здание школы занял только что созданный ВНИИ телевидения, который занимает здание по сей день. 35 Троицкая церковь на углу Большой Спасской улицы (ныне – пр. Непокоренных) и Дороги в Гражданку (ныне – Гражданский пр.) первоначально относилась к подворью Лютикова Свято-Троицкого монастыря Калужской епархии. Подворье заложили 4 августа 1897 г. по благословению отца Иоанна Кронштадтского, церковь освятили 12 февраля 1898 г. К середине 1930-х гг. Троицкая церковь осталась единственным действующим храмом на весь Лесной и Гражданку. С 1927 по 1943 г. она принадлежала иосифлянам, будучи с середины 1930-х гг. единственным официально действовавшим в нашей стране иосифлянским храмом. Троицкая церковь продолжала действовать всю блокаду, играя важнейшую роль для местных жителей. В 1966 г. церковь снесли, иконы и утварь передали в открытую взамен церковь Св. Александра Невского на Шуваловском кладбище. (Она была закрыта с 1930 г., ее заново освятили 3 декабря 1966 г.) Рядом с Троицкой церковью стоял каменный храм во имя иконы Тихвинской Божией Матери. Его начали строить в 1905 г. Проект в стиле московских церквей XVII в. разработал архитектор Н.Н. Никонов, а строительство вел его сын – гражданский инженер Н.Н. Никонов. Храм закрыли весной 1934 г., помещение заняли овощехранилищем, складами и промышленным предприятием. Руины храма уничтожили в июле 1982 г. 36 Утверждение Г.Н. Есиновской не совсем верно. История появления кладбища на Пискаревке такова: в июне 1937 г. президиум Ленгорсовета принял решение закрыть для дальнейших захоронений несколько кладбищ в черте города (Громовское, Малоохтинское, Волково и Смоленское лютеранское) и одновременно выделить земельные участки для организации новых мест захоронения на севере и юге Ленинграда. Под нужды первого из них отводился участок площадью в 30 гектаров, принадлежавший совхозу «Пискаревка». Трест «Похоронное дело» немедленно приступил к освоению территории: провел геодезическую съемку, определил уровень грунтовых вод, начал завоз строительных материалов для прокладки дороги и сооружения ограды. Архивист Надежда Черепенина обращает внимание на уникальное обстоятельство: готовиться к массовым жертвам войны власти начали… еще за несколько месяцев до ее начала. Об этом, по ее словам, позволяют судить документы ЦГА СПб. «Вопрос об организации массовых захоронений был поставлен еще весной 1941 г., когда городские организации приступили к разработке новых мобилизационных планов, – отмечает Н. Черепенина. При этом число жертв возможных военных действий (прежде всего, от воздушных налетов) среди мирного населения оценивалось приблизительно в 45 тысяч человек. Именно на такое количество погибших ориентировалось архитектурно-планировочное управление, выделив в мае 1941 г. дополнительные земельные площадки для подготовки будущих братских могил. Пискаревское кладбище первоначально в этот список не вошло, однако 5 августа 1941 г. АПУ сообщило Красногвардейскому райисполкому, что „существующее Пискаревское кладбище, расположенное по Пискаревской дороге, должно быть использовано не только как постоянное кладбище, но и для массового захоронения“». В 1939–1940 гг. кладбище стало одним из мест захоронений солдат и офицеров, умерших в госпиталях от ран, полученных в Советско-финляндской войне. В годы блокады именно новое кладбище на Пискаревке, располагавшее значительным земельным участком, стало основным местом захоронения умерших горожан и военнослужащих. 37 Здание бани, действующей и поныне, возвели в 1927–1929 гг. по проекту архитектора А.С. Никольского. За необычную форму жители прозвали баню «круглой». Строилась баня на основе экспериментального проекта. Вместо заурядной утилитарной постройки архитектор хотел создать нечто необычное в духе господствовавшего в то время стиля конструктивизма. Более того, вместо привычного банного заведения Никольский решил создать сложный комплекс, сочетавший в себе не только баню, но и бассейн и солярий. По замыслу А.С. Никольского, во дворе должен был разместиться бассейн, на плоской крыше банного корпуса – солярий, а внутренний двор предполагалось перекрыть стеклянным куполом. Окаймлять баню должна была кольцевая шахта, в которой «прятались» инженерные коммуникации – паропровод, водопровод и канализация. А чтобы максимально избежать потери тепла, архитектор предполагал немного углубить здание бани в землю. Однако полностью реализовать свой проект Никольскому не удалось. И хотя здание построили, как и задумывали, круглой формы, по техническим условиям того времени стеклянный купол построить было невозможно. 38 Поликлиника № 14 на 2-м Муринском пр., 35, – характерный пример стиля конструктивизма. Построена в 1931 г. по проекту известного архитектора Н.А. Троцкого – автора знаменитого Дома Советов на Московском проспекте. 39 Особняк, напоминавший небольшой замок, построили в начале 1910-х гг. по проекту архитектора Н.И. Товстолеса для купца Дмитрия Алексеевича Котлова – подрядчика, специализировавшегося на строительных кредитах. Не исключено, что Шаляпин мог бывать у Котлова, поскольку тот был вхож в театральный мир Петербурга. К началу 1915 г. в Лесном на деньги купца Д.А. Котлова построили зимний театр на 2-м Муринском проспекте. Автором проекта здания театра был тот же архитектор Н.И. Товстолес. По сообщению журнала «Театр и искусство», театр был «каменный в два яруса на 700 человек с электрическим освещением». Здание театра стояло на месте учебного корпуса на 2-м Муринском пр., 43, и до наших дней не сохранилось. 40 Ферму построил в конце 1890-х гг. известный петербургский архитектор Юлий Юльевич Бенуа – академик архитектуры, представитель знаменитого художественного рода Бенуа. Он арендовал у владельцев Мурина обширный участок неплодородной земли от Муринского ручья до окраины Петербурга, заключив договор аренды на пятьдесят лет. Строительство велось по собственным чертежам Ю.Ю. Бенуа и под его непосредственным наблюдением. Строительство усадьбы завершилось к 1904 г. Ядром фермы являлся красивый двухэтажный деревянный дом («дача Бенуа») с каменным подвалом, мансардами и башней. Молочное предприятие включало в себя самые разные постройки, в том числе коровники, сараи и ветряную водокачку. От имени владельца фермы пошло и название проспекта, который здесь заканчивался. В 1952 г., во время массовой кампании переименований, проспект Бенуа стал Тихорецким. В техническом отношении ферма являлась образцовой и стремилась следовать европейским меркам ведения молочного хозяйства. Ферма была знаменита на весь Петербург и успешно снабжала петербуржцев молочными продуктами. Ее удостоили золотой медали на проходившей в 1913 г. в Петербурге Всероссийской гигиенической выставке и высшей награды – на Международной выставке. Вскоре после Октябрьской революции ферму национализировали. Когда в ноябре 1918 г. в состав Петроградской трудовой коммуны вошли шесть бывших помещичьих имений, получивших название «городские молочные фермы», бывшая ферма Бенуа значилась под номером один, став «1-й городской молочной фермой» Петрогубкоммуны. Однако чаще всего ее называли «Лесной фермой», или совхозом «Лесная ферма». Затем ферма стала именоваться просто совхозом «Лесное». Прежний владелец фермы Ю.Ю. Бенуа смог приспособиться к новой власти и работал в Наркомате продовольствия, составляя там проекты сельскохозяйственных заведений и молочных заводов, санаториев и домов для рабочих. В конце 1921 г. совхоз «Лесное» вошел в Петроградское единое потребительское общество (ПЕПО), впоследствии – Ленинградский союз потребительских обществ. Во время ленинградской блокады совхоз был одним из поставщиков сельскохозяйственной продукции для жителей осажденного города. Ферма совхоза «Лесное» находилась тут, пока городские новостройки не подошли практически вплотную. В 1967 г. было принято решение о неотложном перебазировании госплемзавода и совхоза «Лесное» на новое место. Совхозу передали большой участок земли на стыке Гатчинского и Пушкинского районов Ленинградской области. На этом месте совхоз «Лесное» и сегодня продолжает свое существование. Исторические постройки бывшей Лесной фермы находятся сегодня в катастрофическом состоянии. «Дача Бенуа» сгорела в 2001 г., в настоящее время от нее сохранился только фундамент. Постройки бывшей фермы в настоящее время пустуют и разрушаются. 41 В послевоенные годы, на почве борьбы с «безродным „космополитизмом“», кинотеатр «Унион» переименовали в «Союз». 42 Лесной долгое время не имел приходского храма, и в 1900 г. группа местных домовладельцев во главе с тайным советником В. Евреиновым выступила с ходатайством о разрешении построить у Круглого пруда временный деревянный храм. Власти пошли навстречу, Лесной департамент предоставил участок. Строительный комитет возглавил известный церковный деятель, подвижник и проповедник отец Философ Орнатский (с 1913 г. – настоятель Казанского собора, после революции выступил открытым противником большевиков и был расстрелян вместе с сыновьями во время «красного террора» в сентябре 1918 г. В 1981 г. он был прославлен Архиерейским собором Русской православной церкви за границей в сонме новомучеников и исповедников российских, а в августе 2000 г. на Архиерейском соборе причислила его к лику святых и Русская православная церковь). Авторами часовни стали архитектор Городской управы, много работавший для Артиллерийского ведомства, В.В. Сарандинаки и архитектор И.Т. Соколов. Тот же Соколов был автором возведенной рядом церкви, которую 17 июня 1901 г. освятил епископ Нарвский Никон во имя Апостолов Петра и Павла. 43 Наталья Павловна Захарова – мать Дмитрия Васильевича Семенова. 44 Впоследствии жизнь складывалась таким образом, что Павел Иванович Захаров бывал в Петербурге лишь наездами. С 1912 г. он работал в Ашхабаде, до середины 1920 г. был главным бухгалтером на Средне-Азиатской железной дороге. С июля 1920 г. работал в управлении Владикавказской железной дороги. В 1922 г. умер от туберкулеза, похоронен в Ессентуках. 45 Из воспоминаний Валентины Ивановны Семенченко (до замужества – Малютиной): «В 1931 г. родители мои развелись, мама, Зинаида Дмитриевна, вышла замуж вторично, я всю жизнь прожила с отчимом A.M. Островским – известным гидроинженером, строителем Невинномысского канала на Ставрополе, и с 1931 г. по 1937 г. мы жили в Краснодаре, Пятигорске, Невинномыске. С 1937 по 1941 г. и с 1948 по 1957 г. мы опять жили в Лесном, на Большой Объездной, 66, в доме Владимира Владимировича Богораза и его жены Марии Кирилловны». 46 Речь идет о здании бывшей Еленинской женской больницы на Политехнической ул., 32 (ныне Филиал № 1 ФГУ СПбНИИ фтизиопульмонологии Росмедтехнологий). Строительство здания началось в 1909 г. (арх. А.К. Гаммерштедт), а 12 октября 1911 г. больница «для бедных женщин христианских вероисповеданий, страдающих злокачественными опухолями» была освящена епископом Нарвским Никандром. Больница была рассчитана на девяносто коек и находилась в ведении Императорского человеколюбивого общества. Деньги на строительство пожертвовали член совета Государственного банка, действительный статский советник Александр Григорьевич Елисеев и его жена Елена Ивановна, поэтому больница и получила название «Еленинская». В 1930 г. здесь разместился первый и единственный в стране Ленинградский институт хирургического туберкулеза и костно-суставных заболеваний (ЛИХТ) – впоследствии Ленинградский НИИ хирургического туберкулеза. 47 Легендарная могила Карла и Эмилии находилась у пересечения нынешних улицы Гидротехников (бывш. Костромская ул.) и Тихорецкого проспекта (бывш. пр. Бенуа). Согласно старинной легенде, родители не позволяли страстно любившим друг друга молодым людям жениться, и тогда влюбленные, отчаявшись добиться родительского согласия, покончили с собой. В основе легенды о Карле и Эмилии лежала реальная история, произошедшая в августе 1855 г., героями которой стали молодые влюбленные из немецкой колонии Гражданка. Есть и другая версия, «неканоническая», появившаяся на страницах «Петербургского листка» в 1883 г. Согласно ей, богатый петербургский немец-фабрикант хотел выдать свою дочь красавицу Эмилию замуж за своего старого приятеля – фабриканта, вдовца, сорока лет с лишним да еще вдобавок с детьми от первой жены. А Эмилия была без памяти влюблена в молодого человека по имени Карл – дальнего родственника отца, служившего у него простым конторщиком. Карл попросил руки девушки, однако отец Эмилии ответил категорическим отказом и выгнал юношу со службы, пригрозив ему серьезными неприятностями. Более того, он срочно назначил свадьбу дочери и своего приятеля-фабриканта. За три дня до свадьбы девушка пропала из дома. Развязкой истории стала трагическая смерть Карла и Эмилии в лесной глуши близ Гражданки… 48 Речь идет о т. н. «местах Сегаля», получивших наименование по фамилии известного столичного коммерсанта Матвея Эдуардовича Сегаля. Он скупал дешево земельные участки на окраинах города и в ближних пригородах, затем дробил их на мелкие участки и продавал в кредит на выгодных льготных условиях. Одно из «мест Сегаля» как раз и находилось вблизи Политехнического института. Одна из улиц в этом районе получила название в честь Карла и Эмилии. Как отмечают исследователи А.Д. Ерофеев и А.Г. Владимирович, проезды в здешних «местах Сегаля» давались по фамилиям домовладельцев. Кроме проспекта Сегаля тут появились проспект Шадрина и улица Дива. В 1952 г. улицу Карла и Эмилии переименовали в Тосненскую, а спустя примерно десять лет она исчезла во внутри-квартальных проездах, когда началась массовая застройка. А бывший проспект Сегаля (точнее, небольшая его часть) сохранился до сих пор, только под другим названием – с 1925 г. он назывался Раевской улицей, а с начала 1930-х гг. – проездом Раевского. 49 С 1883 г. владельцем Сосновки являлся один из самых богатых петербургских купцов, городской голова В.А. Ратьков-Рожнов. Уже тогда началась распродажа участков леса под застройку. В 1913 г. территорию Сосновского леса, принадлежавшую Ратькову-Рожнову, разделили: северная часть отошла его дочери Ольге, а южная – сыну Ананию, предводителю дворянства Царскосельского уезда и почетному мировому судье Петербургского и Царскосельского уездов. Ананий Ратьков-Рожнов разбил свою территорию Сосновского леса на участки, проложил между ними дороги, чтобы продавать участки под частную застройку, однако распродаже участков леса под жилье помешала начавшаяся Первая мировая война. Улицы, прорубленные в начале 1910-х гг. по велению Анания Ратькова-Рожнова, сохранились в Сосновке и поныне в виде широких аллей. Одна из улиц получила название Ананьевской (в честь самого владельца земель) – теперь это часть Светлановского проспекта. Другие улицы, проложенные в Сосновке, но ставшие потом парковыми аллеями, должны были носить имена в честь многочисленных родственников Ратькова-Рожнова – Ольгинская, Яковская, Александровская и другие. Как отмечают исследователи А.Д. Ерофеев и А.Г. Владимирович, «к 1917 году от Сосновского леса остался, и то не полностью, лишь участок между Старо-Парголовским проспектом, Ананьевской улицей, Полевой дорогой (продолжение проспекта Бенуа, ныне тоже в составе Тихорецкого проспекта) и северной границей района. Его ожидала та же участь – уже были прорублены просеки на месте будущих улиц, придуманы для них названия. Проезды, параллельные Ананьевской улице, должны были именоваться в честь домочадцев Ратькова-Рожнова, а перпендикулярные – в честь классиков русской литературы: Лермонтовская, Пушкинская, улицы Некрасова и Тургенева». Проектные названия улицы Леховича, Исаковская, Веринская, Владимирская, Михайловская получили, по всей видимости, по фамилиям ближайших землевладельцев. Однако произошла революция, и несостоявшиеся улицы, которые окончательно не заросли, превратились в аллеи. 50 Бурга – деревня в Маловишерском районе Новгородской области и одноименная железнодорожная станция в 18 км к юго-востоку от Малой Вишеры. 51 Школа № 103 на Институтском проспекте – бывшее Лесное Коммерческое училище, ставшее после революции школой № 168, а затем 2-й средней школой Выборгского района. 52 Из автобиографии Натальи Павловны Семеновой, написанной ею 1 октября 1942 г.: «В год Великой Отечественной войны участвовала в закройке и пошивке теплого белья, одежды и рукавиц для бойцов Красной армии; была несколько раз на оборонной работе в порядке трудповинности, до 1-го января 1942 г. работала, давала уроки и вела кружки в действующих двух школах (ЮЗиШ)и детских домах при этих школах – шитья, починки белья и одежды. В настоящее время работаю в 103-й школе Выборгского района и совмещаю работу в детсадах Красногвардейского района, совмещать начала с 1 января 1942 г., одно время было четыре детсада, в настоящее время работаю в двух детсадах Красногвардейского района в качестве музыкального работника». |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
