|
||||
|
ЗАПИСКИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ А. Н. Мещеряков. Вместо введения  Охота к перемене мест владела человеком всегда. И всегда путешествия в дальние страны превращались в диалог культур или даже цивилизаций, с неизбежными, порой непреодолимыми трудностями. Уцелевшие в странствиях, как правило, стремились поведать своим соплеменникам, согражданам или просто родственникам об увиденном в далеких краях. Рассказ этот нередко оказывался весьма далеким от реальности, но не из-за недостатка фактов, а из-за неумения их адекватно интерпретировать. Нормы собственной культуры жестко контролируют восприятие путешественника, и совсем не просто понять, а тем более — принять правоту «чужого». К настоящему времени жанр путевых очерков изрядно пообветшал. Причина очевидна: современные средства сообщения сделали большинство стран мира легкодоступными для среднего обывателя. И он предпочитает узнавать о неведомых ему краях непосредственным образом, de visu. В крайнем случае — с помощью телевизора. В советское время, когда путешествие за границу было уделом избранных, чуть ли не каждый, кому посчастливилось посетить Японию, считал своим долгом изложить впечатления в письменном виде. И произведения эти, пусть даже легковесные, находили своего читателя. Многим не терпелось узнать: а как там, в Японии? С концом же советской эпохи умерли и путевые заметки — как и во всем цивилизованном мире, они превратились в «ископаемый» жанр. Если их даже и пишут, то печатать не хочет никто. Это и понятно: заезжим путешественникам довольно трудно добавить что-нибудь «новенькое» к трудам профессиональных японистов. А потому нынешний удел таких путешественников — устные рассказы с показом фотографий и «обмыванием» благополучного возвращения. Однако так было не всегда. Путевые очерки европейцев представляют собой своеобразную историю знакомства с Японией, саму историю японоведения. Ценность их чрезвычайно велика по нескольким причинам. Во-первых, сами носители культуры считают свои привычки и предметы повседневного окружения настолько обычными, что очень часто не находят их достойными сколько-нибудь систематического описания. И эта ситуация характерна для любой культуры. Вторая причина имеет отношение уже непосредственно к Японии, к особенностям пройденного ею исторического пути. Дело в том, что основным международным партнером Японии всегда выступал Китай. И китайцы кое-что знали об обыкновениях японцев. Однако Китай всегда считал себя центром мироздания и испытывал по отношению к окружающим его народам комплекс превосходства. Этот комплекс укоренился столь прочно, что описывать «восточных варваров» (именно так они именовали японцев) китайцы полагали ниже своего достоинства. Что эти недолюди знают и умеют? — спрашивали они сами себя и давали ответ весьма скептический. Поэтому в своих династийных хрониках они Японии места почти не уделяли. А потому до XVI в. все наши сведения об этой стране могут быть почерпнуты только из японских же источников. Иными словами, до этого времени мы почти лишены возможности сопоставления. А это всегда не только обедняет картину жизни, но и искажает ее — ведь каждый автор пристрастен. С приходом в Японию христианских миссионеров в середине XVI в. ситуация меняется. Правда, миссионеры (в основном — иезуиты) были, мягко говоря, идеологически ангажированными — ведь их основной целью являлось обращение японцев в христианство, а верования и убеждения аборигенов они считали дикими суевериями, которые следует по возможности искоренять. Кроме того, вхождение в чужую культуру требует довольно длительного времени, которого они оказались лишены: с 1637 г. Япония фактически закрылась для контактов, почти все европейцы (в основном португальцы и испанцы) были вынуждены покинуть страну. В связи с этим наблюдения и суждения миссионеров о японской духовной культуре и истории полны предрассудков, неточностей и прямых ошибок. В сущности, из сочинений миссионеров касательно «души» японцев можно больше узнать не столько о ней, сколько о самих европейцах. Совсем другое дело — японские обыкновения. Эту сферу христианские проповедники изучали очень старательно, понимая, что иначе трудно рассчитывать на религиозные успехи. Вот почему их «инструктивные» сочинения являются настоящим кладезем бытовых деталей японской средневековой реальности. После закрытия страны у представителей далекой Европы оставалась только одна возможность для непосредственного контакта с японцами. Дело в том, что единственными европейцами, которым было позволено остаться в стране, оказались голландцы. Они были протестантами и в своих действиях руководствовались не религиозными, но коммерческими мотивами. Им удалось убедить японские власти в том, что протестантизм — не совсем христианство. Японцы и на них смотрели с опаской, но не ожидали с их стороны вооруженного нападения, как это было в случае с португальцами и испанцами. Голландцев интересовала прежде всего прибыль, которую извлекала Ост-Индская компания, и ради нее они были готовы терпеть любые унижения. Однако жить голландцам пришлось, по существу, «под домашним арестом». Их фактория располагалась на крошечном островке Дэсима возле Нагасаки. На Дэсима было всего две улочки, по которым они были вынуждены под наблюдением японцев дефилировать весь длинный год в ожидании весны — тогда директор фактории и несколько его подчиненных отправлялись в Эдо (Токио), чтобы в знак своей лояльности преподнести сёгуну подарки и представить отчет о событиях в мире за истекший год. Собственно говоря, путешествие в Эдо было единственной возможностью для ознакомления со страной. Вот почему служба в Японии считалась у персонала Ост-Индской компании сущим наказанием, да и торговые доходы были более чем скромными. Раз в год голландским торговым кораблям дозволялось прибыть с товарами в Дэсиму. На одном из них 10 августа 1650 г. там появился знаменитый Ян Стрейс — парусный мастер из Амстердама, моряк, солдат, военнопленный, раб, купец, дипломат, писатель (известен российскому читателю как автор обширных и интереснейших записок о России). Путешествие в Японию — всего лишь маленький эпизод в его богатой рискованными приключениями жизни. Но пытливый и раскованный взгляд Стрейса, проницательность, проистекавшая из огромного жизненного опыта, делают «японские странички» его сочинений полезным вкладом в понимание Страны восходящего солнца. Кроме торговцев в штате дэсимской фактории состоял врач. Прежде всего врачам мы обязаны своими знаниями о Японии той поры. К их числу относятся немец Кемпфер, служивший в голландской Ост-Индской компании еще в конце XVII в.; доктор К. П. Тунберг, швед по национальности, проехавший не только на стандартному маршруту Нагасаки—Эдо, но и совершивший в 1777—78 гг. путешествие по нескольким провинциям о. Хонсю; и, наконец, наиболее известный — Филипп Франц фон Зибольд (1796–1866), немецкий врач и натуралист. Он окончил университет в г. Вюртсбурге, где и заинтересовался Востоком. В 1823 г. приехал в Японию в качестве врача в составе голландской миссии и пробыл там до 1828 г. Его перу принадлежат капитальные труды по флоре и фауне Японии. Кроме того, он является автором наиболее полного для своего времени компендиума по географии, истории, политической жизни и этнографии японцев. Этот труд выходил частями и был закончен в 1858 г. С трудами Ф. Зибольда в России не обошлось без приключений. Первый (и единственный) раз они вышли под его фамилией на русском языке двумя томами в Санкт-Петербурге в 1854 г. (см. библиографическую ссылку в соответствующем разделе). Однако перу Ф. Зибольда в том издании принадлежала едва ли пятая часть материала, а вся книга была переводом французской, изданной неким г. Жансиньи, информацию о котором приходится выуживать с немалым трудом из редких упоминаний в тексте. По этим крохам можно утверждать, что сам Жансиньи в Японии не был, но провел более трех лет в Китае, живал в Индии и Индонезии. На страницах своего компендиума он критически, но очень конструктивно сопоставляет сообщения разных исследователей, пытаясь разобраться в тайнах загадочной японской жизни. Остается добавить, что у трехтомного «псевдо-Зибольда» был еще один соавтор. Возможно, им стал переводчик на русский язык В. М. Строев, возможно, активную роль сыграл профессиональный географ, редактировавший все восемь томов «Библиотеки путешествий», где Япония заняла свои три томика. Во всяком случае, ясно, что чья-то уверенная российская рука вмешалась в компоновку материала и, судя по всему, не испортила его. Изолированность существования на Дэсима сильно ограничивала возможности сколько-нибудь серьезного занятия японистикой. Достаточно сказать, что европейцы, даже самые проницательные, имели очень слабые представления о политической системе Японии и именовали сёгуна императором. Не были они чужды и определенного высокомерия по отношению к японцам. Тем не менее их наблюдения за страной (повторим, что лучшая возможность для этого предоставлялась им во время посещения столицы) были не только весьма интересны, они — практически единственный источник знаний о Японии того времени. Некоторую конкуренцию ему могут составить только записки русских мореплавателей и путешественников, сумевших вольно или невольно попасть в закрытую для постороннего глаза Японию. Лучшим произведением этого рода является впервые изданный в 1816 г. труд В. М. Головнина (1776–1831), полное название которого — «Записки флота капитана Василия Михайловича Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе». Отсутствие интереснейших наблюдений В. Головнина о японском быте начала XIX в. в нашей книге объясняется лишь тем, что его «Записки» вскоре будут опубликованы (также в серии «Восточные арабески»). Весьма интересны и наблюдения прославленного русского писателя И. А. Гончарова, которые он сделал в 1853–1854 гг. во время путешествия на фрегате «Паллада». Это произведение издавалось в России многократно (наиболее полная публикация: И. А. Гончаров. Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в двух томах. Серия «Литературные памятники». Л.: Наука, 1986). На фоне сочинений Зибольда, Шрейдера или капитана Головнина записки Бартошевского смотрятся не лучшим образом: кое-что субъективно до нелепости, местами резковато до безапелляционности. Но в них интересно совсем другое. Н. Бартошевский представляет собой тот наиболее широкий слой путешествующих, которые не умеют и не очень стремятся вжиться в чужую культуру, не пытаются понять ее изнутри. Таких всегда — большинство, и это большинство оценивает жизнь другого народа по устоявшимся критериям жизни народа собственного, обычно вынося приговор быстро и решительно. В этой этнокультурной непосредственности оценок, в четкости этических позиций — особая прелесть текста, дающего хорошее представление о менталитете российской интеллигенции середины XIX в. Впрочем, современному читателю не стоит пренебрегать и содержательной стороной записок Бартошевского — он ведь достаточно свободно владел разговорным японским, подолгу жил в нескольких семьях и знал интересующие нас бытовые аспекты очень неплохо. Япония была вновь открыта для посещения иностранцев после «революции Мэйдзи» (1867), и поток сочинений об этой стране в России стал быстро расти. Их авторами были морские офицеры, сотрудники дипломатических миссий, коммерсанты, преподаватели. Время профессиональных японистов еще не настало (кафедра японской филологии Санкт-Петербургского университета была учреждена только в 1898 г.). Неотъемлемым свойством этого рода сочинений является то, что они не имеют, как правило, монографического характера — их темой является Япония «вообще». Разумеется, их авторы не знали японского языка (или же владели им в весьма ограниченном объеме), а потому основным источником информации о стране служили им личные впечатления. Сочинения того времени отражают уже новые реалии — под влиянием Запада традиционная культура Японии стала подвергаться эрозии. Однако процесс этот — достаточно длительный (не закончен он и сегодня), и во второй половине XIX в. многие стороны жизни японцев еще не успели вестернизироваться. О Д. И. Шрейдере нам известно немногое, но есть серьезные основания считать его профессиональным географом. Во всяком случае, еще до своих путешествий в Японию, совершенных в 1891 и 1893 гг., он длительное время работал секретарем «Общества изучения Амурского края», которое было преобразовано затем в Отдел Русского Императорского географического общества. Отметим здесь, что текст этого автора отличает максимум доброжелательной восторженности, столь характерной для европейцев, попадавших в Японию в 1880-х — начале 1890-х гг. Именно в тот период «открывшаяся» миру Япония демонстрировала блестящие образцы удачных заимствований европейских достижений в самых различных областях знания и умения. Увы, к концу XIX в. культ милитаризма, воинствующий национализм и пренебрежение к любым неяпонским культурам победили в этой стране, что совпало по времени с формированием российской японоведческой школы. Одна из ярких фигур этого переходного к профессиональной японистике времени — Григорий Александрович де Воллан (1847–1916). Его биография служит подтверждением наших слов о том, что даже те, кто оставил заметный след в истории японистики, своим приобщением к Японии обязаны не столько собственному осознанному выбору, сколько случайным обстоятельствам (пользуясь случаем, сердечно благодарю сотрудников библиотеки и архива Российского Географического общества в Санкт — Петербурге, оказавших мне неоценимую помощь в знакомстве с весьма любопытной биографией де Воллана). Потомок приглашенных Екатериной П брабантских дворян, Григорий де Воллан поступил на дипломатическую службу в 1873 г. Сначала судьба забросила его в Австро-Венгрию, где он был секретарем генерального консульства в Пеште. Литературным результатом этой командировки стали брошюры «Мадьяры и национальный вопрос», «Угорская Русь», «Угро-русские народные песни» (последняя была награждена серебряной медалью Географического общества). В начале 1880-х гг. он был назначен в отдел печати Азиатского департамента МИД, а в 1886 г. получил должность консула в Нагасаки и Иокогама. В Японию он отправился кружным путем и посетил Испанию, Египет, Индию, Бирму, Индонезию, французские колонии в Индокитае, Китай. Плодом этих путешествий стала книга «По белу свету» В 1894 г. — первый секретарь миссии в Токио, в 1896 г. переведен первым секретарем в Вашингтон. По возвращении в Россию в 1898 г. написал книгу «В Стране восходящего солнца» (выдержала два издания — 1903 и 1906 гг.) — результат его шестилетнего пребывания в Японии. Книга де Воллана о Японии явилась лишь частью его многосторонней литературной деятельности, но это — вполне достойная часть: неторопливый и обстоятельный слог, меткие наблюдения — отличительные качества книги. Изучая Японию и заочно, и непосредственно более двадцати лет, де Воллан оказался добросовестным свидетелем столкновения двух цивилизаций, и в начале XX в. ему пришлось скорректировать отдельные представления первых лет знакомства. Внимательный читатель заметит грустные ноты в заключительных пассажах его записок. XX век уничтожил огромное количество традиционных ценностей по всему миру. Его грубого вмешательства в «структуры повседневности» не избежала и Япония. И все же многое, очень многое от культуры прошлых веков сохранилось, пусть в преобразованном виде. И мы не сможем понять противоречивую японскую современность, не вглядываясь в прошлое. Я. Я. Стрейс. Первое путешествие в Японию[114] ПРИБЫТИЕ После того, как мы взяли груз на острове Формоза, я пересел с «Черного медведя» на другой корабль — «Девушку», с тем чтобы отправиться в Японию. 10 августа мы достигли, невредимые, берегов Японии, и как только известили о своем прибытии, тотчас же к нашему кораблю подошло несколько лодок, которые сняли с него весла, паруса и военное снаряжение и сами выгрузили наш груз из предосторожности или боязни, что мы нападем на них или каким-нибудь образом предадим их, ибо ни одна нация в подлунном мире не относился с такой подозрительностью и боязнью к иностранцам, как эта. Место, куда мы прибыли, называлось Нагасаки — город, который некогда был построен португальцами; в нем разрешили им поселиться когда их изгоняли из Японии, они принуждены были удалиться из Фирандо (Firando). Жилище и пристанище голландцев находится на маленьком острове, отделенном от города Нагасаки каналом, шириной в 40 футов; в город можно пройти по четырехугольному подъемному мосту длиной в 150 и шириной в 50 футов. Маленький остров окружен изгородью из досок. Неподалеку от ворот у подъемного моста стоит склад компании, а несколько дальше, посередине острова большой и великолепный дом управляющего. Там построены также различные другие дома и лавки на расходящихся улицах и площадях. 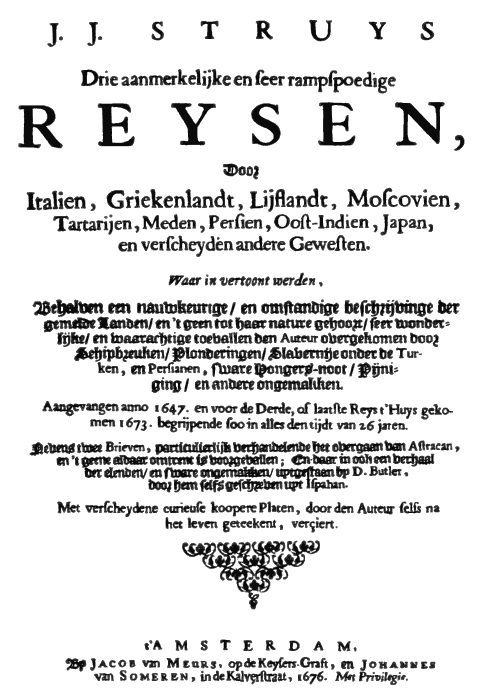
На дороге к морю стоят еще одни ворота, откуда можно спуститься по длинной и широкой лестнице, и по ней можно доставить вверх и вниз всевозможные тюки и кипы. Здесь много купцов, ведущих торговлю палисандровым деревом, сталью, оленьими и козьими шкурами, шелком-сырцом и шелковой пряжей, бархатом, камкой, атласом, бумажными тканями, ртутью, сулемой, костью, мускатом и различными другими товарами. После того как мы простояли три дня в Нагасаки и японцы нашли, что принятый нами и взятый от нас грузы равны по количеству, они закрыли и запечатали наши двери и прислали нам шесть бочек сакки (Sakky) (пиво, которое японцы варят из риса и других вещей), весьма крепкого и пенного, так что, когда его много выпьешь, то слабеют голова и ноги. А так как наши хватили его через край, то сильно развеселились и подняли большой флаг, и никто не помышлял о печали; но среди этого веселья всех сразу протрезвил неожиданно налетевший шторм. Этот шторм налетел так быстро, что мы едва сумели укрыться вниз под палубу, так как корабль кидало из стороны в сторону. Мы стояли на якоре на двух больших канатах, их разорвало на куски, как нитки. Корабль, названный «Мир», был поднят волнами и, подобно лодке, выброшен на берег у города Нагасаки, так что внутри его были поломаны 24 кницы; весь рангоут разбился, подобно камышу, и улетел за борт. Яхты «Помощь» и «Черный медведь», которые стояли за самой чертой гавани, сильно пострадали, а большая часть их легких деревянных частей была разбита, так что их пришлось доставить при помощи множества японских барж. Мы решили, что началось светопреставление: такой ужасный гром раздавался со всех сторон и так страшно было обложено тучами небо. На берегу город также сильно пострадал, и крыши на наших квартирах и складах были сильно повреждены. ГОРОД НАГАСАКИ Город Нагасаки расположен на 33° северной широты, на возвышенности; он очень велик и весьма населен, но, как большая часть японских городов, не обнесен стеной. Он построен на весьма удобном по своему расположению месте, близ гавани, приспособленной для стоянки всевозможных кораблей. С моря на город открывается великолепный вид благодаря высоким башням, храмам и дворцам. Дома по большей части деревянные, каменных очень мало — из страха перед землетрясениями, которые случаются там довольно часто, и тогда рушатся стены, что наносит домам большой вред, а жизнь людей подвергается опасности, в то же гремя деревянные дома не представляют никакой опасности. Дома бедняков построены из дерева и от дождя и ветра обложены землей точно так же, как это можно встретить в Брабанте, Германии и других местах. Крыши сделаны из досок, наложенных друг на друга и намного выступающих над фронтоном, так что под ними можно укрыться от сильной жары или дождя. Близ домов стоят большие сосуды с водой, чтобы тушить пожары, которые здесь часто возникают. По этой причине состоятельные люди строят каменные склады у своих жилищ, чтобы сохранить свое добро от пожаров. Пожары приносят здесь большие убытки, и их было бы еще больше, если бы вода не была проведена в изобилии по всем улицам, что дает возможность легко ее доставать. Что касается города, то в нем 88 ровных и красивых улиц; каждая из них отделяется изгородью, за которой ночью горят фонари и стоит сильная стража, и никто не смеет вычти на улицу после 10 часов вечера без письменного разрешения с печатью губернатора, даже медики и повивальные бабки. Так затрудняются ночные кражи, плутни и уличные бесчинства. Но вместе с тем это является и причиной различных несчастий, ибо когда возникает пожар, население каждой улицы должно само с ним справиться, и никто из соседних улиц не смеет прибежать на помощь, какая бы в том ни была нужда, отчего страдают не только здания, но и люди терпят большую нужду и пребывают в опасности. Такой пожар видели наши соотечественники года за четыре до нашего приезда; они тогда находились на одной из улиц Нагасаки, на которой возник пожар, и за короткое время двадцать домов превратилось в пепел и погибло несколько человек. Из страха перед пожаром голландцы решили, что лучше переступить повеление императора, нежели сгореть жалким образом, и силой прорвались через заставы. ОПИСАНИЯ ЯПОНЦЕВ Японцы довольны белы кожей, но желтее европейцев. Обычно наряды и одеяния мужчин и женщин мало разнятся между собой: они ходят в длинных халатах, обвитых вокруг тела и посредине стянутых поясом. 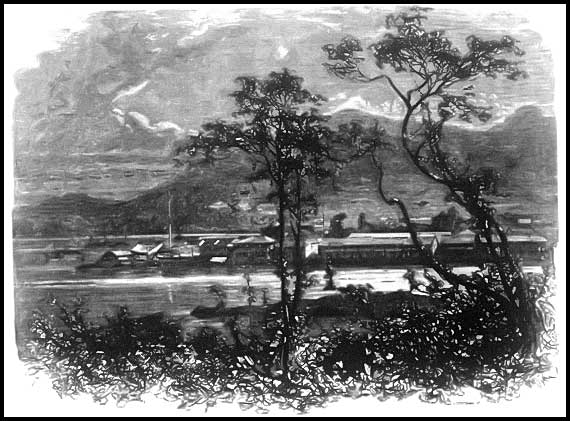
Знатные и благородные девушки носят обшитые золотом, серебром и другими драгоценностями платья, волосы их красиво подвязаны и в них вплетены жемчуг и драгоценные камни. Мужчины крепко сложены и у них широкие головы. Напротив, женщины, которых они называют Keesjens, маленькие и худые телом и станом, и ноги у старых и взрослых не больше, чем у детей четырех-пяти лет, что считается у них особым украшением; всеобщим уважением пользуется та, у которой самые маленькие ноги; поэтому они сдавливают ноги колодками: пусть тело растет, как хочет. Японцы большей частью закаленные люди, переносят жару, голод, холод и жажду и тому подобное и в самые большие холода купают новорожденных в реке. Это — воинственный народ, который хорошо умеет обращаться со стрелами, луками, копьями, ружьями и другим оружием, и они так искусно закаляют сталь, что их сабли считают самыми лучшими, ибо они настолько остры и упруги, что ими, не повредив клинка, можно рубить гвозди толщиной в палец. Весь день они пьют чай; этот напиток у них гораздо крепче, чем у нас, так что я склонен верить, что они спивают чай, снова высушивают и затем отсылают на продажу. Они веселы, гостеприимны, любят кутежи и с ними легко завязать сношения. Зибольд, Кемпфер, Тунберг и др. Впечатления путешественников конца XVII — начала XIX века[115] …После сильной бури, 5 августа 1823 г., на рассвете мы увидели совершенно разбитый корабль, дрейфовавший на двух якорях. У него на было уже ни мачт, ни парусов. Но по флагу мы увидели, что это корабль японский. Можно подумать, что в таком бедствии нечего было и рассуждать о способе, избавиться от совершенной гибели; но, когда мы покороче познакомимся с характером этого народа, с его законами, и поймем, какая ответственность лежит ежеминутно на низших офицерах и начальниках, то убедимся, что надобно удивляться одному: как самая несомненно страшная опасность может заставить экипаж японского корабля искать спасения на иностранной палубе! Между тем, к нам подошел корабль «Ондернеминг», и молодец капитан его, Лельц (Lelsz), лично поспешил со своим шлюпом на помощь японцам. Экипаж, всего 24 человека, разместили в двух шлюпках. Спасли несколько съестных припасов, как-то: рису, соленой свинины, заки (род пива или вина из риса, единственная водка, известная в Японии), немного оружия и платья. Корабль бросили, пробив ему дно, по неотступной просьбе японского капитана. Погибавшие считались бы важными преступниками, если б корабль их выбросило на берег. Следовало ему идти ко дну; в таком только случае могли они искать спасения в бегстве. Все мы стояли на палубе и нетерпеливо ждали, чем кончится борьба между нашими шлюпками и чудовищными валами, которые грозили поглотить их. Наша шлюпка скоро пристала к борту, и мы с живейшим любопытством принимали странных гостей, по мере появления их на нашей палубе. Они учтиво кланялись нам, но были заметно изумлены. Как истые матросы, они прежде всего восхищались кораблем, который, казалось, смеялся над бурей, разрушавшей японский корабль. Это были первые японцы, нами виденные, и мы не могли не заметить, как они спокойны, сколько достоинства и осторожности в их поступках. Их платье, оружие, утварь — словом, все, что они успели захватить с собой, привлекало наше внимание, мы скоро завели с ними длительный разговор посредством знаков. Они тотчас же оправились от первого волнения и, по-видимому, очень радовались неожиданной перемене, случившейся в их бедствии; но на исхудалых и бледных щеках можно было прочесть, через какие жестокие испытания прошли они. Изорванное платье и отчаянные лица показывали, что они выдержали страшную борьбу и помнили опасность, от которой чудесно избавились. Они скоро привыкли к новому своему положению, принялись за обычные свои утешения, за заки и табак, и начали разговаривать между собой с необыкновенной живостью. Они разостлали циновки на палубе; каждый сел к своему сундуку, и мы видели, как они одевались. Мы особенно удивлялись, как скоро они бреют себе волосы. Каждый японец бреет бороду и верхушку головы, кроме несчастных случаев, например, если он попал в плен, лишился родственника или друга и т. п. В настоящем случае, короткие волосы только что вымытые и дыбом стоявшие на макушке, придавали нашим японцам довольно дикий вид. Но те из них, которые обрезали волосы на маковке, в жертву благодарности покровителю-божеству, спасшему их от смерти, казались скорее смешными, чем страшными. По окончании туалета, одевшись чистенько, наши гости пошли гулять по палубе и восхищаться зрелищем, которое представлял им новый мир, европейский корабль! Каждая вещица обращала на себя их внимание и доставляла новую пищу разговору. * * *Обыкновенная одежда обоих полов и всех классов одинакова по форме; все различие в достоинстве и цвете материи. Одеяние состоит из нескольких широких и длинных платьев, надеваемых одно на другое. Платья низшего класса из холста или коленкора; высшего класса из шелковых тканей, с фамильными гербами, вышитыми на груди и на спине. Гербы вышиваются иногда на рукавах, иногда между плечами. Платья на талии поддерживаются поясом. Платья поддерживаются поясом у мужчин шириною в ладонь, а у женщин в пол-аршина; пояс обвивается два раза около стана и завязывается бантом, с двумя длинными концами. Женщины завязывают огромный бант; по его положению можно отличить девушку от замужней: девушки носят бант на спине, замужние под грудью. 
Рукава чрезвычайно широки и верхняя часть пригнута так, что из нее образуется карман, служащий в помощь другим карманам, впереди и за поясом; туда преимущественно кладут неценные вещи. Таким образом, листы тонкой белой бумаги, заменяющие японцам наши носовые платки, сначала носятся на груди или за поясом, а когда запачкаются, поступают в карман на рукаве, где лежат до тех пор, пока представится случай выкинуть их. Женские платья отличаются от мужских только тем, что вообще цвета ярче и материи вышиты золотом или изящным шитьем. Важные люди носят шарф через плечо; длина шарфа определена по чину, и служит разрешением важного вопроса о поклоне: этикет требует кланяться высшему лицу так, чтобы конец пояса коснулся земли. В парадных случаях к прочим платьям прибавляют еще одно, называемое «платьем приветствия»; это род плаща особенной формы со сборками на обоих плечах, очень широкого; при таком плаще высшие сановники носят странные панталоны, называемые гаккама, они сшиты из огромнейшей, собранной юбки, стянутой между ногами. Если б вельможи узнавались только по этим панталонам, то отличие их было бы заметно только в торжественных случаях; но существует другой признак, по которому всегда можно узнать знатного человека: он имеет право носить две сабли, одну над другою, на одном боку. Офицеры низшего разряда носят одну саблю; но ни те, ни другие никогда не снимают оружия. 
Низшим классам народа, напротив того, запрещено носить оружие. Одна сабля та, которая длиннее, считается официальной, другая есть частное оружие. Войдя в комнату и садясь, знатный человек снимает официальную саблю и кладет возле себя или перед собою. Переводчики наши носили по одной сабле, а баниосы по две, в качестве офицеров начальников. 
Что же касается до обуви японцев, то трудно вообразить что-нибудь скромнее или неизящнее: все путешественники в этом согласны. Платья вообще очень длинны, прикрывают пятки и хорошо греют ноги; но простой народ и солдаты носят короткое платье, а потому обвертывают ноги до колен холстом. Головнин упоминает о чулках, надеваемых во время переездов; они похожи на наши, только с отдельным мешочком для большого пальца. Титсинг уверяет, что достаточные люди носят род белых носков тапи. Носки поднимаются до лодыжки и завязаны сзади двумя лентами. Женщины носят тапи круглый год. В девятый месяц, 10-го числа, мужчинам позволено являться во дворец в носках. Иные носят льняные носки с хлопчатобумажными подошвами: они завязывают их под лодыжкой. Башмаки, или правильнее сказать, сандалии — самая жалкая часть одежды японцев. Богачи носят точно такие же башмаки, как и бедные; это просто подошва, плетенная из рисовой соломы или из разрезанного тростника, без верха и без боков. Впереди прикреплена лента из рисовой соломы; от нее идет, между пальцами, другая лента во всю длину подошвы и придерживает ее; но обувь без боков движется то в одну, то в другую сторону и производит шум, похожий на шаркотню наших туфель. При дурной погоде, когда много грязи, они носят высокие деревянные подошвы с выемкой посередине. Такие подошвы поддерживаются ремнем, а иногда в подошве вделан гвоздь, который захватывают двумя пальцами ноги. Впрочем, все они снимают обувь, входя в дом, и оставляют ее перед дверями или отдают держать служителям. В комнатах они ходят на босую ногу, чтобы не запачкать циновок, которые всегда очень чисты. Старая обувь кучами валяется по дорогам и у ручейков, где пешеходы останавливаются мыть ноги. Деревенские жители собирают ее, жгут с калом (говорит Кемпфер) и потом употребляют для удобрения полей. Костюм обоих полов особенно различается головным убором. Мужчины бреют лоб и весь череп, оставляя полу венец, идущий от одного виска до другого по затылку; эти волосы приподняты, тщательно напомажены и связаны бумажным шнурком, так что на маковке выходит хохол. Трудно описать парадный головной убор мужчин, особенно знатных. В особенных случаях они надевают шапку; шапки эти различны по чину. У иных к шапкам пришиты длинные шелковые полосы, которые спускаются до уха. * * *Более века существовал обычай, по которому начальник голландской фактории обязан был ежегодно ехать в Эдо с многочисленной свитой на поклонение императору и для поднесения ему подарков. Когда торговля между Японией и Батавией упала, такие поездки показались голландцам слишком тяжелыми, и они происходили уже не так часто, пока, наконец, в 1792 году было постановлено, что десимский президент будет являться к японскому двору через каждые четыре года. Но подарки остались по-прежнему; японцы смотрят на них как на подать или дань, и поэтому подарки посылаются ежегодно, но через переводчиков, что стоит гораздо дешевле. При всеобщем мире после падения Наполеона, торговля несколько усилилась и начальник фактории Бломгоф просил позволения ездить в Эдо через два года; но японский Совет отверг его просьбу. Приготовления к поездке в Эдо требуют много времени и исполнения многих формальностей. Когда подходит время, назначенное для поездки, начальник конторы официально осведомляется у губернатора, может ли он надеяться на благосклонный прием в столице. Губернатор отвечает, что начальника конторы допустят к принесению приветствия, и просит, чтобы были приняты с его стороны меры для поддержания совершенного порядка в Дециме на время его отсутствия. Хранитель магазинов, первое лицо после начальника фактории, обыкновенно назначается на место последнего на все время поездки в Эдо, и начальник перед отъездом представляет его губернатору в прощальной аудиенции, как временного главу конторы. 
В прежнее время начальник Дэсимы ездил в Эдо в сопровождении двадцати соотечественников, но по мере уменьшения торговли, уменьшалась и его свита. С тех пор, как торжественная депутация является ко двору через каждые четыре года, в поездку отправляются только три голландца, а именно: президент или начальник фактории, секретарь его и медик или хирург. (В штате фактории нет постоянного медика, но лекари посылаются туда из Батавии каждые четыре года для пребывания в миссии.) Число японцев, провожающих начальника фактории, не так ограничено. В его свите состоит, по крайней мере, тридцать пять офицеров разных степеней и еще большее число служителей, которые состоят или при голландцах или при японских чинах. Над последними начальником поставлен гобаниози, которого по справедливости можно назвать начальником всей экспедиции. В этом качестве он носит особый титул куинин, но не ему поручена уплата расходов, а первому переводчику, который получает на этот предмет известную сумму денег от японского правительства в счет будущей торговли, или лучше сказать, в залог на товары, отложенные с этой целью; но продажа этих товаров никогда не покрывает всех издержек. Недоимка выплачивается из императорской казны, и тут кроется одна из причин, по которым прекращены ежегодные поездки в Эдо. Чиновники низшего класса, сопровождающие миссию, суть: полицейские офицеры, помощники переводчиков, смотрители за багажом, писцы, начальники носильщиков и пр. В числе служителей находятся три повара, два для голландцев и один для японцев, несколько экономов и тридцать слуг, из которых шесть непосредственно состоят при голландцах и обыкновенно называются шпионами. Сверх того, каждый голландец может содержать на свой счет японского медика, частного переводчика и других служителей. Так, доктор Зибольд, сопровождая в 1826 году полковника Стюрлера в Эдо, имел при себе молодого японского медика, рисовальщика и шесть слуг, которые помогали ему, как естествоиспытателю, в его занятиях. Ученик доктора, который не мог ехать с ним в качестве медика, был записан в список ехавших в качестве слуги одного переводчика. Словом, число людей, которых могут взять с собой голландцы, не ограничено, но внесение каждого лица в список производится с ведома губернатора, и таким образом увеличивается число шпионов, наблюдающих за миссией. Путешественники должны сами себе запасать все, что им может быть необходимо, полезно, или приятно во время путешествия, как-то: белье и платье, постели, столы, стулья, посуду столовую и кухонную и пр. Они также должны запастись съестными припасами, которых нет в Японии, и которые присылают им из Батавии, например, маслом, вином, пивом, сыром и многими другими. Также нужно им очень много варенья, пирогов, напитков, потому что придется принимать множество гостей и беспрестанно потчевать их. Если ко всем этим необходимым продуктам прибавить гардероб каждою члена миссии, подарки, назначенные сёгуну и другим важнейшим сановникам империи и товары, которые назначаются для распродажи и если принять в соображение, что состояние дорог не всегда позволяет везти все эти предметы в экипажах на колесах, и что вообще почти все переносится людьми или навьючивается на лошадей или на быков, то можно представить себе, сколько тут собирается людей, скота, носильщиков, надзирателей и др. Правда, часть багажа отправляется морем из Нагасаки в порт большого острова Ниппона, где живут микадо и его наместник сёгун; но когда миссия выходит на берег острова, то весь этот перевозной багаж присоединяется к ней, и на острове миссия состоит из двухсот человек, не менее. Такая многочисленная свита может, по нашим европейским понятием, заставить думать, что начальник голландской конторы в этом случае играет чрезвычайно важную роль. Но японским глазам дело кажется совсем иначе: и этому нельзя удивляться, когда узнаешь, по самым верным источникам, что в свите каждого японского князька (первого разряда), если он едет ко двору, находится не менее двадцати тысяч человек, и что самые неважные князьки тащат в свите своей не менее десяти тысяч! Однако ж привилегия ездить ко двору в Эдо считается принадлежностью высокого сана, и потому начальник Дэсимы, несмотря на свою бедную и жалкую свиту, играет роль довольно почетную во время этого путешествия, по крайней мере как иностранец. На всем пути обращаются с ним с величайшим уважением, и в некоторых случаях показывают ему столько же почтения, сколько самым важным туземным сановникам: так говорят самые достоверные путешественники по большой части — очевидцы. Подробности, в которые мы теперь войдем, подтвердят их свидетельство. Но следует заметить, что здесь дело идет о простой учтивости, нисколько не касаясь политики, и что чем более оказывается почестей, тем более стесняется личная свобода путешественников. По правде сказать, это уже общий и неизбежный закон в Японии; но он особенно прилагается во всей строгости к членам голландской миссии. 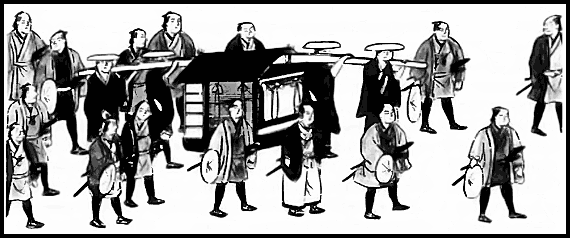
Начальник фактории путешествует в норимоне первого класса (норимон значит переносная машина). Это большая привилегия, и нужно объяснение, чтобы оценить ее. В Японии два рода паланкинов: норимоны и каго. Оба эти рода подразделяются на несколько сортов (особенно норимоны), смотря по длине и форме шеста, по числу носильщиков, и прочее. В обыкновенном разговоре употребляют без различия слова норимон или каго (часто произносят его канго) для означения носилок; но каждые носилки имеют особенное название, по чину владельца их. В маленькие каго надобно садиться на японский манер, на пятки; в больших каго или норимонах можно сидеть свободно, и даже лежать. Boт как Тунберг описывает свой норимон, замечая, что во времена Кемпфера доктор и секретарь миссии не пользовались такой милостью и принуждены были ехать всю дорогу верхом, подвергаясь холоду и дождю.
Шарльвуа говорит тоже:

Кажется, в Японии, как и в Индии, можно путешествовать довольно быстро по почте, состоящей из человеческих станций. Во всех городах путешественник находит средства, необходимые для этого странного рода перемещения, но надобно признаться, столько же удобного, сколько и странного. В Индии, Китае и Японии европеец охотно пользуется этим обычаем, забывая, что переносимый часто гораздо смешнее и жальче носильщика, особенно когда последний спотыкается или, что еще хуже, падает! Только самые важные лица имеют право возить с собой шабенто или полный чайный прибор. Начальник фактории пользуется этим правом и еще другим, более важным: он сидит в своем норимоне в таких местах, где чиновники ниже губернаторского звания должны выходить. Каждое утро гобаниози спрашивает, где он прикажет остановиться для обеда и ночлега (хотя места, где можно остановиться уже наперед назначены и их нельзя переменять без предварительного соглашения с губернатором в Нагасаки). Все три голландца помещаются в гостиницах, существующих исключительно для князей, губернаторов и высшего дворянства. Когда нет такой гостиницы в местах, где следует остановиться, их помещают в храмах; между тем как японские офицеры, даже самого высшего чина, должны довольствоваться простыми гостиницами. Из этого исключаются большие города, например Мияко и Огосака, где за миссией имеют особенное наблюдение, и потому японцы помещаются в одном месте с европейцами, за которыми присматривают. Гостиницы или постоялые дворы первого разряда называются таци, или чаще гонцин; второклассные называются ядоя. Голландского начальника встречает хозяин гостиницы в парадной одежде с обычным приветствием или комплиментом, а по всей дороге проходящие мужчины, женщины и дети кланяются до земли иностранному вельможе или становятся к нему спиной, как недостойные (по японским понятиям) взглянуть ему прямо в лицо или даже смотреть на него. Такими же почестями, такими же знаками уважения встречают японских князей при проезде их. Но так великолепно принимают начальника фактории не потому, что он начальник конторы, не потому, что представляет свою нацию, а единственно потому, что он идет к высшему правительству в Эдо, что он скоро, как бы ни был мал и ничтожен, будет иметь честь видеть сёгуна. Путешествие разделено на три этапа. Первый назначен для переезда через остров Кюсю от Нагасаки до Конкуры и продолжается около семи дней; второй, водою, от Конкуры до Симоносеки, и от Симоносеки (самого западного города Ниппона) до Фиого и Огосаки, через множество мелких островов, из которых иные плодородны, обработаны, а другие необитаемы и состоят из утесов. Переезд этот по морю очень не определен, и может продолжаться от четырех дней до трех недель. Наконец, третья часть путешествия совершается сухим путем до Эдо, в двадцать два или три дня, не включая трех дней, когда останавливаются в Огосаке и Мияко. Следственно, миссия употребляет всего пятьдесят дней для переезда из Дэсимы в Эдо; порядок шествия мы изложим по Фишеру и Зибольду. Впереди кортежа везут подарки; при них особая свита, потом идут багажи, принадлежащие к миссии, предшествуемые вагенмейстером и начальником носильщиков, с двумя низшими полицейскими офицерами в каго или норимонах низшего разряда. При них идут слуги и несут их пожитки. После них являются писец переводчиков, адъюнкт переводчиков и его помощник, каждый в своем каго и с носильщиками белья и непромокаемых плащей, числом столько, сколько следует им по чину. Потом хирург или медик голландский; перед ним несут его ящик с лекарствами; сам он в норимоне, который выше предыдущих. Потом секретарь миссии в таком же норимоне, начальник экипажей, два начальника носильщиков или вагенмейстеры первого разряда, президент конторы в норимоне высшего сорта, с восемью носильщиками, чисто одетыми и на одеждах у них заглавные буквы: Восточная компания Голландской Индии. Шествие заключают служители, переводчики, и гобаниози со своей свитой. В Японии на каждой станции или на месте отдыха всегда находятся готовые свежие носильщики, как у нас почтовые лошади; но во время путешествия из Дэсимы в Эдо голландцы не употребляют этих подстав. Известное число носильщиков нанимается для известной доли пути, например, для доставления путешественников из Нагасаки до острова Кюсю, то есть до места, где нужно садиться на суда. Иногда этим носильщикам приходится идти по семнадцати часов в сутки, но такая работа, по-видимому, не приводит их в изнеможение. Приходя на ночлег, они парятся в теплой бане, и на другое утро, на рассвете, готовы опять приняться за ношу. Во времена Кемпфера по случаю отправления в Эдо губернатор Нагасаки лично приезжал пожелать начальнику фактории счастливого пути. Ныне он присылает сказать о своем желании; но зато все японцы, официально состоящие при конторе или знакомые с одним из трех путешественников, считают долгом проводить их до первого храма в Нагасаки или приехать туда, чтобы выпить за их здоровье и за успех миссии чашку сакэ. Выехав из Нагасаки, голландцы становятся для всех классов народа предметом внимания и уважения, которые замечательны тем, что японские слуги состоящие при миссии, не всегда строго соблюдают приличия, предписываемые обычаями страны и их собственным унизительным положением. Скажем вместе с Кемпфером, что этот контраст всего заметнее на большом острове Кюсю. На большом острове Ниппон любопытство народа столь же велико, но уже не столь почтительно, оно всегда надоедает, а иногда становится дерзким. Прием у вельмож, все еще достойный и учтивый, уже не так благосклонен и любезен. Однако ж из рассказов всех путешественников ясно, что голландцам никогда не бывает так весело и приятно, как в то время, когда они не дома, если только можно назвать Дэсиму домом этого сборища изгнанников, очень похожих на людей, содержимым в тюрьме. Когда миссия проезжает по острову Кюсю, ей дают праздники поочередно все князья, по владениям которых она проходит. Отряд солдат ожидает ее на каждой новой границе; президента приветствуют от имени князя и провожают до следующей границы. Миссия садится на суда в Кокуре, где оставляет свои норимоны и канго впредь до возвращения. Во время переезда морем останавливаются часто на островах, и вельможи, принимающие миссию, стараются перещеголять друг друга учтивостью, угодливостью и заботливостью к голландцам. Гобаниози или куинин, главный распорядитель поездки, и старший переводчик помогают этому гостеприимству, столько же чистосердечному, сколько полному, и стараются занять путешественников, показывая и доставляя им случай видеть все, что каждый город или каждая местность представляет особенно любопытного и замечательного. Доктор Зибольд думает, что если приходилось иногда голландцам во время поездки в Эдо жаловаться на своих проводников, то это следует приписать их незнанию местных обычаев и их скупости. Действительно, как все необходимые издержки путешественников наперед исчислены и приведены в известную сумму, которой распоряжается первый переводчик и за которую отвечает перед своим правительством, то всякая чрезвычайная издержка, происходящая от изменения пути или от продолжительной остановки в каком-нибудь месте для личного удовольствия путешествующих, должна падать на собственный их счет: нелепо было бы полагать, что переводчик может принять ее на себя. Зибольд уверен, что, принявшись за дело своевременно и пожертвовав приличную сумму денег, миссия всегда может доставить себе все, чем захочет наслаждаться вне обыкновенной программы. 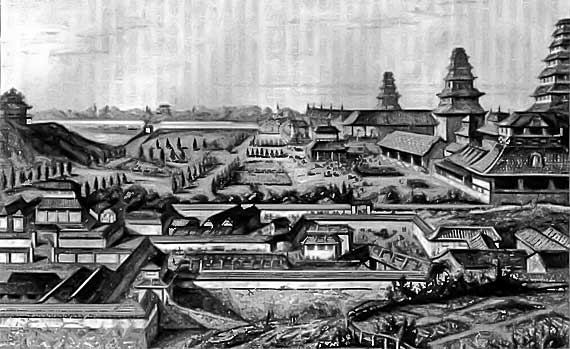
Дороги вообще хороши, содержатся порядочно и так широки, что на них свободно движутся огромные массы путешественников, о которых мы уже говорили. Отметим что дороги содержатся за счет князей, по владениям которых проходят; надзирают за ними смотритель (агодайкван) и президент округа (соя). Частые встречи многочисленных свит заставили принять за правило, чтобы каждый держался левой руки и давал проход встречающемуся по своей правой стороне. Такое же правило соблюдается на мостах. По множеству несчастных случаев, очень частых в этой гористой стране, где нередко приходится ехать по вершинам гор или спускаться по ступенькам, выбитым в утесах, в Японии нельзя постоянно употреблять колесные экипажи. Дороги обыкновенно обсажены деревьями и тщательно выметены; последнее обстоятельство надобно приписать как обычаю земледельцев, которые собирают удобрение везде, где могут, так и уважению к путешественникам. По обеим сторонам дорог встречается множество лавчонок, где выделывают и продают бесчисленное количество соломенной обуви для лошадей и вьючного скота, и сандалий для прохожих. Эта обувь для лошадей и быков одинакова во всей империи, и дает хлеб множеству бедных людей. Мы уже сказали, но нелишним считаем еще повторить, что на всех дорогах продаются книжки с указаниями мельчайших подробностей, какие могут понадобиться путешественнику. * * *Описание Кемпфера путешествий японских вельмож так живописно и занимательно во многих отношениях, что нельзя не привести его вполне, не только для развлечения, но и для пользы читателей, потому что рассказ Кемпфера бросает яркий свет на учреждения и нравы этой странной империи. Вот что говорит Кемпфер (т. II, стр. 145): «Почти невероятно, как много народа ежедневно путешествует в этой стране. Могу уверить читателя по собственному опыту (я видел это четыре раза), что на Токайдо, одном из главнейших и наиболее посещаемых семи путей Японии, в иные дни народу более, чем на больших улицах главных европейских городов. Это происходит частью от того, что жителей в Японии очень много, частью же от того, что жители беспрестанно переменяют место, или по доброй воле или по необходимости. Князь и вельможи империи, с огромнейшими свитами, ровно как и губернаторы императорских городов и земель, принадлежащих казне, занимают первое место между путешественниками. Они ежегодно раз обязаны ездить ко двору, на поклон светскому монарху, в известное время, для того назначенное. Таким образом они проезжают по большой дороге два раза в год, то есть, когда идут в Эдо и когда возвращаются оттуда. Во время путешествия их провожает весь их двор, и они совершают поездку с тем великолепием и роскошью, которые по их понятиям приличны их званию и богатству, равно как и величию мощного монарха, к которому едут. Свита иных важнейших князей империи так велика, что занимает на дороге пространство нескольких дней пути. Часто случалось мне, при самой быстрой езде, встречать в продолжение двух дней сряду багаж и свиту, предшествовавшие князю. Она состояла из служителей и низших офицеров, разделенных на мелкие отряды; сам князь встретился только на третий день, с многочисленной свитой; и все это шло в изумительном порядке. Говорят, что свита одного из важнейших дайме состоит из 20 000 человек; свита сиомио — из десяти тысяч, а свита губернатора императорского города и земель, принадлежащих казне, — из нескольких сот человек, смотря по его чину или доходам. Если несколько таких князей и вельмож с многочисленными свитами съедутся на одной дороге в одно время, то не могут не мешать друг другу, особенно если встретятся в одном сиуку (селе), потому что часто даже целого села недостаточно для помещения одной свиты. Для устранения такого неудобства, князья и вельможи приняли за правило извещать о своем проезде заблаговременно все селения и гостиницы, а именно первостатейные за месяц, а прочие за неделю или за две до проезда. Кроме того, об этом же извещаются все города, села и деревни, лежащие на пути, посредством дощечек, выставляемых на бамбуковых шестах при въезде и выезде из этих мест; на досках коротко написано, что в такое-то число такой-то вельможа проедет через это место и будет тут обедать или ночевать. 
Для удовлетворения любопытства читателя нелишним считаем описать один из таких больших поездов, впрочем, не упоминая о передовых гонцах, багаже, лошадях, канго и паланкинах, которые высылаются вперед за день или за два. Что я расскажу об этом предмете, касается не до сильнейших князей и маленьких королей, каковы владетели Сацумы, Банго, Овари, Киинокуни и Мито, но только до прочих дайме, которых мы встречали во время поездки нашей ко двору, хотя между ними нет большой разницы, кроме ливрей и пик особенного рода, произвола в распределении шествия, и числа лошадей, фассамбаков, норимонов, канго и служителей, необходимых для присмотра за всеми этими предметами. Сначала идут толпы передовых гонцов, фурьеров, секретарей, поваров и других низших должностных лиц, потому что они должны заботиться о помещении, съестных припасах и обо всем, что необходимо для принятия их господина и его двора. Потом идет княжеский тяжелый багаж на лошадях в сундучках, уже мною описанных выше, или в огромных ящиках, крытых красной лакированной кожей, с гербом хозяина; их несут на плечах носильщики, сопровождаемые смотрителями. Затем следует большое число малых предметов, принадлежащих главным офицерам, важным лицам, провожающим князя с пиками, саблями, луками и стрелами, зонтиками, лошадьми и другими знаками отличия, которые следуют их чину или должности. Наконец появляется передвигающийся в изумительном порядке собственный поезд князя. Он разделен на несколько частей; каждой начальствует особый офицер. Вот как они следуют одна за другой, по степени важности: 1) Пять прекрасных лошадей, иногда более, иногда менее, каждую ведут два конюха; за ними по два служителя; 2) пять или шесть носильщиков, иногда и более, богато одетые, идут гуськом и несут фассамбаки или лакированные сундучки, и ящички, и корзины тоже лакированные, где помещены одежда, белье и прочие принадлежности туалета князя; при каждом носильщике два служителя, которые принимают на себя его ношу поочередно; 3) десять человек, или более, тоже гуськом, несут богатые сабли, почетные пики, огнестрельное оружие в футлярах из лакированного дерева, колчаны со стрелами и луками. Иногда за этими людьми для большего великолепия идет множество носильщиков с фассамбаками, и ведут еще лошадей; 4) два или три человека несут государственные пики, знаки могущества и власти князя; они на верху убраны петушиными перьями или жесткими ремнями, или чем-нибудь другим, особенно свойственным владельцу; носильщики пик идут один за другим, а за каждым из них по два служителя; 5) дворянин несет шляпу, которую князь надевает от солнечного жара и которая покрыта черным бархатом; за ним тоже два служителя; 6) другой дворянин несет Князев зонтик, тоже покрытый черным бархатом; за ним два служителя; 7) еще более фассамбаков и лакированных сундуков, крытых цветной кожей, с гербом князя; при каждом сундуке два человека; 8) около шестнадцати пажей и камер-юнкеров князя, богато одетых, идут по два в ряд перед его норимоном; они выбраны из важнейших лиц его двора; 9) сам князь сидит в великолепном норимоне; несут его шесть или восемь человек, в богатых ливреях; другие идут около экипажа для смены их. Два или три камер-юнкера идут у дверцы, подают ему или принимают от него, что он прикажет, и помогают ему выходить из норимона; 10) две или три парадные лошади с седлами, покрытыми черным бархатом; одна из них несет огромное кресло, иногда тоже покрытое черным бархатом и поставленное на норикако из той же материи; при каждой лошади по несколько конюхов и лакеев в ливрее, а иных ведут даже пажи князя; 11) два носильщика пик; 12) десять человек или более несут на плечах огромнейшие корзины на палках, так что одна корзина спереди, другая сзади; они служат не существенно, а только для церемонии. Иногда, для увеличения толпы, к ним присоединяют несколько носильщиков фассамбаков. За собственным конвоем князя шествие продолжается так: 1) Шесть или двенадцать лошадей; ведут их конюхи и служители, все в ливреях; 2) толпа княжеских служителей и других должностных лиц его двора, с их принадлежностями и слугами, которых не мало: все они несут пики, фассамбаки, и в ливреях. Некоторые из служителей и должностных лиц несут в канго. Всю эту толпу ведет главный гофмейстер князя; несут его в великолепном норимоне. Если в путешествии находится сын князя, то он непосредственно следует за отцом, со всем своим особенным кортежем. 
Чрезвычайно любопытно и достойно удивления, как все эти лица, составляющие нескончаемую свиту, одетые в черные шелковые платья (все, кроме носильщиков пик, лакеев при норимонах и ливрейных служителей), идут в удивительном порядке, с важностью, которая им очень пристала, и в таком безмолвии, что слышны только шелест одежд и топот лошадей и людей, неразлучный со всяким движением. Но, с другой стороны, европейцу покажется очень странным, что носильщики пик и слуги при норимонах поднимают одежду и выказывают наготу своих ног зрителям. Еще страннее и смешнее шуточная пляска, в которую пускаются носильщики пик, зонтиков, шляп, сундучков, и все ливрейные лакеи, когда проходят по значительному селению или городу, или когда проходят мимо свиты другого князя или вельможи. При каждом шаге они поднимают ногу до самой спины, протягивая руки перед собой как можно дальше, и становятся в такое положение, как будто хотят плавать по воздуху. В то же время, соображаясь с прочими своими движениями, они потрясают пиками, шляпами, зонтиками, сундучками, корзинами и всем, что у них в руках. Лакеи при норимонах засучивают рукава до плеч и ходят с обнаженными локтями; они несут шест норимона на плечах или на ладони, поднимая руку выше головы. В таком положении они протягивают другую руку вперед горизонтально, и этим, равно как маленькими, мирными шагами, держа прямо ноги, показывают страх и осторожность, до крайности смешные. Если князь выходит из норимона в беседку из зелени, для него нарочно построенную на дороге, или в частный дом, чтобы выпить чашку чая, или для каких других нужд, то всегда оставляет хозяину этого места кобанг в награду; за обед и за ужин он награждает еще щедрее». Зибольд тоже рассказывает о беспрестанных путешествиях японцев, и замечает, что японский вельможа во время путешествия раб обычая и этикета. Мельчайшие подробности его одежды, конвоя, поклажи, знаков отличий, остановок на пути, его обедов, даже ночлегов, определены неизменными правилами. Потому положение вельможи очень скучно, тяжело и даже опасно в Японии… * * *22 апреля 1806 года, в десять часов утра, нам сказали, что в городе в двух лье от нашего дома вспыхнул пожар. Мы едва обратили внимание на эту весть, потому что пожары очень часты в Эдо, и каждую ясную ночь где-нибудь горит, так что поздравляют друг друга с туманной ночью, потому что при дожде эти несчастные случаи реже. Между тем большая часть города была уже в огне, и пожар направлялся в нашу сторону. В три часа пополудни, сильный ветер начал заносить искры в наш квартал, и около нас загорелись четыре дома. За два часа до приближения опасности мы сочли за благоразумное дело уложить в чемоданы наши пожитки; когда она начала грозить нам, мы уже были готовы к бегству. Когда мы вышли на улицу, все уже было в огне. Опасно было бы идти по ветру, и мы диагонально пробежали по горевшей со всех сторон улице, к открытому месту Гара, находившемуся за пожарищем. Площадь уже была покрыта народом; тут развевались флаги князей, которых дворцы уже сгорели и которые выбежали сюда с супругами и детьми. Мы последовали их примеру и уселись около небольшого голландского флага, который употреблялся нами при переезде через реки; его и подняли мы в одном углу площади. Зрелище, поразившее нас в эту минуту, было страшнее всего, что можно выразить словами. Отчаянные крики женщин и детей, вырываясь из этого огненного моря, увеличивали ужас сцены. Мы находились вне опасности, но без пристанища. Губернатор Нагасаки, Фита Бунгоно Ками, находившийся тогда в Эдо с очередным визитом, только что был заменен другим, и преемник его, поставленный в этот день губернатором, уже лишился дома, превращенного в пепел. Нам назначили для жительства дом другого губернатора Нагасаки, который находился на своем посту. Дом этот стоял на другой стороне города; нас повели туда в десять часов утра. Сын отсутствующего губернатора принял нас с удивительным вниманием и расположением. Наконец на следующее утро, почти в полдень, сильный дождь остановил пожар. Хозяин наш сказал нам, что тридцать семь княжеских дворцов истреблены дотла, и что более тысячи двухсот человек, и между ними сын князя Ава, сгорели или утонули, потому что знаменитый мост Ниппон-Басс обрушился под бежавшими, которых набралось на него слишком много. * * *Дома разделены по пяткам, и жители, состоящие в одном пятке, отвечают друг за друга; каждый обязан доводить до сведения касхира всякое преступление или необыкновенное событие, случившееся у четырех его соседей; касхир передает известие оттону, а тот городовому совету; так что мало сказать, что одна половина нации наблюдает за другой; вся нация смотрит за собой в сотни тысяч глаз. Главы семейства должны смотреть беспрестанно за той частью улицы, которая прилегает к их дому; малейший случай, побои, ссора между посторонними, — приписываются их нерадению. Кто забудет сделать самое незначительное донесение, того приговаривают к штрафу, телесному наказанию, тюрьме или к домашнему аресту. Это последнее наказание гораздо строже в Японии, чем во всех других странах: все семейство виновного лишается позволения иметь сообщение с кем бы то ни было; двери и окна дома запираются, чтобы предупредить бегство. Если виноват чиновник, то его отрешают от должности и лишают жалованья на все то время, пока он должен сидеть под арестом; если купец или ремесленник, то дела его приостанавливаются; притом же всем мужчинам в арестованном доме запрещается бриться, что столько же постыдно, сколько и неудобно. Не можем сказать, каким образом семейство арестованного добывает себе пищу в продолжение заключения. 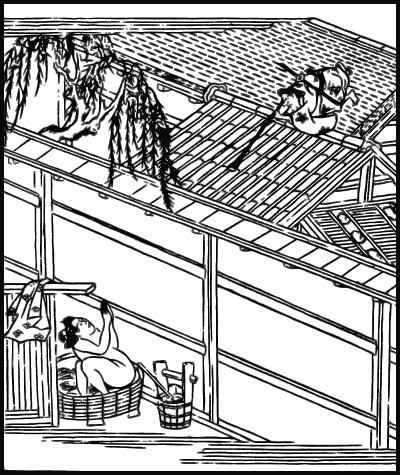
При такой системе взаимного подсматривания, необходимо было дозволить выбирать соседей. Поэтому никто не может переехать на новое место, не получив от прежних соседей одобрительного свидетельства, а от новых — формального согласия на принятие его в ту улицу, где он намерен поселиться. Уверяют, что преступник не может найти убежища или пристанища в целой империи, и что во всем мире нет страны, где кражи случались бы так редко; в Японии можно спать с открытыми дверями и не бояться воров. Но надобно признаться, что эта безопасность покупается слишком дорогой ценой. * * *Японские законы кровожадны; они почти не знают разных степеней вины: например, если рассматривают воровство, то вовсе не обращают внимания, при каких обстоятельствах оно совершено. Штраф полагается только за незначительные проступки против правил городской полиции; японские законодатели полагают, что наказания такого рода могут дать несправедливое преимущество богатому перед бедным. Скорее всего, японские законодатели совершенно правы. Богачи не чувствуют наказания штрафом, потому что слишком богаты и им ничего не стоит заплатить деньги; бедные же тоже не боятся штрафа, потому что с них взять нечего. Вообще штрафы — хорошее наказание в странах образованных; а в странах варварских — это просто обман, который всем понятен, и над которым все смеются. Чрезвычайно стараются дать понятие о законах всем вообще классам. В городах и селениях объявляются новые законы с возвышения, окруженного деревянной решеткой; потом прибивают к нему новый закон, чтобы его могли знать и те, кто не присутствовал при его объявлении. На этом возвышении постоянно вывешены все полицейские постановления и объявления. Правосудие оказывается всякому без различия званий и состояний. Но преступление против безопасности государства наказывается гораздо строже, чем преступления против частных лиц. Это происходит от того, что люди, обязанные наказывать преступления первого рода, верно будут казнены смертью, если нестрого поступят с виновными; между тем как частные преступления преследуются только обиженным, который часто не хочет или не может, из одного удовольствия мщения, прибавлять издержки уголовного судопроизводства к множеству других неприятностей, которые он уже перенес. Маловажные жалобы приносятся оттонам, которые заменяют суд первой инстанции, при помощи и под надзором шпионов. Все производство дела и самый приговор — тайна. Но можно жаловаться на них в публичные суды. Чтобы избежать публичности, этим городским чиновникам поручено наказывать некоторые легкие проступки найбон, то есть втихомолку. Таким образом оберегают честь и самолюбие не одного провинившегося в чем-нибудь неважном. Заседание публичных судов очень торжественны; говорят, что они не тянут дел и хорошо ведут их; редко истина скроется от них; жаль только, что в случае неимения доказательств, они употребляют пытку! При таком страшном средстве, можно всегда раскрыть дело, но всегда ли будет в нем видна истина? Не найдется ли таких несчастных, которые, для избежания физической мучительной боли, сознаются в небывалых преступлениях, оговорят и друзей и недругов, только бы отсрочить свидание с палачом хоть на несколько дней? Там, где существует пытка, плохое правосудие. Вот почему надобно с крайней осторожностью верить тем путешественникам, которые так горячо расхваливают японское правосудие и судопроизводство. Притом же на решения публичных судов нет аппеляции. Смертная казнь влечет за собой конфискацию имения осужденного преступника и опалу всего его семейства. Поэтому всякий преступник (из высших классов) предупреждает приговор, налагая сам на себя руки. Так нелепые начала в законодательстве ведут к самым гибельным последствиям. Наказывая жену и детей преступника, часто невинных, японский закон заставляет людей посягать на самоубийство! Волосы становятся дыбом, когда подумаешь, что тридцать пять миллионов людей живут в таком страшном положении, которое европеец не снес бы в продолжение нескольких часов, не сойдя с ума. Если преступника схватили так скоро, что он не успел прибегнуть к последнему решительному средству, и если семейство его внушает столько участия, что судьи и начальники тюрьмы решаются подвергнуться опасности в пользу его, то есть еще два средства умереть найбон (тайком) прежде произнесения приговора. В самом благоприятном случае, ему передают саблю и он распарывает себе брюхо. Однако это средство употребляется очень редко, потому что друг, передающий оружие, подвергается почти неизбежной опасности. Второй способ употребляется чаще: подсудимого подвергают пытке, как бы желая что-нибудь выведать из него, и приказывают палачу умертвить его прежде, чем он успеет отвечать. В обоих случаях распускают слух, что подсудимый умер от сильного припадка болезни, и так как его нельзя признать виновным, потому что он не осужден, то возвращают труп его семейству, и оно таким образом не подвергается страшным последствиям, сопровождающим смертную казнь. Когда осужденный не заслуживает такого участия, его связывают, сажают на лошадь и везут на место казни, то есть, на открытую площадь вне города. На знамени написано его преступление; герольды провозглашают вину везде, где преступник проезжает. Каждый может во время зловещего перехода предлагать осужденному угощение, но почти никто не пользуется этим позволением. Судьи и все члены суда занимают почетные места на площади казни; они окружены знаками судейского звания и обнаженными мечами. Палач предлагает чашу сакэ, сушеную или соленую рыбу, коренья, грибы, фрукты или пирожное осужденному, который может разделить этот последний обед с друзьями. Потом кладут его на циновку между двумя грудами песку и отрубают мечом голову. Голову втыкают на кол; а над ним надпись с означением преступления. Только через три дня могут родственники прибрать труп, или лучше сказать, остатки объеденные хищными птицами. Так голландские путешественники описывают смертную казнь, которую сами видели в Нагасаки. Но должно думать что эта форма употребляется только с преступниками низшего класса. Несмотря на всю свою определенность, японские законы позволяют суду выбирать форму казни. Как бы то ни было, описанная нами форма принадлежит к числу самых милостивых. Известно, что преступников часто подвергают публичной пытке, и что ловкость палача измеряется числом ударов, которые он может нанести своей жертве, не убив его. Во всяком случае, он может дать не больше шестнадцати ударов. Говорят что в таких случаях молодые японцы дают палачу новое свое оружие для пробы и принимают живейшее участие в этих кровавых казнях, особенно когда к ним прибавляется пытка. Из зрелищ этого рода самое забавное для них пляска смерти; так называют они казнь во время которой несчастного обвиненного одевают в рубашку из тростника и поджигают: он, разумеется, страшно пляшет. 
Тюрьмы для обыкновенных преступников устроены довольно сносно. Но все это нимало не относится к тюрьмам, в которых содержатся важные преступники прежде или после суда. Они не напрасно называются гокюйя или гокуйя (ад). В этих тюрьмах, находящихся в здании губернаторского управления, помещают по пятнадцать и по двадцать человек в одном покое, в который свет и воздух проходят через небольшое отверстие, проделанное в потолке и прикрытое решеткой. Дверь отворяется только для выпуска или впуска преступников. Им не дают ни книг, ни табаку, не допускают ни малейшего развлечения. Постелей нет. Вместо шелковых или тонких холстинных поясов надевают на них пояса соломенные, знак бесчестия. В одну дыру подают кушанье и принимают нечистоты. Кормят их самыми дурными припасами, и хотя им позволено получать кушанье из дому, однако же они не могут пользоваться этой милостью, если присылаемого кушанья недостаточно на всех заключенных: обитатели этих адских мест преданы полному своеволию самых гнусных страстей и отнимают друг у друга что хотят. Из этого выходит, что самые злые господствуют в этих убежищах преступления, и слабые в совершенной зависимости у сильных. * * *Главное управление почт (для писем и курьеров) находится в Огосаки, потому что этот город считается первым по торговле в империи. Из него беспрестанно сносятся с столицами Мияко и Эдо, с резиденциями князей, губернаторов и с Нагасаки невольным местом жительства иностранцев. Почта непременно идет из Оюсаки 7, 17 и 27 числа к аждиго месяца в Нагасаки, а 8, 18 и 28 в Мияко и Эдо. Впрочем, ежедневно можно переписываться из Огосаки с Мияко. Письма вкладываются в сумки из клеенки: ее несет на палке скороход. Подбегая к следующей станции, он кричит; от него принимает сумку другой скороход и бежит далее; таким образом остановки нет нигде. Если в сумке есть ценные бумаги, ее несут два скорохода; их называют фи-фияк от китайского слова; это значит крылатые ноги. Если величайший и важнейший князь империи встретит почтового гонца, то обязан дать ему дорогу и позаботиться, чтобы то же сделала его свита. Кроме этих постоянных почт всегда можно послать нарочного; плата такому скороходу зависит от времени года. От Огосаки до Нагасаки платят от 200 до 400 рублей ассигнациями. Если же надобно передать важное известие как можно скорее, то зажигают на вершинах гор огни или пускают ракеты. Земледелием японцы занимаются прилежно и успешно. Вся земля обработана, до самых вершин гор, за исключением дорог и мест, где растут леса, необходимые для снабжения империи строевым лесом и углем. Там, где нельзя пахать волами, люди заменяют их или даже вместо сохи действуют руками. Почва вообще посредственна: но с помощью труда, дельно рассчитанных орошения и сильного удобрения из нее извлекают нередко самую большую жатву. Всего более возделывают рис, который считается лучшим в Азии. Самый уважаемый сорт был, как снег, и так питателен, что по словам Кемпфера, иностранцы, непривыкшие к нему, не могут съесть его много за один раз. Ячмень и пшеница также растут в Японии. Первый употребляется единственно на корм скота; да и пшеницу мало уважают. Однако из нее приготовляют пироги; она же входит в состав сои, японской приправы, которая в большом употреблении во всей Японии и которую привозят даже в Европу. Н. Бартошевский. «Япония. (Очерки из записок путешественника вокруг света)»[116] Вряд ли где-либо существует страна, обычаи которой представляют более оригинальности и интереса, чем японские. Нигде вы не встретите такой самобытности, таких своеобразных форм в частной и общественной жизни; здесь вы на каждом шагу наталкиваетесь на что-то небывалое и немыслимое у нас; каждая мелочь говорит вам, что тут люди шли совершенно не тем путем, как мы, и что история привела их и нас далеко не к тем же результатам. Совокупность явлений здешней, как внешней, так и внутренней жизни, часто незначительных и незаметных порознь, представляет вам в целом загадку, перед которой вы невольно задумываетесь, ища ответа на множество вопросов, родившихся в вашей голове при знакомстве со столь оригинальной страной. Довольно взглянуть, например, на их чайные дома, чтобы окончательно потеряться в догадках относительно нравственной, религиозной и общественной стороны их обычаев. Действительно, что вы скажете о заведении, в котором воспитываются по несколько сот девочек со специальной целью сделаться, по наступлении 14-летнего возраста, наложницей офицера или чиновника, или женою человека более низкого сословия, чаще же всего просто публичною женщиной? В Европе, конечно, такое заведение считалось бы и было бы на самом деле рассадником разврата; здесь, напротив, как эти дома, так и пансионерки их пользуются уважением; публичные женщины Японии не только не носят такой отличительный характер, как наши, но и ничем не отличаются от прочих обитательниц Японских островов. Чайные дома — это большие здания, где помешается иногда до четырехсот девиц, большей частью дочерей бедных родителей, отданных на воспитание какой-нибудь старухе; за это родители денег не платят, а напротив, часто содержательница сама дает им деньги, уверенная, что выручит их с избытком, продав свою воспитанницу в жены или наложницы, когда ей наступит 14 лет. Эти дома нельзя назвать гостиницами, хотя в них заходят поесть и попить, как в наши рестораны; не похожи они и на публичные дома, как есть они у нас, хотя цель существования их тождественна, зато, как я сказал, громадна разница в том, как стоят они в общественном мнении; вследствие чего и самая обстановка не имеет такого оттенка пошлости и грязности, как у нас; относительно поведения девушек не может быть и сравнения, насколько скромно и прилично они себя держат. Чайных домов в каждом городе множество, и все они устроены по одному образцу, в них ходят повеселиться не только холостые, но и женатые, часто со своими женами, и действительно находят здесь развлечения самые разнообразные: здесь можно встретить и актера, и акробата, и танцора, и музыканта, но главное, что нравится публике — это гейши. В гейши выбирают молоденьких девочек, особенно способных нравиться; они поют, играют на трехструнной гитаре, говорят стихи, загадки, сказки, вообще занимают публику различными способами, но главное их назначение — своею красотой и своими сальными играми возбуждать страсти молодых людей, заходящих в дом, для чего они часто танцуют совершенно нагие и делают различные движения не совсем скромного свойства, но сами они всегда должны оставаться целомудренными. Гейши считаются самыми образованными женщинами в Японии, они не только знакомы с шитьем, вышиванием и разными мелкими ручными работами, но умеют даже сочинять стихи и сказки. Вообще всех девочек до четырнадцатилетнего возраста учат в чайных домах разным наукам. В Японии женщины получают одинаковое образование с мужчинами и обязаны уметь читать и писать. Эти подростки до четырнадцатилетнего возраста, называемые хавроси, находятся в услужении у более взрослых девиц; положение хаврось самое скверное, их худо кормят и одевают и заставляют кроме наук исполнять самые грязные работы. Японки очень недурны собой, но они весьма скоро старятся и тогда делаются безобразными, чему способствует в особенности обычай, предписывающий замужним женщинам чернить себе зубы и выщипывать волосы у бровей; говорят, что это делается для предупреждения ловеласов, потому что закон смотрит весьма неодинаково на связь с женщиной и девушкой; например, изнасиловавший девушку не подвергается никакому наказанию, тогда как изнасиловавший чужую жену обязан распороть себе живот: несмотря на такие строгости, интриги с замужними встречаются довольно часто. Японцы нрава веселого; они постоянно шутят, поют песни, играют и танцуют. Шутки их довольно остры, но всегда циничны. Смеются они часто, но еще чаще довольно глупо улыбаются повторяя свое неизменное хе, хе, то есть да, да. Их песни монотонны, унылы и все на один мотив; то же надо сказать и об их игре на инструментах. Танцы состоят из кривлянья и мимики; лицом они выделывают ужасные гримасы, а телом движения, по большей части очень нескромные. Японцы — большие театралы, у них в каждом городе непременно есть спектакль. Канва пьес большей частью историческая, интрига всегда сальна до крайности. Некоторые пьесы могли бы быть интересны, если бы говорились намеками, а не так бесцеремонно: да кроме того, так как все эти пьесы отнесены за несколько тысяч лет назад то и исполнители, желая подражать выговору и манерам предков, коверкают язык, делают отвратительные гримасы, уродливые и неестественные движения и издают совершенно нечеловеческие звуки. Семейная жизнь японцев устроена очень хорошо. Муж, занимая какую-нибудь должность, вполне предоставляет управление домом в распоряжение жены, на которой, кроме обязанностей хозяйки и матери, лежит обыкновенно и обязанность помогать мужу в улучшении средств к существованию. Именно поэтому, хотя общественное положение женщины, вследствие малого развития народа, совершенно бесправное, в семействе она пользуется одинаковым влиянием с мужем, вследствие чего в семье постоянно господствует согласие. Так что нужно удивляться, что японец, при необузданности своих страстей, при диких и суеверных взглядах, существующих во всех классах общества, держит себя дома как вполне цивилизованный человек, что совершенно противоположно нашему обычаю держать себя человеком в обществе и зверем дома. Я жил в четырех японских семействах и был изумлен отношениями, существующими между супругами: не было слышно не только драк, но даже крупных споров, а между тем эти лица были лодочниками, каменщиками, носильщиками и, следовательно, принадлежали к низшим слоям общества. 
Женитьба совершается без всякого религиозного обряда. При сватовстве родители, желая показать себя более богатыми, чем они есть, делают молодым подарки, насколько позволяет состояние; сватают обыкновенно не родители и не родственники, а кто-нибудь из лиц уважаемых и высоко поставленных в обществе. Впрочем иногда, хотя очень редко, японец сам сватает себе невесту; для этого он втыкает ветку в дом своей возлюбленной и ждет, чтобы ее убрали; что означает согласие; если же ветка остается, это есть знак отказа. При этом родители стараются подать вид, что молодые совершенно не знают друг друга, хотя часто известно, что они в таких отношениях, которые делают самый брак лишним. Лица среднего сословия берут жен из чайных домов, если это позволяют обстоятельства, так как хозяйке надо заплатить за воспитанницу некоторую, иногда довольно значительную, сумму денег. Японские женщины выходят замуж лет 14 или 15, но мужчины редко женятся так рано. De jure японец может иметь только одну жену, исключая императора, который для продолжения своего рода имеет их 12, но de facto имеют и более одной жены, но держат их не при себе, а в чайном доме. По поводу брака нелишне упомянуть об обычае японок повязывать во время беременности свой живот красным крепом для избежания преждевременных родов; они уверены даже, что этой мерой можно остановить роды уже начавшиеся, что доказывают они примером одной из императриц, которая, почувствовав начало родов во время сражения с корейцами, подвязала себе живот и этим отсрочила их до окончания битвы. Женитьба европейцев на японках представляет явление совершенно особенное: смешение брачных форм Европы и Японии образовало смесь не представляющего положительного сходства ни с нашим, ни с их браком и, нужно сознаться, что тут японские обычаи изменены далеко не к лучшему: европеец, не всегда могущий воспользоваться у себя дома сладостями гражданского брака, с удовольствием воспользовался им там, где он вошел в обычай, но в то же время не мог отрешиться от своих чисто европейских предрассудков; он смотрит на нее не как на жену, а как на публичную женщину, и обращается с нею с той подлой высокомерностью, с тем глубоким презрением, какие характеризуют отношения наших мужчин к падшим женщинам; характеристичной чертой этого обращения служат беспощадные нападки и глумление над обычаями страны, направленные не на улучшение взглядов или привычек женщины, а на то, чтобы втоптать ее в грязь, показав свое превосходство, тогда как на самом деле эти господа ближе японцев к действительно образованным людям Европы только тем фраком, который надет на их спине. 
Понятно, что образ действия этих господ возбудил справедливое негодование японцев, но к несчастью этот вопрос умели обратить в политический, после чего уничтожился всякий предел своеволию европейцев. Так, я был очевидцем того, как один японец, возмущенный оскорблением, нанесенным каким-то англичанином его жене, бросился на него с обнаженной саблей, но был остановлен и казнен как оскорбитель в его лице всей английской нации. Впрочем, иного поведения и нельзя ожидать со стороны этих господ, в большинстве случаев проворовавшихся в своем отечестве и бежавших из него сюда с целью и здесь грабить и эксплуатировать кого только можно под разными приличными предлогами; одним словом, редко кто из иностранцев, обитающих здесь, не купец в самом полном, самом мерзком значении этого слова. Исключение из этого правила составляют только американцы, в большинстве случаев народ порядочный, и русские, представителями которых служат военные морские офицеры. Индифферентные ко всему, что прямо не касается их удовольствий, они совершенно не вмешиваются в политические и общественные дела Японии, чем приобрели полное сочувствие туземцев, которым очень нравится, что члены такой сильной нации, как Россия, не притесняют их, пользуясь в широкой степени лишь одним правом здесь живущих европейцев — жениться на короткий срок на японских женщинах. Сладость этой части японских обычаев пришлась очень по вкусу представителям нашей нации; они поселились в Нагасаки совершенно особняком, не в самом городе, а в подгородней деревне Инаси. Сюда ежемесячно являются к ним переменные жены; здесь каждый занимает со своей супругой отдельный дом, делая балы и пикники на японский манер; вообще здесь время проводится очень весело и у всякого русского, побывавшего в Японии, время, проведенное здесь, служит источником приятнейших воспоминаний его жизни. Японки с гораздо большим удовольствием делаются женами русских, чем французов или англичан, потому что эти, во-первых, очень грубы с ними, во-вторых, взыскательны относительно чистоты, тогда как наши соотечественники не только не требуют частой мены белья, что для японца страшное мученье, но даже совершенно освобождают от ношения его. Кроме того, англичанин или француз ни за что не позволит жене вмешиваться в его дела, тогда как русские поверяют им свои тайны, если филологические познания им это позволяют. Жизнь в Инаси устроилась совершенно иначе, чем в самом городе: вечером, около шести часов, офицеры, большей частью свободные с этого времени, пристают к деревне на военных шлюпках и японских лодках, называемых фунэ, на берегу дожидает каждого жена, и он отправляется с ней под руку домой. Здесь хозяйка, большей частью старая баба, непременно начинает выхваливать верность жены, любовь ее к нему и тоску в его отсутствие, сводя разговор на то, что не мешало бы за все это сделать какой-нибудь подарок своей возлюбленной, чтоб тем еще более возбудить страсть к себе. Супруг, не обращая внимания на эту песню, поющуюся всегда на одну и ту же тему, снимает с себя военные доспехи и, облачась в японский халат, начинает беседовать со своей дражайшей половиной, но так как его знания в языке очень ограниченны, то разговор сводится к повторению самых казенных фраз: анати атакосисуки — «вы меня любите?», дазо амакч — «пожалуйста, поцелуйте меня», аната копому особу — «вам хочется гулять?», и когда, наконец, весь небольшой запас знакомых ему фраз из двух и трех слов иссякнет, то он начинает перебирать все знакомые ему слова в каком придется порядке, выходит страшная чепуха, и он хохочет до слез, заставляя и жену подражать ему, и это занятие прерывается только приходом гостей. Если пришла какая-нибудь подруга жены, то разговор продолжается в том же роде, переходя понемногу в эротический тон, на что дамы сердятся, так как оратор, по неумению высказываться, изъясняется знаками, показывая и трогая то, чего не может назвать, пока женщины не убегут к более скромному мужу. Если же гости пришли к мужу, то интересный разговор уступает место бутылке портера, или же, расставшись со своей дражайшей половиной, хозяин отправляется в клуб, где всегда встречает большое общество. Тут уж место дам с узкими глазами занимают дамы карточные. В эти минуты, конечно, дамы, лежащие на столе, становятся гораздо дороже оставшихся дома, и зачастую, благодаря неверности рисованных дам, живые тут же переходят из рук одного супруга во владение другого. Японцы любят чистоту, доказательством чего может служить поразительная чистота их циновок, составляющих употребительнейшую их мебель, так как на них они сидят, спят, едят и пьют. Однако чистота понимается ими как-то оригинально — чистя беспрестанно свои циновки, моясь ежедневно в ваннах, они, вместе с тем, не носят ничего похожего на белье, и прямо на чистое, еще мокрое от купанья тело натягивают свои грязные, никогда не меняемые халаты. Ванны Японии по большей части общественные; мужчины купаются в одно время с женщинами. Обыкновенно в ванну может поместиться человек 15; мыла никто не употребляет, исключая жен европейцев, которые из любви к своим сожителям, привыкают даже носить белье. За удовольствие воспользоваться ванной платится один темп, мелкая монета около 2 1/2 копейки, при том, что в бу, четырехугольной серебряной монете, равняющейся 44 копейкам, считается от 17 до 20 темпов, смотря по курсу. Все без исключения японцы и японки курят табак, который замечателен красивой крошкой, но не так вкусен, как наши сорта, в особенности же не нравится он русским по своей слабости. Курят его из очень маленьких трубочек, в которых входит табаку не больше одной затяжки, так как он портится от дыма во время продолжительного курения из большой трубки. Таких трубочек курильщик вытянет до тысячи, потому что если он не занят, то целый день сидит у очага, перед ним стоит чайник, глиняный или медный, и непременно табаку-бок, т. е. ящик с табаком, горячими угольями и пепельницей. Не переставая, он то набивает трубку, то выколачивает из нее пепел, и все это так прилежно и аккуратно, что может показаться, будто он углубился в весьма важное занятие. Костюм японца состоит из длинного киримона (халата), перевязанного широким поясом и имеющего разрезные рукава, в которых устроены карманы для бумаги, употребляемой вместо платков. Бумага японская замечательна по своим свойствам: это нечто среднее между нашей бумагой и полотном; она мягка, тонка и имеет некоторое сходство с промокательной; ее употребляют вместо платков, полотенец, салфеток, даже вместо стекол в рамах; на ней пишут, рисуют и вообще она в большом употреблении; выделывают ее из коры одного дерева, и это производство достигает больших размеров. Сверх киримона японцы надевают короткую накидку, также с разрезными рукавами; японки же надевают один на другой несколько халатов, равной длины, но различных цветов и достоинства, нижняя часть тела покрывается большим платком, заменяющим наши юбки. Ноги японцев обуты в зори, соломенные сандалии, прикрепленные к большому пальцу ноги; идя по улицам, они страшно стучат ими, особенно в дождливую погоду, когда зори заменяются деревянными скамеечками. 
Ночью каждый японец ходит с бумажным фонарем и обыкновенно напевает себе под нос песню на один и тот же монотонный мотив, что, со шлепаньем их сандалий и мельканьем их тусклых фонариков, производит самое неприятное впечатление. Японцы спят на полу, и чтобы не помять своей прически, которая стоит им много времени и больших трудов, подкладывают под шею деревянные ящички, поверх которых, чтобы было мягче лежать, привязывают сверток бумаги или тряпок. Японцы, как женщины, так и мужчины, не покрывают головы, кроме офицеров, надевающих при парадной форме китайские шляпы; при дожде головы повязывают платками и развертываются бумажные зонтики, которые при их дешевизне носятся даже очень бедными людьми. Сословия японского народа… не представляют между собой тех резких различий, которые так заметны у нас. По нежности кожи, малокровности, тонкости костей и другим признакам, так резко отличающим наши аристократические классы, никак нельзя отличить знатного японца от плебея. Привычки, наклонности и строй домашней жизни совершенно одинаковы во всех слоях общества. Офицер, чиновник правительства, купец, земледелец, работник — все живут одинаково, все однообразно устраивают свое жилище и домашнюю обстановку; богатство делает в них только качественное и количественное различие, оставляя те же основные черты: чистота циновки у губернатора такая же, как и у земледельца, хотя красивее и дороже; все носят платье одного покроя, хотя и различных ценностей; даже касательно комфорта жилище богача не представляет большой разницы с домом бедняка. Ростом японцы невелики и женщины гораздо меньше мужчин; средний рост мужчин 5 футов и 1 дюйм, женщины около 4 футов и 2 дюйма. Японцы вообще хорошо сложены, хотя несколько худощавы; руки и ноги их, особенно у женщин, очень красивы; глаза у всех черные, но небольшие и прорезанные несколько вкось; волосы черные и густые, цвет кожи не желтый, как у китайцев, но оливковый, руки и ноги белее остального тела, лицо же, особенно у женщин, почти совсем белое или скорее матовое, что очень красиво при черных глазах и замечательной белизне зубов. Это, конечно, не касается замужних, которым обычай предписывает преждевременно безобразиться, черня себе зубы. Растительность волос на лице несколько значительнее, чем у китайцев, но все же не велика, и они волос не любят и потому тщательно выбривают не только на бороде, но и в ушах и носу. Головы бреют они только переднюю часть, остальные же волосы, сложенные в пучок, кладутся на эту выбритую часть. Только во время траура японец запускает волосы как на лице, так и на макушке. Д. И. Шрейдер. Япония и японцы.[117] (Фрагменты из книги) Я должен заметить, что японцы чрезвычайно чистоплотны и опрятны, и одной из необходимых принадлежностей домашнего обихода у каждого мало-мальски зажиточного японца является ванна. Но принять ванну без гостя, — это было бы, по японским понятиям, в высшей степени невежливо, и вся семья, вопреки своей долголетней привычке, терпеливо дожидается моего пробуждения. Не зная еще, в чем состоит принятие японской ванны, я уже заранее, по опыту вчерашнего дня приученный к различным неожиданностям, начинаю внутренне беспокоиться (и как впоследствии оказалось, не без основания), но не подавая никому и вида о том, иду вслед за хозяином. Ванная — тут же, в обитаемом нами домике. Захожу и с любопытством разглядываю это невиданное еще мною сооружение. Японская ванна — это огромное овальное ведро, с поднимающейся посреди него печной трубой, выходящей наружу, сквозь крышу, а иногда и сквозь стену. Ведро наполняется водой, а труба — горящими древесными углями. Когда температура начала достигать уже точки кипения, хозяин пригласил меня войти в это ведро. Угощение ванной, как я уже сказал, считается одной из самых крупных и необходимых любезностей, отказаться от которой, не желая нанести кровной обиды гостеприимным и радушным хозяевам, нет никакой возможности. В качестве гостя, я приглашаюсь первым войти в ванну; при этом мой квартирный хозяин и все домочадцы, не исключая женщин и детей, стоят вокруг нас в ожидании своей очереди… Вся эта оригинальная и необычная обстановка ставит меня в крайне неловкое положение. Я конфужусь, краснею, отговариваюсь под разными предлогами и силюсь вырваться на свою половину, — но, в конце концов приходится уступить настоятельным просьбам хозяина, повторяемым единодушным хором голосов всего общества, не исключая и дам, и я, волей-неволей, покоряюсь судьбе… Но уже со второй ступеньки я выскакиваю из воды, как ошпаренный: пока я упирался, робел и смущался, — вода достигла уже почти 80 градусов по Цельсию… Тем не менее, после меня, в строгой очереди, входит в ванну хозяин дома, затем хозяйка, сыновья, дочери и все домочадцы поочередно. Каждый из них сидит в ванне не менее пяти-десяти минут, пока, в буквальном смысле, не доварится в ней. * * *В полдень следующего дня меня приглашают к обеду. В это время приходят гости, и я имею возможность наделе познакомиться с «японскими церемониями». Гости (их явилось очень много за раз) входят с мнимой и притворной неуверенностью, низко кланяясь и прижимая руки к коленям, если это мужчины, или падая на колени и касаясь лбом земли, если это женщины. Церемониал поклонов довольно сложен и продолжителен и европейцу, попадающему волею судеб в японское общество, нужно в точности проделывать то же, что проделывают хозяева для того чтобы, как говорится, «не ударить лицом в грязь». Со стороны вся сцена приветствий получает крайне смехотворный и забавный вид, как об этом можно судить по помещаемому рисунку. 
Хозяева, видимо тронутые вниманием гостей, встречают их очень вычурным приветствием. — Благодарим вас за огромное удовольствие, которое доставила нам последняя встреча с вами, — говорят они, обращаясь к гостям. Гость не остается в долгу и старается быть еще вежливее. — Прошу вашего извинения за мою грубость, невоспитанность и неделикатность, которой я вас вероятно, тогда обидел, — возражает он им, не переставая униженно кланяться до самого пояса. — Как можете вы говорить это, когда я, а не вы, виноват в том, что не оказал вам должного почтения? — с живостью прерывает его хозяин. — Что вы? — возражает хозяину гость: — выдали мне урок хороших манер! — Но как могли вы снизойти до того, чтобы удостоить своим посещением мою убогую лачугу? — не перестает ломаться хозяин, корча при этом удивленную физиономию. — Напротив, — я никогда не перестану удивляться вашей доброте и снисходительности, позволившей вам принять в таком почтенном доме, как ваш, такую ничтожную личность, как я, — возражает гость, как будто не на шутку удивляясь невероятной снисходительности моего хозяина. На этом почти всегда прекращается обычный церемониал приветствий. Весь этот странный диалог сопровождается низкими поклонами и хрипением ускоренного дыхания, что должно служить признаком особого усердия, в котором каждая сторона, видимо, желает превзойти другую. Наконец, раздается заключительный возглас: «Аригато!», что означает: «милости просим!», — и гости переступают порог дома. Здесь они держатся сначала немного церемонно и принужденно, но вскоре сбрасывают с себя эту необходимую по этикету маску и становятся очень милыми, простыми и сообщительными людьми. Хозяин и хозяйка лезут из кожи вон, чтобы сделать для своих гостей приятным пребывание в их доме. Они занимают их с таким умением, радушием и гостеприимством, что им могла бы позавидовать любая европейская салонная львица. Им показывают различные вещи: альбомы, редкости, фотографические снимки, картины; гости усердно рассматривают все эти вещи, испуская возгласы удивления вкусу и выбору хозяев, ибо по японскому этикету принято обнаруживать большой интерес в этих случаях. Наконец, начинается обед. Гости рассаживаются в кружок на циновках, не переставая весело и оживленно болтать, между тем как хозяйка, ее дочери и прислуга не перестают подавать нам всевозможные блюда. Сначала подаются на лакированном табурете (деревянном или из папье-маше) чашки, наполненные супом и вареною рыбой. Суп приходится пить прямо из чашек, а рыбу, вместо вилок и ножей, употребление которых японцы не знают, нужно есть двумя чистыми лакированными палочками цилиндрической формы. Управляться этими орудиями мне в высшей степени трудно; по крайне мере, мне ни разу не удавалось доносить пищу до рта и почти всегда приходилось ловить ее на лету руками. Но японцы замечательно выдержанны и тактичны: они и вида не подают, что от них не ускользает мое замешательство, вызываемое каждый раз моими неудачными опытами, и продолжают оживленно болтать, как ни в чем не бывало, удивительно ловко управляясь этими своеобразными вилками, которые они пускают в ход, держа их лишь двумя пальцами — указательным и безымянным — своей правой руки. После супа подается еще длинный ряд разнообразных блюд в микроскопических дозах: дичь, корни какой-то лилии, морская капуста, джинь-жан, трепанги,[118] еще какие-то супы — всего, кажется, до пятнадцати блюд. В заключение, подано было неизбежное кэри. Кэри — это крутая рисовая каша, облитая крепчайшим соусом, называемом «соей» с прибавкой тонких ломтиков мяса. Когда возьмешь это блюдо в рот, то оно буквально обжигает, как раскаленным железом. «Соя» приготовляется из пшеницы, бобов, поваренной соли и воды и в полузакрытой кадке вся эта смесь бродит от 1 1/2 до 5 лет! Еще на пароходе мне сообщили туземную поговорку насчет сои: японцы говорят, что «соя тем лучше, чем больше утонет в ней крыс, пока она готовится на фабрике». При известном обилии крыс в Японии это слишком похоже на правду. Кушанье это приелось мне еще раньше, когда я плавал из Владивостока в Японию на «Сатцума-Мару» и в отеле «Belle-vue». Оно очень остро и пикантно на вкус, но после того как я узнал секрет приготовления «сои», я уже не прикасался к этому блюду. К десерту поданы были фрукты, душистый чай в великолепных фарфоровых чашках величиною с наперсток и, наконец, в большом лакированном ящике ароматичный японский табак, состоящий из тончайших волокон, которым набивали свои трубки все сидящие за столом, не исключая подростков обоего пола и женщин. После этого молодежь и дамы с хозяйкой отправились в садик гулять, а мужчины остались и продолжали пить саке — рисовую водку, которую еще раньше подавали всем во время обеда в изящных фарфоровых сосудах-флаконах. Каждому из обедавших подан был перед этим сосуд с чистой водой и микроскопическая чашка емкостью не более столовой ложки. 
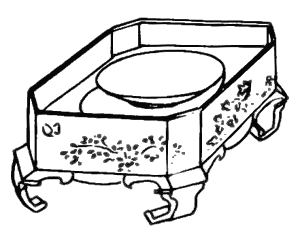
«Саке» или «саки» — очень крепкий и острый напиток и подается всегда теплым. Следуя японскому этикету, нужно выпить первую чашку этого горячительного напитка за здоровье хозяев, а потом за здоровье гостей поочередно. Для этого нужно выпить ее, произнося по-японски: «Банзай!» («Ваше здоровье!»), поднести ее к своему лбу и затем с низким поклоном передать тому лицу, за здоровье которого вы пьете, а он, в свою очередь, проделывает с вами ту же церемонию. Японцы мужчины любят при случае выпить, и пир затягивается до глубокой ночи. Когда я смотрел на это малорослое общество — японцы отличаются крайне невысоким ростом, — на эту массу микроскопических чашек, флаконов, блюдечек, чайников, и наконец, на эти микроскопические блюда, годные, каждое в отдельности, разве только для лилипутов и грудных детей, — то мне как-то невольно казалось, что я попал в общество взрослых детей, играющих в маленькое хозяйство и употребляющих пищу больше для забавы и развлечения, чем для утоления голода. Но эти «взрослые дети» дали мне здесь же доказательство такого огромного такта и деликатности, какой похвалиться могут не всегда и европейцы. Многие из бывших на обеде гостей видели меня здесь впервые, знали, что я иноземец, из любознательности поселившийся в японской семье, но ничем не выказали не только назойливости, но даже вполне естественного в этом случае любопытства. Они приняли меня как старого знакомого, смотрели сквозь пальцы на частое, по неведению, нарушение мной японского этикета и как будто не замечали тех постоянных курьезов, которые происходили со мной во время обеда, или от незнания ритуала, или от неумения обращаться с некоторыми вещами. Словом, я здесь не только не встретил той назойливости, с какой еще недавно меня окружали корейцы в Фузане, и впоследствии аннамиты и сиамцы — в Кохинхине, индусы — на Цейлоне, арабы — в Адене, сомалийцы — в Периме и даже китайцы — в Шанхае и Гонг-Конге, — но и имел здесь дело с людьми вполне благовоспитанными и приличными. В заключение еще одна характерная подробность, рисующая нравы японцев. Во время обеда, когда подавались наиболее вкусные блюда, некоторые гости забирали с собой все, что им нравилось больше всего и чего они не могли, однако же тут же съесть, и клали в свои широкие рукава, завернув предварительно объедки в несколько листков тонкой японской бумаги, которую они всегда носят с собой, (в широких рукавах киримона), употребляя ее вместо носовых платков и салфеток. Как рассказывали мне позже, японцы низшего класса не изменяют этого обычая даже тогда, когда им приходится обедать у иностранцев. Европейцам, живущим в Японии, еще памятен наделавший в свое время столько шума случай, имевший место на официальном обеде у представителя Англии, посланника лорда Эльджина, данном им уполномоченным японского императора. Когда уполномоченные микадо до окончания обеда, перед отъездом домой, начали вдруг торопливо завертывать в бумажки оставшиеся у них на тарелках объедки ветчины, колбасы и пирожных и класть их в рукава, имея в виду показать дома, чем их угощали у английского лорда, — то последний и вся его свита были так поражены этим небывалым инцидентом, что даже, говорят, забыли проводить их до порога дверей, чем нанесли тяжкую обиду самолюбивым японцам. После, говорят, лорду дали даже понять, что он не только не должен был обнаруживать своего удивления по поводу «вполне нормального» и «обыкновенного» поступка японских вельмож, — но, наоборот, по японскому этикету, ему следовало бы даже выразить крайнее удовольствие, что его трапезе делают подобную честь и постараться навязать своим гостям еще кое-что из тех блюд, которых они не успели с собой захватить. Далеко уже минуло за полночь, когда гости, значительно повеселевшие от обильных возлияний саке, начали расходиться так же церемонно, как и пришли. * * *На самом почти носу парохода я застал любопытную группу. В центре ее стояли два японца и русский матросик, ведшие очень оживленную беседу. Вокруг них почти вплотную стояло с десяток матросов, с любопытством глядевших на тщедушного японца, очень равнодушно относившегося к окружавшему его всеобщему вниманию. Его собеседник — матрос оживленно объяснял ему что-то, по временам обнажая свою спину и руки. В руках у японца находился большой лист японской бумаги с какими-то странными рисунками, фигурами, виньетками и изображениями самых разнообразных цветов. Это был, оказалось, татуировщик. На всех приходящих в туземные порты судах можно видеть фигуру пожилого японца в больших, круглых и толстых очках с маленьким ящичком под мышкою. Не успеет пароход бросить якорь, как этот человек уже входит на палубу судна и своими зоркими, рысьими глазами высматривает себе жертву из среды заморских гостей. Но и заморские гости уже знают его и угадывают по этой стереотипной фигуре, кого перед собой они видят, и не заставляют его долго ждать. Тотчас же около него образуется группа, и весьма часто находятся охотники, готовые подвергнуть себя татуировке. По имеющемуся у него прейскуранту и альбому рисунков вы можете выбрать любой рисунок в любую цену (обыкновенно это стоит от одного до трех долларов); и он тут же, не сходя с места, принимается за работу. Обычай татуироваться сильно распространен среди европейских и американских моряков посещающих Японский архипелаг, и нет почти ни одного из них, который уехал бы из Нагасаки, не увезши у себя на шее, груди, спине или руке неизгладимого и на веки не смываемого знака пребывания в Японии. Излюбленным предметом изображения является дракон в самых разнообразных видах и формах: то он, начинаясь у шеи, идет, извиваясь, по всей спине и переходит затем на грудь, то он идет от плеча по руке, обвивая всю руку до кисти, то он — на обеих руках и т. д. Татуировщик работает быстро, аккуратно и смело. Когда вы избрали себе в его прейскуранте по вкусу рисунок (все они — обыкновенно цветные с заметным преобладанием голубого, синего и красного цвета), то мастер-японец особым карандашиком рисует его на указанном вами месте, производя эту работу от руки и на глаз с поразительною верностью и точностью. Затем он набрасывает фон, глядя по вашему вкусу и содержанию рисунка. Для этого у него существует особая система иголок; смачивая их краской подходящего цвета или тушью, он накалывает ими весь фон рисунка, и краска или тушь, расходясь под кожей, образуют фон требуемого цвета и вида. Затем, также особыми иголками, смоченными подходящими красками, он накалываем все те места, которые намечены раньше карандашным рисунком. Все это время он следит за своим прейскурантом, и когда спустя полчаса он оканчивает работу, то у вас на теле получается прелестный, изящный подкожный рисунок, которого ни смыть, ни уничтожить нельзя уже ничем. Японцы-татуировщики великие мастера своего дела. Я уже упоминал выше о том, что между татуировщиком и русским матросом происходили оживленные пререкания. Поводом к ним послужило предложение матроса, Он был еще впервые в Японии и, видимо, относился ко всему с недоверием. Вместе с тем, у него было страстное желание татуировать себя возможно эффектнее и замысловатее, чтобы не ударить лицом в грязь перед своими товарищами, давно уже прошедшими этот обязательный для всякого приезжего матроса искусство, его немного пугала предстоящая операция, сопровождающаяся жестокой болью, вызываемой впивающимися в тело иголками. Волнуемый противоположными чувствами матросик нашел, наконец, блистательный выход из своего затруднительного положения. Сбегав наскоро в кубрик, он принес оттуда грязную тряпицу, из которой осторожно и бережно начал вынимать какую-то вещь. Отложив в сторону тряпки, он вынул, наконец, небольшую фотографическую карточку, полученную им от своей жены перед отходом в дальнее плавание, с торжеством поднес ее к носу японца. Он втайне лелеял надежду, что японец отступит перед предстоящей ему задачей нарисовать у него на руке изображение жены, и этим путем он получит возможность уклониться от изображения у себя на теле дракона, которого он в глубине души немного страшился. Как бы в свое оправдание матросик неопределенно промолвил, имея, очевидно, в виду своих товарищей, начнавших уже подтрунивать над своим трусливым сослуживцем: — Ни, це вже лучше! А то як прыиду до дому — то жинка як побаче оту чортяку, — указал он на дракона. — то безприминно втече; та, може, й громада ни прыйме: скажуть — «сам чортякой зробывся, як з нечыстым связався»![119] Но его надежды не оправдались: японец повертел в руках карточку, посмотрел на нее со всех сторон и спокойно, как будто собираясь делать самое обыкновенное дело, сказал, обращаясь к солдатику: — Отна толлара![120] Отступать было поздно, и бедный матросик скрепя сердце покорился судьбе. В какие-нибудь четверть часа японец, попросив своего товарища подержать руку матроса, нарисовал на ней, выше кисти, точную копию снимка; он работал всего одной рукой, так как из другой не выпускал карточки, но верность рисунка была поразительна: такова твердость руки и меткость глаза у этих бродячих художников. Покончив с этими предварительными приготовлениями, он с помощью своих бесчисленных иголок и красок, уже указанным способом, приступил к самой татуировке. Матрос сильно страдал, но не показывал и вида слабости. Прошло не более часа, как вся работа была окончена, и на руке у матроса рельефно выглядел еще свежий рисунок — фотографический снимок матросской жены. Место, подвергшееся операции, несколько вздулось, припухло и покраснело от уколов, но спустя два-три дня от этого не будет и следа. Японцы — особенно из среды низшего класса — страстно любят татуироваться, а раньше, как говорят, для некоторых профессий это было будто бы обязательным или, во всяком случае, было в обычае. Так, в прежнее время, еще до открытия туземных портов для иностранцев, до устройства железных дорог и проникновения европейских порядков в Страну восходящего солнца здесь существовал особый класс бегунов-почтальонов, разносивших почту по всей стране. Почтальоны эти — в большинстве совершено голые — быстрою рысью мчались из города в город, из деревни в деревню, таща на себе свою почту не в сумках, как это принято у нас, а на длинных бамбуковых древках, к одному концу которых была привязана вся почта, пакеты и проч. Костюма, как я уже упоминал, почтальоны были совсем лишены, но зато, от шеи и почти до бедер все тело сплошь покрыто было у них подкожным рисунком голубого цвета с красным оттенком. Эта татуировка, как можно видеть по помещаемому ниже фотографическому снимку, покрывала все тело сплошной массой и издали может быть принята за какой-нибудь оригинальней туземный костюм. * * *В тех случаях, когда нужно снять свое платье, — например, во время некоторых работ или купанья, — японцы не испытывают никакого стеснения. Безукоризненно чистоплотные, — японцы много и часто купаются, но без малейшей таинственности. Не только в городах и деревнях, лежащих внутри страны, но даже и в европеизированных Нагасаки, Йокогаме и Кобе, большие круглые чаши, служащие ваннами (холодными), устанавливаются зачастую и в садиках, на виду у соседей, с которыми переговариваются во время купания, или же (у мелких ремесленников и торговцев) — в самых лавках, и дверь для покупателей не закрывается на это время. Наконец, — где мне ни приходилось бывать, начиная от бедной деревушки и кончая столицей страны — Токио, для бедного класса здесь везде существуют общественные бани для обоих полов одновременно. Нам пришлось встретить общую баню даже во Владивостоке, где живет довольно много японцев. * * *Однажды — это было около месяца спустя после моего приезда в Токио (Эдо) — мне пришлось как-то по личному делу зайти в столичное полицейское бюро. Получив надлежащие справки и сведения, любезно сообщенные мне на чистейшем английском языке дежурным чиновником, я раскланялся и отправился домой. При выходе я ошибся, однако же, дверью и попал в целую сеть внутренних коридоров, которыми как оказалось здесь, — да и везде в стране, — соединены все главные административные учреждения в видах обеспечения населению и правительству больших удобств и быстроты производства дел всякого рода. Исключением из этого правила являются, кажется, только столичные министерства, монетный двор и учреждения министерства народного просвещения, которые изолированы от всех прочих учреждений страны. Для туриста таксе соединение является особенно ценным, так как значительно облегчает ему дело ознакомления с японскими учреждениями и, при том же, позволяет изучить всю систему правительственного управления в известном порядке и постепенности. Само собой разумеется, при такой системе обозрения учреждений Японии, даже при поверхностном к делу отношении и даже при мимолетных впечатлениях, правительственно-административная физиономия страны выступает значительно ярче, рельефней, чем где-либо в другой стране, где знакомство с ними крайне затруднено благодаря именно разбросанности часто даже однородных и тесно связанных друг с другом учреждений. Справедливость требует сказать, что предупредительность и общительность японских чиновников, чуждых бюрократического величия и важности, значительно облегчает дело. Толкнув ближайшую дверь, я попал в огромный зал, где около двух десятков чиновников сидели по обеим сторонам длинного стола, заваленного газетами, ножницами, цветными карандашами и уставленного бесчисленными баночками с клеем. Оказалось, что я попал в «бюро газетной цензуры» и что все эти японцы в очках — цензоры, следящие за всеми издающимися в Японии газетами, журналами и книгами. Выбравшись кое-как отсюда, я очутился уже в Центральном полицейском бюро. В это же время полисмен ввел сюда на веревочке какого-то японца, пойманного только что на улице в то время, когда он запускал руку в чей-то карман. Процессия эта была довольна комична и не могла не вызвать улыбки, не смотря на глубоко опечаленный вид пойманного вора. Преступник шел впереди, печальный и убитый, а за ним с самым грустным видом следовал полисмен, держа у себя в руках конец веревки, связывавшей сзади обе руки арестанта. Кто бывал в Стране восходящего солнца и толкался по базарам и людным местам, тому, без сомнения, приходилось изредка видеть любопытную сценку ареста какого-нибудь мелкого воришки, пойманного тут же с поличным. Всегда замечательно выдержанный и поразительно бесстрастный японский полисмен в это время совершенно преображается и оживляется. Вся фигура его — щуплая, субтильная и непредставительная вообще принимает какой-то печально-торжественный вид, а лицо омрачается грустной улыбкой. Одной рукой он хватает преступника за шиворот, а другой медленно, точно нехотя, вынимает из потайного кармана связку бечевок. Вежливо нашептывая что-то на ухо своей жертве, покорно и с убитым видом слушающей его, он в то же время обвертывает несколько раз веревкой его талию и затем связывает сзади кисти его рук. По части связывания пойманного преступника японские полисмены, я должен заметить, великие мастера. Раньше, до введения европейских порядков в стране, существовал даже особый класс (ныне упраздненный) полицейских «скороходов», одной из главных специальностей которых было обладание искусством связывать преступников, начиная от легкой и необременительной для арестанта перевязки, опутывающей все тело его в виде сети и кончая самым сильным стягиванием, от которого преступник вскоре задыхался. Эти скороходы были также всегда вооружены короткой железной палкой, которой иногда, ударяли преступника по голове и оглушали его в тех случаях, когда им приходилось встречать сильное сопротивление с его стороны. Возвращаюсь, однако, к прерванному рассказу. От веревки которой связаны руки уличного вора висит еще конец футов в шесть; полисмен берет его в руки и, низко кланяясь пленнику, со словами: «следую за вами, милостивый государь!» — идет вслед за ним, обеспечив себе, таким образом, уверенность в том, что преступник никуда не уйдет.
Скоро они достигают ближайшего полицейского поста, где сидят с полдюжины чиновников и других служащих, усердно занятых какими-то книгами, справками и докладами. Возле каждого из них стоит неизбежная жаровня с постоянно тлеющими в ней углями и чайный прибор. Пленника подводят к главному чиновнику, отбирающему у него показания; затем арестованного обыскивают и запирают в одну из многочисленных имеющихся при полицейском посте деревянных келий-карцеров, площадь которой равна приблизительно полторы квадратных сажени. Здесь задерживают его не более суток, после чего препровождают в центральное полицейское бюро, в котором я находился в описываемое время. Участь пленника, с которым меня столкнула случайность, заинтересовала меня, и я отложил свои бесконечные блуждания по внутренним коридорам и, с разрешения полицейского чиновника стал следить за дальнейшей судьбой несчастного карманного вора. Арестанта ввели в одну из обширных зал «бюро», сплошь уставленную конторками, за которыми сидели писцы и чиновники все с теми же неизбежными жаровнями и чайными приборами. После непродолжительных расспросов пленника, происходивших на японском языке, его ввели в камеру следователя, отделенную от «бюро» лишь небольшим коридором. На дверях этой камеры имелась, между прочим, следующая надпись на французском и японском языках:
В качестве иностранца я очень легко получил это разрешение от следователя и последовал за арестантом внутрь камеры. Обстановка ее очень скромна: две конторки — одна для следователя-японца, другая — для его письмоводителя, кресло, несколько стульев по стенам, этажерка со сводом японских законов и несколько портретов по стенам: императора и еще каких-то неизвестных мне лиц. Допрос арестанта происходил на японском языке. Следователь задавал пленнику краткие вопросы, на которые получал иногда довольно обстоятельные ответы, даваемые быстрой японской скороговоркой. Иногда между сторонами происходили недоразумения и пререкания. В этих случаях следователь углублялся на минуту в лежавшие перед ним бумаги, заключавшие в себе первоначальные показания арестанта и свидетелей, данные ими раньше в полиции. Что особенно обращало на себя внимание, так эта самая манера, с которой производился допрос, имевший, в данном случае, целью окончательно проверить раньше данные подсудимым и свидетелем показания. Следователь мягко, участливо, не повышая тона, обращался к подсудимому и очень внимательно и терпеливо выслушивал, часто многоречивые, показания. В арестанте также не было видно следов запуганности и боязни перед начальством: он говорил горячо, оживленно, с жаром отстаивая какие-то важные для дела подробности. Это особенно бросалось в глаза, когда в камеру, один за другим, вводились свидетели и потерпевшие. После каждого их показания, следователь давал слово арестанту и внимательно выслушивал его разъяснения. Допрос длился около двух часов и произвел на меня самое благоприятное впечатление, так как не имел в себе и тени сходства с тем произволом, который царит во всем азиатском Востоке, и особенно в соседнем Китае. Этим допросом предварительное следствие окончательно заканчивалось, и спустя несколько дней, все дело должно поступить для разбора в суд или в так называемую «судебную палату», также соединенную с камерой следователя сетью внутренних коридоров. Современный японский суд — еще не вполне благоустроенное учреждение, и это находит себе объяснение в том, что японское правительство слишком спешно и торопливо насаждает у себя европейские судебные порядки для того, чтобы правосудие совершалось здесь при наилучших условиях законности, правды и беспристрастия. Здесь кстати указать, между прочим, на одно любопытное явление, отмечаемое и всеми путешественниками, посещающими Японию. Дело в том, что японцы, создавшие свои административные, судебные и другие учреждения сравнительно очень недавно, взяли образцами для них западноевропейские и выбрали те из них, которые они нашли лучшими и наиболее пригодными для своей страны. В результате получилась оригинальная смесь самых разнообразных иноземных учреждении, из коих каждое в отдельности сохранило типические черты тех стран, откуда они были пересажены в Японию. Являясь, например, в канцелярию министерства иностранных дел, вы попадаете в чисто британскую атмосферу и вам, если вы — иностранец, приходится даже объясняться исключительно на английском языке. Если вы попадаете в университет, и желаете, чтобы вас поняли, то вы должны говорить только по-немецки. В ботаническом же саду, состоящем при том же университете, мне приходилось уже говорить только по-французски и т. п. Японский суд, как и полиция устроены по образцу французского и в таком виде он существует всего лишь одиннадцать лет (с 1882 года), когда вошел в силу составленный французом Буассонадом, по поручению японского правительства, свод уголовных законов и закон о преобразовании прежнего японского суда. Введение новых форм судопроизводства и судоустройства и новых уголовных законов не обошлось без серьезных волнений в Токио, вызванных, как объясняли тогда бунтовщики, «химерическим» желанием правительства ввести чуждые законы в страну, обладающую своими старинными, веками установленными традициями и обычаями. Население успокоилось лишь после того, как японское министерство юстиции официально заявило, что при разработке и составлении новых законов были приняты во внимание все наиболее важные из старинных законов и национальных обычаев. Благодаря этому, и самый суд носит в себе характер какой-то смеси французского с японским, как я в этом имел случай убедиться в тот же день. На небольшом возвышении, за длинным столом, покрытым сукном, сидит судья, облаченный в обыкновенное штатское платье европейского покроя, а рядом с ним — секретарь, одетый уже в национальный костюм. Прямо против судьи и у его ног, сидит группа полисменов на полу (на циновках); позади них — за прочной деревянной решеткой — стоит подсудимый. Затем идет небольшое пустое пространство, отделяющее немногочисленные места, предназначенные для публики.[121] Судя по оживленному диалогу, происходящему между судьей, подсудимым и свидетелями, можно заключить, не понимая, конечно, ни слова в этой японской скороговорке, что система допроса здесь чисто французская. По объявлении приговора, один из полисменов поднимается (во время заседания полисмены сидят) и уводит обвиняемого, если он по судебному приговору не оправдан, в одну из задних комнат, где ему снова связывают руки веревкой. В процессе часто принимают участие и адвокаты, занимающие одну из стоящих перед судьей трибун. Насколько можно судить по внешнему впечатлению — речи произносятся на японском языке — туземные адвокаты ведут процесс с большим жаром и красноречием. Любопытно, между прочим, то обстоятельство, что в рядах туземной адвокатуры нередко встречаются женщины, свободно допускаемые к занятиям этой профессией. Некая госпожа Созо, японка, считается даже одним из лучших столичных адвокатов в Токио, и произносимые ею в суде речи ставятся японцами в пример красноречия и ораторского искусства. Пальму первенства в этом отношении она уступает только одному пожилому токийскому адвокату, славящемуся в Японии как «чудо ораторов мира». Эта японская знаменитость отличается, между прочим, от других своих товарищей по профессии тем, что всегда, даже во время судебных заседаний носит национальный костюм, между тем, как все остальные японские адвокаты, по установившемуся обычаю, должны носить во время заседания европейское платье. Осужденные приговором суда помещаются в одну из двух тюрем, находящихся в Токио. Одна из них, большая, находится в южной части города и называется «Ишикава» по имени острова, на котором она построена. Вторая же тюрьма, предназначенная для женщин и каторжников, называется «Ичигава» и находится в центре города. Хотя французы и уверяют, что обе эти тюрьмы скопированы со знаменитой Мазасской тюрьмы в Париже, но, как увидим ниже, на них лежит такая сильная печать японского влияния, что их менее всего можно назвать французскими тюрьмами. «Ишикава» — совершенно изолирована от всего внешнего мира и сообщается с городом исключительно при помощи тюремного пароходика. В ней заключено до двух тысяч взрослых мужчин и подростков; каждый из них должен отсидеть здесь свой обязательный десятилетний срок. Во второй тюрьме заключено до полутора тысяч мужчин и женщин, среди которых есть осужденные и на пожизненное заключение. Весь надзор за арестантами лежит на одном стороже, не взирая на то, что здесь заключены все уголовные преступники, а также и приговоренные к смертной казни. По некоторым случайным обстоятельствам мне не удалось посетить ни одной из этих тюрем, являющихся одними из наиболее интересных учреждений в Японии, и мне приходится поэтому ограничиться теми краткими, но любопытными сведениями, какие были сообщены мне некоторыми моими собеседниками — японцами, и какие я нашел у немногих японских и английских писателей, оказавшихся счастливее меня в этом отношении. Японская тюрьма состоит из двадцати или более одноэтажных построек, из которых некоторые, по внешнему виду, похожи на обыкновенные летние рабочие бараки. Жилые помещения тюрьмы представляют собой громадные деревянные клетки, вся передняя и часть задней стороны которых заняты перегородкой толщиною почти в два вершка, за которой в узком проходе ходит ночной сторож. Здесь нет даже намека на какую-нибудь мебель, и чистый лакированный пол ничем не покрыт, так что заключенный может видеть в нем, как в зеркале, отражение всей своей фигуры. Само собой разумеется, что сюда, как и во все японские дома, никто не входит обутым. Толстые, стеганные на вате одеяла (фетон), составляющие японскую постель, свернуты и лежат на полке, которая тянется вокруг всей комнаты на расстоянии 1 1/2 аршин от пола. В каждом таком помещении — а их там довольно много — заключено по 96 человек. Достойно, между прочим, внимания то, что все, так называемые, «санитарные» заведения устроены отдельно, в задних пристройках, и отличаются поразительной чистотой и опрятностью. Также хороша здесь и вентиляция всех помещений. Если прибавить к этому необыкновенное благоустройство местных тюрем, соединенное с поразительной простотой, то становится вполне понятным восторг одного англичанина, воскликнувшего однажды при осмотре «Ишигавы»: «В Японии все идеально, — даже тюрьмы!» В небольшом расстоянии от описанных камер, называемых «спальными помещениями», так как арестанты проводят здесь только ночь, занимаясь днем в различных тюремных мастерских, находится небольшая квадратная комната довольно странного устройства. Дверь открывается, и вы попадаете в келью, предназначенную для наказания провинившихся арестантов и представляющая собой очень чистый деревянный лакированный ящик, снабженный превосходной вентиляцией, но, однако же, совсем темный и с такими толстыми стенами, что туда не проникает ни одного звука. — Сколько арестантов пребывало здесь в прошлом году? — спросил один турист сопровождавшего его начальника тюрьмы. Тот обратился с этим вопросом к старшему тюремному надзирателю. — Гтори мо гозаймасен! «ни одного!» — ответил он. — А какие другие наказания практикуются здесь, кроме этого карцера? — продолжал допытываться любознательный турист. — Никаких! «Разве найдется на свете другая страна, — восклицает по этому поводу упомянутый турист, — где для двух тысяч арестантов нет другого наказания, как заключение в темную комнату, да и та, вдобавок, по целым месяцам необитаема»! Японская тюрьма состоит из двух отделений: спального и рабочего. — Прогуливаясь по двору тюрьмы, — рассказывает один посетивший ее англичанин, — мы вошли в одну из мастерских, где сто человек арестантов делали машины и паровые котлы. В этом отделении тюрьмы на каждые пятнадцать арестантов полагается по одному сторожу, вооруженному саблей. Мы застали арестантов в самом разгаре работы: какая-то фирма дала им заказ, и они работали под надзором сведущего мастера и представителя фирмы-заказчицы. Арестанты работают здесь не более девяти часов в день. Они, как и везде в японских тюрьмах, одеты в холщовые костюмы цвета терракоты или земляники. Когда посетители зашли внутрь, то часовой скомандовал: — Киво, тсукеро! Т. е.: «Смотрите», и все мгновенно прекратили работы и поклонились вошедшим до земли, оставаясь в таком положении до вторичной команды, разрешавшей им подняться. Арестанты делали в это время большие медные и железные паровые помпы, которых в течение года успели уже сфабриковать семьдесят штук. Вся эта тюремная мастерская, по словам англичанина, со своим грохотом машин и разумной работой была бы похожа на отдел туземного или европейского арсенала, если бы не красные арестантские костюмы и слишком покорные позы рабочих. В соседней мастерской около сотни рабочих сидели, сгорбившись над деревянными чурбанами, вырезая из них с большим старанием разного рода вещи, начиная с простого корыта и кончая хрупкими и нежными длинноногими журавлями. Эта была мастерская резчиков по дереву. Как дешево работают здесь арестанты, можно судить по следующему примеру. Один посетитель тюрьмы купил здесь роскошный ящик, изображавший японского бога смеха в то время, когда его тащат за платье шесть голых мальчиков. По отзывам знатоков, это было замечательное художественное произведение, и японец, продавец редкостей, оценил его в десять иен, между тем, как заплачено было за него всего лишь около восьми сенов (1 иена=100 сен). Дальше следуют мастерские бумагопрядильщиков, ткачей, ткущих и красящих арестантскую одежду, башмачников, делающих сандалии, веерщиков, фонарщиков, корзинщиков, плетущих также циновки и сети и т. п. При тюрьме имеется даже своя типография, корректором которой три года назад (да, кажется, и теперь) состоял бывший секретарь японского посольства во Франции, внезапно скрывшийся оттуда, захватив с собой около ста тысяч франков из посольской кассы. Желая скрыть свои следы, он оставил на берегу Сены свою обувь в знак того, что он утопился в этой реке, но вскоре после этого его накрыли в уединенном немецком местечке, арестовали и привезли в Токийскую тюрьму. За типографией идут мастерские, где вырезываются ручки для зонтиков и набалдашники для палок и тростей, приготовляется глиняная посуда, начиная от больших горшков и кувшинов и кончая хрупкими чашечками толщиною в яичную скорлупу. Серия мастерских заканчивается фабричкой по производству изделий из перегородчатой эмали. Если в токиоскую тюрьму попадает, в качестве заключенного, европеец, то он может заняться тем, к чему влекут его природные способности. Если же он оказывается решительно непригодным ни к какому занятию из перечисленных выше, то его отправляют на рисовую мельницу, где он качает по целым дням бревно (с привязанными к нему камнями), которое со всего размаха опускается в кучу риса (мельница эта напоминает наши малороссийские топчаки. Если же он и к этому делу непригоден, его отправляют разбивать молотком камни для щебня. В пользу арестантов идет десятая часть суммы, вырученной от продажи их изделий. Женское отделение в «Ишигава» отделяется от мужского высокой деревянной перегородкой и воротами, охраняемыми одним часовым. Отделение это состоит из двух или трех спальных комнат и одной огромной, общей для всех заключенных женщин, мастерской, принимающей заказы шитья и вышивания. Один из путешественников, посетив женскую тюрьму, застал всех женщин сидящими на циновках и занятых обшиванием шелковых платков. Возле одной резвился ребенок. Группа из трех красивых женщин сидела отдельно — это оказались изготовительницы фальшивых монет. Небольшой коридор вслед за женским отделением тюрьмы ведет к самому уединенному и самому мрачному и печальному уголку «Ишигавы». В углублении стоит таинственный предмет вышиною около сажени, похожий на черный ящик. По левую сторону его тянется покатый помост из черных же досок, по которому вводят преступника во внутренность ящика. Сверху прилаживается канат, и когда по данному сигналу основание ящика опрокидывается, пред глазами оторопелых зрителей внезапно появляется болтающаяся в воздухе фигура повешенного… * * *Одним из самых крупных и грандиозных памятников японской старины, служащим вместе с тем образцом японского трудолюбия, кропотливости, энергии и настойчивости, является знаменитая Токаидо («Дорога восточного моря»). Токаидо — это грандиозная шоссейная дорога, прорезывающая весь центральный и часть южного района Японии, начиная от «Святой горы» Никко и кончая на юге прежней столицей микадо, — священным городом Киото и важнейшим промышленным центром страны — Осакой. Она может служить образцом дорожного сооружения и примером того, как разумно относились уже сотни лет тому назад японцы к одному из важнейших для благосостояния государства вопросов — вопросу о путях сообщения. Попечение о путях сообщения, проведение шоссейных дорог было всегда одной из главных забот японцев. Еще до Иэясу существовало постановление, согласно которому каждый владетельный князь, феодал, даймиос и помещик обязан был проводить по своим владениям проезжие дороги, шириною в девять саженей каждая. Дороги проводились ими с обычной японской тщательностью и добросовестностью, покрыли страну целой сетью, не оставив в стороне ни одного, даже самого отдаленного и глухого уголка во всем государстве. Это получает в наших глазах особую цену, если вспомнить, что вся страна отличается чрезвычайно гористым характером и, строго говоря, представляет собой цепь горных хребтов, вершин и холмов, лишь изредка прерываемых пропастями, ущельями и узкими долинами. При таком устройстве поверхности страны и при каменистом характере почвы, вдобавок, здесь приходилось брать с бою каждый шаг, каждую пядь земли. Трудности этой работы усиливались тем, что приходилось работать руками, так как в то время ни динамит, ни порох, которыми можно было бы взрывать стоящие на пути каменные твердыни, еще не были известны японцам. Удивительнее всего то, что японцы могли еще при этих условиях думать о красоте и изяществе своих дорог; некоторые из них, и особенно Токаидо, являются артистическим в своем роде произведением. Во всю длину Токаидо, на протяжении десятков и сотен верст, по обеим сторонам тянутся ровные, стройные линии зеленых деревьев — криптомерий, бамбуков и кедров, и на фоне этих сплошных зеленых стен вырисовываются красивые высокие китайские крыши, поросшие мхом вперемежку с цветами ириса. Кругом возвышаются живописные холмы, под бамбуком или кедрами змеится речонка, кое-где среди зелени и леса окаймляющих дорогу долин ютятся маленькие буддийские пагоды под тенью ветвистых деревьев. Вся дорога пряма, как стрела, гладка, как паркет, усыпана желтым песком и кажется нарядной, тенистой, широкой, бесконечной зеленой аллеей роскошного парка. Во всю длину «Дороги Восточного моря» — этой «столбовой» дороги Японии — тянется беспрерывный ряд лавочек, «чайных домов» — нарядных, увитых плющом и ползучим растением построек, придающих еще более оживленный вид дороге, переполненной пешеходами, рикшами, грузовыми телегами, разносчиками. Все это торопится, снует, суетится, останавливается на минуту у «чайного дома» и снова мчится в разные стороны. Местность, лежащая по обеим сторонам этой гигантской аллеи-шоссе не менее живописна, чем сама «Дорога Восточного моря», но она носит уже другой характер, благодаря отсутствию на ней того оживления, которым отличается Токаидо.  * * * На самом большом из японских полей вряд ли в пору повернуться одному русскому деревенскому возу, запряженному парой волов. Вся долина разделена массой мелких канав, покрывающих ее точно паутиной и разделяющих ее на микроскопические участки самой причудливой и разнообразной формы. Одни из них представляют собой правильной формы квадрат, другие — трапецию, третьи — правильный круг, четвертые — многоугольник, пятые — вовсе овальны и т. д. до бесконечности, в зависимости от неровностей почвы и условий места. Отделяемые друг от друга канавками, все участки старательно обведены высокими земляными валиками, тщательно покрытыми зеленым дерном, каким-нибудь низким кустарниковым растением или даже цветами: хризантемой, ирисом, камелией, отчего вся долина представляет собой своеобразный вид пестрого ковра зелени и цветов. Каждый участок земли в отдельности всегда горизонтален; если место представляет собой откос, — например, если приходится сеять рис по склону горы, — то японцы устраивают искусственные площадки горизонтальной формы.[122] Это делается в виду того, чтобы, раз затопив поле водой, можно было постоянно задерживать на нем обильную влагу, без которой рис никогда не родится. 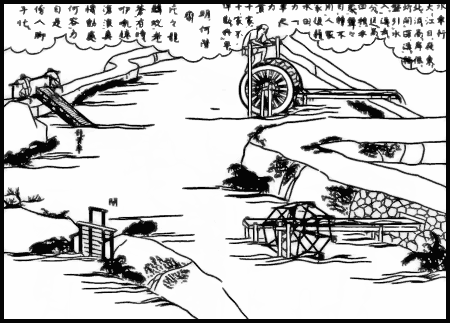
Но, с другой стороны, благодаря этому смежные участки никогда не находятся на одном уровне: один выше, другой ниже, третий — очевидно, находящийся на пригорке или маленьком холмике, — уже совсем возвышается на аршин над своими соседями. Уже из предыдущего ясно, какую массу труда и энергии приходится затрачивать японцу только на приготовление самого поля. Для того чтобы сделать его годным к посеву, нужно его сперва затопить доверху — до краев окаймляющих его зеленых барьеров — дождевой водой вершка на четыре из бесчисленных водоемов, рвов и канавок или из озера во время засухи. Работа далеко не легкая, так как за отсутствием лошадей, быков и других упряжных животных у японского крестьянина, ему приходится самому приводить в движение — тяжестью собственного своего тела — большое деревянное колесо, снабженное на окружности своей лопастеобразными черпаками, для передачи воды из водоема с поля на поле по деревянным желобам. Затопленное таким образом поле нужно вспахать и разрыхлить почти в порошок, и это приходится делать небольшой лопатой, стоя по колени в воде. После этого разрыхленную землю удобряют, покрывая ее толщей пепла из вулканических гор. Эту работу также приходится делать руками, стоя в вязком болоте разрыхленного поля. Когда вода напитается в почву и весь участок становится похожим на густое месиво, то рис очень густо засевают горстями в эту жидкую тину и вновь поливают участок. На этом не кончается, однако же, работа туземного земледельца. Как только засеянный рис пустит ростки на несколько дюймов, пучки зеленой рисовой рассады осторожно выкапываются из земли и пересаживаются правильными рядами на соседнее, таким же образом, как выше указано, вспаханное и затопленное поле. Затем начинается уже более легкая, но и более кропотливая работа. Нужно следить за тем, чтобы колосящийся рис сам себя не тенил, чтобы он не рос очень густо, чтобы в земле было постоянно достаточно влаги; и вследствие этого японцы целые дни ползают по своим миниатюрным участкам, усердно вырывая каждую соринку, каждую лишнюю былинку и листик и ежедневно подливая, где нужно воды. В оранжереях за парниками дорогих овощей или за самыми редкими цветами и цветниками едва ли ухаживают так тщательно, как японцы за своими полями. И с какой любовью относятся они к своему делу и к своим миниатюрным участкам! 
Каждый из них окружен настоящим цветником из дерна, цветов и деревьев. Дерн постоянно поливается, кустарниковые деревца подрезаются, цветы рассаживаются красивыми, затейливо подобранными фигурами и букетами. С непривычки этот необычный вид красивых, изящных, миниатюрных полей, окаймленных ярким и пестрым ковром зелени, цветов и деревьев производит впечатление чего-то игрушечного, опереточного. Однако, ценой неимоверного труда и кропотливых усилий японцы умудряются жить доходом с этих игрушечных полей и более или менее сносно прокармливать свои семьи. Но все их героические усилия на этом поприще были бы совершенно бесплодны, не обладай мощные толщи японской земли удивительным плодородием и не будь здесь того благодатного климата, который позволяет снимать жатву три раза в год, не стесняясь к тому же временем посева, производимого в любое и самое разнообразное время в течение круглого года.[123] Благодаря этому последнему обстоятельству здесь можно в одно и то же время наблюдать весь процесс произрастания риса и весь тот нелегкий путь, который проходит японский земледелец, начиная от приготовления поля к посеву и кончая жатвой и молотьбой рисовых снопов. Так, в то время, когда на одном участке еще только подготавливают рисовую рассаду, в смежном с ним в это время уже пересаживают пучки подросшей рассады на новое поле, рядом с ним уже полят колосящийся рис, а неподалеку отсюда уже жнут его и молотят… Рис дает необыкновенно обильный, по нашим понятиям, урожай, доходящий до того, что японцы получают зачастую сам-сто со своих полей-лилипутов!.. Не будь этого, японцам, — и теперь только благодаря необычайной энергии и упорному труду еле перебивающимся со дня на день, — приходилось бы плохо в виду недостатка удобных для обработки земель. Малоземелье и, в связи с ним, микроскопичность полей, является прямым последствием того, что почти вся страна испещрена и изборождена покрытыми лесом горными хребтами и каменистыми кряжами, пересекаемыми лишь изредка и кое-где узкими плодородными долинами. До чего доходит здесь недостаток в годной для обработки земле, видно уже из того, что зачастую даже откосы железнодорожных насыпей и выемок удобряются и орошаются самым добросовестным образом и засеиваются рисом!.. Живут японские крестьяне тут же, среди своих полей и участков, в легких деревенских постройках, крытых рисовой соломой. Судя по виденным мною деревенским хуторам и поселкам, японцы-поселяне сильно заботятся о живописности и красоте местоположения своих постоянных жилищ, и тщательно выбирают его, обнаруживая в этом отношении много вкуса и понимания в красотах природы. Большей частью, они строят свои хижины так, чтобы всегда открывался из раздвижной по фасаду стены дома вид на обширную цветущую долину, на живописные зеленые горы, на океан или озеро. Домики всегда окружены цветами и деревьями, рассаживаемыми японцами с большим вкусом и пониманием дела, обличающих присутствие той художественной жилки, которая присуща каждому японцу. Благодаря этому деревенские постройки и домики даже у самых убогих и бедных крестьян напоминают собой по внешнему виду уютные и красивые дачки. Г. де Воллан. В Стране восходящего солнца.[124] (Фрагменты из книги) Главное богатство острова Хоккайдо — не золото и не каменный уголь, о котором мы поговорим в своем месте, а рыба и морская капуста, вывозимая в Японию и Китай. Генерал Кэпрон очень справедливо заметил, что жители Хоккайдо не умеют пользоваться этим богатством. Приготовляя рыбу согласно требованию японского и китайского рынка, японцы выручают половину того, что они могли бы выручать, если бы приготовляли рыбу для вывоза в Европу и Америку. Но в этом отношении рутина оказалась сильнее советов практического американца, и громадная часть улова идет по-прежнему на приготовление рыбьего тука, который вывозится в южную Японию и служит для удобрения полей. Тук приготовляется из селедок, которые ловятся в громадном количестве в западной части Хоккайдо. Ловля начинается в апреле и кончается в мае. Ловят их мешками, которые помещают на глубине 40 футов и прикрепляют к лодке или плоту. Когда мешок полон, то наблюдавший за этим его закрывает и посредством веревок стаскивает его с прежнего места. Труднее всего опростать мешок от накопившейся в нем рыбы, особенно в бурную погоду, когда теряется много рыбы. Рыба, во время хода, которых бывает три, принимает сеть мешков за морскую капусту. Во время метания икры, рыба, по словам рыбаков, совершенно слепа и не знает, что делает. Бывало, что она заходила в Отарупайскую бухту в таком количестве, что все наличное население, кончая детьми, ловило ее ручными сетями и даже деревянными лоханками. Обыкновенно для метания икры она выбирает глубокое место около скал, и оттого все деревушки рыбаков находятся на скалистых берегах, и не видно ни одного дома там, где берег ровный и отлогий. После улова берут рыбу, которая назначена для пищи, и, разрезав от головы до хвоста, вешают ее для просушки. Для этого берут только большую рыбу; остальное варят для приготовления тука в казанах величиною в 3 1/2 ф. в диаметре и 2 вышины. Жир, получаемый во время варки, снимают ложкою и собирают отдельно. Затем прессуют всю массу и выделывают тук. После прессовки тук оставляют на воздухе, ломают его и просушивают на циновках. Все зависит от погоды; если она сырая, тук теряет в цене. Когда просушка кончилась, то тук укладывают в соломенные мешки и отправляют на юг для удобрения полей. За одну тонну платят по 42 доллара и больше. Жир употребляется как осветительный материал. Так как приготовление рыбьего тука составляет самую значительную отрасль дохода, то правительство обратило на нее внимание и подчинило промышленников особой регламентации, предписало им приготовлять соломенные мешки одного размера в 205 фунтов и заставило пересылать тук только в прессованном виде. Со своей стороны, правительство заменило натуральную подать, взимаемую, смотря по местности, в размере от 10 до 35 %, однообразным денежным сбором в 50 %. При расчете берется средняя цифра дохода за три года. Такою мерою правительство сделало большое облегчение рыболовам, избавив их от потери времени и от многих непроизводительных расходов, и вместе с тем избавило себя от громадного штата чиновников, обязанность которых состояла в том, чтобы сортировать, сохранять и затем продавать правительственные запасы. Если принять в соображение, что из одного Хакодате вывозится на несколько миллионов долларов морских продуктов, то нельзя не отнестись сочувственно к разумным мерам японского правительства. * * *В другом месте толпа собралась смотреть борцов. На возвышенном месте из насыпной, рыхлой земли ходят два голых человека с одним фуидоши на чреслах. Массивные их фигуры с старинной японской прической показывают, что это борцы. Рядом с ними стоит человек с веером. Гнусливым голосом он прокричал имена борцов, и они готовятся к битве. Сначала они берут для счастья шепотку соли, несколько раз ногами и руками упираются в землю, обмазывают руки землей и затем садятся друг против друга на корточки и вдруг с криком бросаются друг на друга. Но это только прелюдия. Настоящая схватка впереди, и они опять садятся на корточки. Они вторично берут щепотку соли, мажут руки землей, пробуют силу своих мышц, и затем уже начинается настоящая схватка. На этот раз борцы оказались одинаковой силы, долго боролись, но без результата, и наконец, распорядитель с веером в руке развел их и сам встал на то место, которое они занимали. Борцы отошли в сторону, пополоскали рот водою, вытерли пот, посидели немного и затем, сев друг против друга на корточки, опять начали бороться. Толпа в это время неистовствовала, кричала, пищала, хлопала; распорядители тоже кричали, ободряли борцов. На возвышение летели пояса, кошельки и другие предметы. Все эти вещи будут принадлежать победителю. Но и во второй раз борцы не могли столкнуть друг друга с возвышенного места (в этом и заключается борьба), и распорядитель отвел их в сторону. 
Когда борцы удалились и распорядитель прокричал имена других, из публики вышел человек и стал требовать продолжения борьбы. Он сопровождал свои слова криком и усиленною жестикуляцией. Публика смеялась, кричала; распорядители не соглашались, но пример заразителен, и у крикуна явились последователи. Оказывается, что эти господа держали пари и теперь не хотели успокоиться. Наконец, сами борцы решились потешить публику и вышли на арену. Наш крикун поклонился им до земли и от радости запрыгал и завертелся на месте. Новый взрыв хохота и восторженные крики. В антракте мальчики предлагали холодную воду со льдом, сладости, фрукты, отваренные в саке. Наконец, борцы встали в позицию, и после долгой борьбы один не удержался и полетел вниз. Восторга публики нельзя описать, но и выигравший не знал, что делать от радости. Он постукивал в свою жестянку и с торжеством показывал ее публике. Затем, обняв победителя, он пошел угощать его. Борьба иногда кончается замечательно быстро, и побежденный летит кубарем вниз, иногда летят оба; иногда борьба длится дольше, и тогда распорядитель поправляет повязку и обмахивает борцов веером. Во время антракта к нашему месту, где сидела вся хакодатская знать, подходили борцы и низко наклоняли свою голову, убранную шиньоном, который заканчивался каким-нибудь блестящим шариком. Эти борцы с выбритыми, добродушными, веселыми лицами уже кончили свое дело и пришли к нам чистые, вымытые после ванны. Недалеко от того места, где мы сидели, происходил их туалет. Им прислуживали женщины, и борцы без всякого стеснения расхаживали перед ними совсем голые. Затем глашатай прокричал что-то, и перед публикой прошла целая процессия борцов. Сначала прошли борцы с правой стороны. На них, кроме фундоши, был вышитые золотом передники. На одном переднике были вытканы буквы на другом — звери, на третьем — корабли. Такие передники стоят от 200 до 700 долларов. После этого прошла другая процессия и начался бой. * * *Вечером Ивамура пригласил меня на японский обед. Дом, в котором давался обед, находился среди обширного парка. Когда мы сняли обувь, то нас ввели в большую комнату без мебели. На циновках, покрытых еще большими коврами, в известном порядке были положены подушки. Самый почетный гость занимает центральное место в глубине залы. Смотря по рангу, размещаются другие. Хозяин, по японскому обычаю, занимает самое последнее место, у самого входа в комнату. Как только мы вошли и уселись, то перед каждым гостем появилась мусуме (девушка) в красивом цветном кимоно, с ярким поясом (оби). Стоя на коленях, она с поклоном поставила передкаждым чашечку с зеленым чаем, сладкими пирожками и японскими сластями. Затем следовали на лакированном подносе в лакированных чашечках несколько кушаний, но гости, знакомые с японскими обычаями, не дотрагиваются до них, пока хозяин не начнет есть. Обыкновенно до этого хозяин произносит коротенькую речь, в которой, в пренебрежительном тоне, говорит о своем обеде, извиняясь, что принужден давать гостям тухлое и скверное кушанье, но что он надеется на снисходительность своих гостей, и что они не откажутся отведать с ним саке и, таким образом, заглушить скверный вкус обеда. Этим церемония кончается, и все начинают обедать, но, вернее сказать пить. Кушаний много, и японцы едва прикасаются к ним, так как прежде всего идет питье саке с разными церемониями. Но прежде чем перейти к этим церемониям, позвольте мне сказать несколько слов о меню обеда, который состоит из многих перемен. Каждая перемена подается на отдельном подносе, на котором несколько кушаний в лакированных чашечках. Каждая перемена или каждый обед начинается каким-нибудь супом, подаваемым в лакированной чашке, которую подносят ко рту и выпивают. Гораздо труднее справиться с твердою пищею, которую нужно есть палочками, и эта наука сопровождается всегда веселыми эпизодами. Обыкновенно учит вас гейша, которая назначена услуживать вам. Обед, несмотря на массу перемен, в сущности легкий в полном смысле слова, и вы не встанете с отяжелевшим желудком, как в Европе, а скорее с тяжелою головою, так как вам приходится выпить большое количество саке. Хозяин должен подойти к почетному гостю, стать перед ним на колени и сказать: «позвольте мне выпить саке из вашей чашки». Гость отнекивается говорить, что ему совестно, но после всего этого берет чашку и, сполоснув ее в чистой воде, подает ее на ладони хозяину, который подносить ее ко лбу. Услужливая мусуме наливает туда саке, и хозяин выпивает ее, а затем, сполоснув чашку, подает гостю, который проделывает ту же церемонию. И так хозяин должен выпить с каждым гостем. Если гостей сорок, то на долю хозяина придется сорок чашек саке — довольно внушительное количество. Затем каждый гость делает такой же обход других присутствующих. После этих церемоний в головах у всех шумит, и люди, казавшиеся молчаливыми и скучными в начале обеда, делаются разговорчивыми и игривыми. Начинается игра в фанты, и проигравший должен выпить чашку саке. Это обыкновенно делается с гейшами, которых гости стараются подпоить и развеселить. После этого начинается уже разгул. Когда саке выпито достаточно, и большая часть гостей уже навеселе, то приступают к настоящему обеду, т. е. к рису (последней перемене). После этого уже не пьют. Иногда во время обеда, а иногда и после обеда начинаются танцы и пение.  * * * После осмотра пенитенциарной колонии мы отправились в дом начальника, который очень любезно предложил нам поселиться у него. Это был японец очень приятной наружности и с большой, окладистой бородой. Так как это первый раз, что я поселился в японском доме, то я считаю уместным сказать несколько слов о том, как живут японцы в своем тесном семейном кругу. С утра отодвигают деревянные ставни, и в доме вследствие этого, поднимается большой шум. Хозяйка прежде всего хватается за табак и закуривает маленькую трубочку. Трубка эта такая маленькая, что хватает только на одну затяжку. Затем она высыпает пепел и снова наполняет трубку табаком. Всякому, кто спал в японском доме, знаком этот стук трубок о пепельницу. Затем японка идет в ванную комнату и совершает свой туалет. Она чистит свои зубы деревянной щеточкой; при этом она и другие обитатели дома, совершающие свой туалет, откашливаются очень громко и производят такой шум, точно у них морская болезнь. Лица они не моют и только вытирают его щеточкою; женщины пудрятся, а губы мажут губной помадой. Туалет японки очень несложный; он весь состоит из куска материи (имодзи), обернутого вокруг стана, (пояса) оби, потом кимоно. Пока хозяйка одевается, прислуга ее уже вымела перышком пыль, поставила на хибачи маленький котелок с горячей водой и заварила чай, согрела какую-нибудь рыбу (тай или семгу). Затем начинается дневная жизнь. Женщины занимаются рукоделием, игрою на самсине, болтовней с соседками, чтением газет; мужчины — делами и возвращаются домой к вечеру. К тому времени в каждом приличном доме приготовляется ванна. Если есть гость в доме, то он идет туда первый, после него хозяин, а затем по порядку жена и кончает уже прислуга. Как же это, скажут, все купаются в одной и той же воде? Да, это так, но дело в том, что японцы не моются мылом, а скребут себя пемзой и, вылив на себя ушат воды, входят только на минутку в ванну. Но при всем этом купаться после других не особенно приятно, и когда бываешь в гостинице, то надо всегда спросить, не пользовался ли уже кто-нибудь ванной. В настоящее время я был первый, и чистота в ванне была необычайная. Все устройство поражает своим изяществом; но ванной я все-таки воспользоваться не мог и, после первой попытки, выскочил оттуда как ошпаренный. После ванны мужчины облекаются в юката (купальный халат) и садятся за обед. Вместо японского обеда на циновке вышло на этот раз ни то ни сё… Хозяин велел притащить стол, стулья, а повар мой приготовил европейской обед, вероятно, к большой досаде хозяйки дома, которая не любит такого беспорядка. Хлопот мы наделали пропасть, нарушив гармонию японской жизни, но делать было нечего, и так как все это случилось без моего ведома, то пришлось подчиниться, и мы все вместе стали обедать, пробуя вперемежку японские и европейские кушанья и запивая все это саке и европейскими винами. Хозяин мой также был в японской юката. Он пригласил нескольких своих сослуживцев, и вскоре между японцами началась очень оживленная беседа. Мой чичероне чувствовал себя как рыба в воде и болтал без умолка. В десять часов я распростился с любезным хозяином и пошел спать, но хозяин и гости его еще долго болтали. В остальной части дома тоже собирались на покой. В это время в комнату обыкновенно вносят два фтона (две перины), вместо постели, и один фтон с рукавами, вместо одеяла. Подушек у японцев нет, а есть деревянная макура, похожая на скамейку, на которую японка кладет шею и в такой неудобной позе спит. Интересно то, что японская макура, по рисунку, очень похожа на египетскую подушку, как она сохранилась на древних египетских памятниках. На ночь женщина надевает джибан (род рубашки) и креповое или шелковое кимоно. Оби распущен и дневное платье снято очень скоро. Когда гости уйдут, то прислуга задвигает везде деревянные ставни, идущие вокруг всего дома, и закрепляет их болтами, а затем весь дом погружается в сон. * * *Я только чтоговорил ояпонских гостиницах; их несколько, и все они расположены на берегу, недалеко от храма. Летом он посещается заезжими туристами, но настоящая жизнь начинается около 3-го августа, когда в Чюзендзи являются тысячипаломников. Тогда все гостиницы полнехоньки; но, кроме того, для паломников открываются громадные сараи, которые в другое время стоят заколоченными. Эти сараи принадлежат храму, который получает от паломников известную платуза восхождение на священную гору Нантай-сан. В эти дни вереницы паломников тянутся непрерывной чередой от Никко до Чюзендзи. Обыкновенно паломники одеты в белый, сшитый из грубого холста или из простых мешков, костюм, который так и не переменяется во все время паломничества. Впрочем, в каждой гостинице к услугам постояльцев всегда имеется чистый юката или халат, в который облачаются японцы после ванны. У каждого паломника на голове соломенная шляпа, стоящая несколько сенов, и на плечах соломенная циновка. В руках длинная палка с длинными полосками бумаги (гохей) и гонг или колокольчик, которым он звонит, призывая имя Будды. На ногах обычные сандалии из соломы или варадзи — самая удобная обувь для восхождения на горы. В каждой лавчонке или чайном доме паломник может купить новую пару варадзи и идти дальше. Вот почему, когда начинается паломничество, вся дорога из Никко в Чюзендзи усеяна сотнями этих сандалий. Багаж у паломника — ящик в виде буддийской молельни, в котором помещаются одежда и пища. Кроме того, каждый пилигрим имеет книгу, в которой, по прибытии на место паломничества, местный жрец делает надпись и прикладывает печать. В таком виде японцы делают легко сотни верст и не чувствуют неудобств и усталости. Между паломниками можно встретить людей богатых и принадлежащих к высшим классам общества, но во время паломничества по внешнему облику вы не отличите их от других беднейших сотоварищей. Паломничества бывают самые разнообразные. Есть короткие, как, например, посещение 33 храмов Кваннон, богини милости, или 88 храмов Кободайси, буддийского святого, основателя секты Сингон и изобретателя японского письма хирагана и ироха. Но это ничто в сравнении с Сейгадзи — паломничеством в тысячи храмов, принадлежащих секте Ничирен. В течение трех дней в августе паломничество доходит до своего апогея, и гостиницы зарабатывают громадные деньги. Мне с большим трудом удалось отвоевать себе маленькой угол за три доллара в сутки, и хозяин считал, что он сделал мне большое одолжение. И он был прав, потому что он в эти дни в каждую комнату пускал по 30 или 40 паломников, плативших ему хотя немного — от 30 до 40 центов, но эти гости были куда выгоднее заезжего иностранца. Вечером, когда я возвращался в свою гостиницу, вся площадь белела народом. Не нашедшие приюта в гостиницах поместились лагерем на площади или в так называемых кичиньядо (дома или сараи для паломников, в которых они платят только за дрова, нужные для варки пищи). Благодаря этим кичиньядо каждый даже самый бедный земледелец имеет возможность на месяц отлучиться из дома и постранствовать по Японии, и в то время, когда растущий рис не требует особенных забот, тысячи отправляются в странствие. Площадь была освещена тысячами фонарей, факелами и кострами. Рядом с гостиницами, точно грибы, выросли японские лавчонки, торгующие разной снедью. Для увеселения паломников явились сказочники, марионетки, диорамы и передвижные театры. Добраться до своей крохотной комнаты было дело не легкое. Весь нижний этаж, все коридоры были завалены телами, т. е. спящими паломниками. Нужна была особая осмотрительность, чтобы не наступить кому-нибудь на голову. Но не все спали. Одни, во втором этаже, уже готовились к восхождению на священную гору и перед этим подкрепляли себя едой и саке — рисовой водкой. Другие целыми десятками купались в студеных водах озера (не забудьте, что это было в полночь). Купание сопровождалось криками, песнями и завываниями, как будто купавшихся жарили на медленном огне. Вы можете представить себе, какой хаос царствовал в гостинице, в которой не существует настоящих европейских стен, отделяющих одну комнату от другой, а лишь задвижные стены из бумаги. Хозяин и хозяйка с бесчисленными поклонами извинялись за причиненное беспокойство. О сне, конечно, нечего было думать, но вся картина была настолько интересна, что я спокойно ждал ухода пилигримов на гору. Но вот они готовы; с посохами и факелом в руке они двинулись к храму, где уже заранее взят билет и заплачена известная сумма за право восхождения на гору. Массивные ворота храма открываются настежь, и вся толпа с громкими песнями двинулась в гору. По прошествии некоторого времени вся гора снизу до самой вершины была точно перевита непрерывною лентой огней. Дойдя до вершины, паломники дожидаются восхода солнца, молятся и потом возвращаются домой. После ухода паломников, в два часа ночи, в гостинице водворяется тишина до 5 или 7 часов, когда паломники возвращаются и закусывают пред отправлением в обратный путь. Утром, когда я вышел из своей комнаты, все уже было чисто. Варадзи были все сграблены в кучу и преданы сожжению, полы вычищены и блестели, точно новые, и вы не подумали бы, что тут ночевали сотни людей. * * *Простившись с губернатором, мы посетили квартал куртизанок, который находится за городом. Проехав малолюдные и темные кварталы и переехав темный мост, мы очутились в другом городе, окруженном высокими стенами и рвами и среди целого моря света. Все чайные дома (некоторые в пять этажей), гостиницы и другие здания были освещены разными лампочками и фонарями, со всех сторон слышно было пение и японская музыка. Во многих из этих домов за решетками, точно птицы в клетках, сидели разодетые, сильно нарумяненные и набеленные, неподвижные женские фигуры. При виде веселой толпы мужчин и женщин и даже детей, осматривающих этих женщин с любопытством, никто не подумал бы, что это неприличный квартал, так все здесь прилично и только изредка видишь в воротах темную фигуру хозяина этого живого товара, расхваливающего его достоинства и торгующегося с покупателем. Большинство этих женщин (жоро) не считают постыдным свое ремесло. Отец не считает предосудительным отдать свою дочь с 12-ти лет в дом разврата и готовить из нее жоро или гейшу. Контракты заключается на три, пять, семь лет, и плата отцу бывает от 200 до 2000 иен или рублей, с обещанием содержать девицу и дать ей артистическое образование. Есть отцы, которые не стыдятся того, что отдали дочь в такое хорошее место, очень часто посещают ее и мирно беседуют с ней, когда она сидит за решеткой, а когда она возвращается в отчий дом, накопив приданое, она может сделать хорошую партию. Правда, японцы старого режима приходят в эти места, тщательно закрыв лицо, так как порядочному человеку неприлично показаться с открытым лицом в таких местах, где бывает всякой сброд. Изредка увидишь полицейского, который следит за благопристойностью публики, но это совершенно напрасно, так как самая неприличная японская публика всегда прилична в высшей степени. Как ни смотрите, вы нигде не увидите пьяных, циничных женщин, как в разных вертепах Европы. Везде тишина и образцовый порядок. Это довольно странно, потому что очень хорошо знаешь, что в этом квартале шатается много всякого сброда. Известное дело, что если японец совершил какую-нибудь крупную кражу, то он первым делом идет в квартал куртизанок и несколько дней проводит в кутеже. Полиция это очень хорошо знает, и если виновник какого-нибудь преступления еще не отыскан, то сыщик направляется первым делом в Ёсивару,[125] Нигонь-ге или Маруяма и там обыкновенно находит то, что нужно. 
Как ни презирают японцы этих женщин, но лучшего места, где можно провести весело время, они не знают. Мне случайно попался дневник одного пожилого японца, почтенного отца семейства, проехавшего для удовольствия сухим путем от Токио до Киото. И что вы думаете? Главная часть этого дневника была посвящена описанию впечатлений, испытанных в разных Ёсиварах. * * *Возьмите японца в его домашнем обиходе, и вы увидите, что он надевает европейское платье для канцелярии, для военной и морской службы, но свою домашнюю обстановку он и не думает менять ради Европы. Как только у него является возможность сбросить ненавистное европейское платье, он это делает с особенным наслаждением и садится на циновку по-японски на пятках. Многие из японцев, которые несколько лет провели в Европе и привыкли сидеть на стульях, признавались мне, что им было очень трудно опять привыкать к японской манере. Но что же делать? Это мелочь, но она связана со всею японскою обстановкою и, отбросив одно, надо сделать коренную перемену во всем — а этого японцы не хотят. Послушаем их доводы. Японский дом, который можно построить в две-три недели, открытый настежь днем, с чистыми циновками, без мебели, гораздо больше отвечает требованиям гигиены, чем европейское обиталище, загроможденное мебелью, безделушками, портьерами, гнездилищами разных микробов. А главное то, что жилище японца гораздо дешевле европейского. Японец вообще чувствует себя гораздо более независимым от всяких невзгод, чем европеец. Если он потеряет свое состояние, то это даже незаметно в его обиходе. Разве убавит число циновок на столько-то саженей. Вот и все. А жизнь бедного японца мало чем отличается от богатого. Конечно, есть оттенки, но они не так резки, как в Европе. Соберется японец в путь, за ним не тянется громоздкий багаж европейца. С котомкою или с ручными чемоданчиками он пускается в путь, зная, что все, что ему нужно, он найдет в дороге: ванну, чистое кимоно по выходе из ванны, обувь, которую он купит в каждой деревне за несколько копеек — это обстоятельство составляет также одно из преимуществ японского войска. Вот причины, отчего японец не пожертвовал своею домашнею обстановкою ради новых веяний. Богатые японцы делают еще уступку, устраивая во своем доме европейскую комнату или даже половину, но живут они все-таки в японской половине. Изменят ли они со временем свою обстановку на европейский лад? Я это не думаю. Теперь, под влиянием реакции в национальном духе, они даже подчеркивают свою привязанность к домашним обычаям. Я помню еще время, когда японские дамы считали нужным являться в декольте на разные балы, а теперь они все опять щеголяют в своих красивых японских костюмах. Вполне японскою тоже осталась архитектура. Если есть европейские здания, то только те, которые принадлежат европейцам, и некоторые правительственные здания. Облик японского города не изменился за последние 30 лет. Японец, как буддист, памятуя верно о том, что все преходяще, не строит, как европеец, здания, которые должны пережить века. 
Примечания:1 Поло Марко. «Книга» Марко Поло. М., 1956. Китайское название Японии — Жибэнь-го. 11 Провинциал — глава провинции, объединения ряда религиозных учреждений и их обитателей, принадлежащих ордену и подотчетных Главе ордена. 12 Додзюку — от яндосюку — «жить под одной крышей»: религиозное звание, принятое исключительно в японской иезуитской миссии, присваиваемое японцам-христианам, поступавшим на службу в орден на правах прислуги, помощников, и жившим под одной крышей со священниками. 114 Я. Я Стрейс. Три путешествия ОГИЗ — Соцэкгиз, 1935 Перевод с первого голландского издания 1673 г. 115 Путешествие по Японии, или описание Японской империи в физическом, географическом и историческом отношениях Ф. Зибольда, дополненное сведениями и известиями из Кемпфера, Фишера, Дефа, Шарльвуа, графа Гогендорпа, Крузенштерна, Тунберга, Титсинга, Варениуса и др. Пер. В. М. Строева. Издание А. А. Плюшара. СПб., 1854. 116 Из книги Н. Бартошевского «Япония (очерки из записок путешественника вокруг света). Взгляд на политическую и социальную жизнь народа». СПб., 1868. С. 33–46. 117 Япония и японцы. Путевые очерки современной Японии Д. И. Шрейдера. СПб., 1895. 118 Трепанги — это длинные черви толщиною в полпальца; они считаются большим лакомством у японцев, как и у китайцев; даже некоторым русским путешественникам они напоминают по своему вкусу нечто среднее между мармеладом и икрой. Мне, однако же, стало дурно, когда я попробовал трепанга. 119 Нет, это уже лучше! А то как приеду домой и жена увидит вот ту чертовщину, — он указал на дракона, — то непременно удерет; да, может быть, и общество не примет: скажут — «сам чертом сделался, когда с нечистым связался». 120 Т. е.: один доллар (мексиканский). 121 Японцы не отличаются большой страстью к посещению судебных заседаний. Посетителями их являются, по большей части, репортеры местных газет. 122 Благодаря этому, если по склону горы устроено много участков, то они имеют вид оригинальных ступней, — террасообразно расположенных, залитых водой и окаймленных цветами и зеленью. 123 В данном случае Д. И. Шрейдер очень сильно преувеличил аграрный потенциал Японского архипелага, где даже два урожая снимают лишь на части земель. (Прим. составителя) 124 В Стране восходящего солнца. Очерки и заметки о Японии Григория де Воллана. Второе, испр. и доп. издание. СПб. и Москва, 1906. 125 Иностранцы ошибочно называют эти кварталы Ёсиварою. Так назван только квартал куртизанок в Токио, а в других городах он носит другое название (в Кумамото — Нигон-ге, в Нагасаки — Маруяма и т д.) |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
